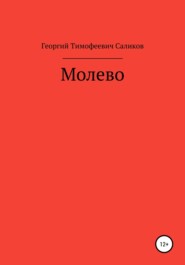По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Девочка и Дорифор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Папа, это погода сегодня особая, – девочка по-прежнему не принуждала себя вникать в смысл папиных размышлений. – Давление меняется. Атмосферное. Или вообще магнитная буря.
– Буря, говоришь? – папа взглянул на толстую и шумную струю воды из-под крана. – Ты краник-то прикрой, а то вон, циклоны бурлят в раковине.
Дочка покрутила колёсико крана, и струйка воды сделалась тонкой, с пунктиром перед полным пропаданием в остатке водоворота. Затем, вместе с исчезновением слоя воды, раздался звук вроде смачного поцелуя, и тихонько задребезжала дробь от ударов капель о металл.
– Извини, – сказала она.
– Давай-ка я тоже картошку почищу, – решился папа и засучил рукава.
– Только старайся, у тебя ещё есть перспектива, – пошутила дочка.
И оба рассмеялись.
Тут и время подошло, пробил наш час. Мы теперь же, наконец, припомним художнику Далю, Касьяну Иннокентьевичу и папе, а также «изобразителю», – одну-две из невостребованных страниц его биографии, где отчётливо прорисованы случаи, для него неприятные. Эпизодики. Впрочем, решились мы не из-за того, что именно теперь возникла охота непременно испортить ему хорошее настроение. Нет. Просто, более некуда нам вставиться поудобнее. Время-то идёт, а мы никак не можем выполнить обещанного. Пока наши герои смеются, мы изловчимся и вставимся.
Но папа смеяться перестал, и начал вспоминать о чём-то ещё более хорошем, чем сиюминутная радость, приятно улыбаясь и блистая глазами. Он воображением своим вызывал из памяти других давнишних приятелей. Одного за другим. Тех, с кем недавно встречался, тех, кого не видел давно и сожалел о том, и тех, кто уже вообще ушли из жизни, но оставались для него живущими и ныне. Вскоре перед ним выстроилась обширная галерея легко узнаваемых дружеских портретов. Касьян Иннокентьевич мысленно разглядывал каждое лицо и беззвучно хмыкал с удовлетворением.
– Да, забыла сказать, – девочка вскинула брови, – опять звонила тётя Люба, и снова тебя не застала. Зато наговорила мне целую кучу новых и старых изысков из примеров поведения друзей, незнакомых мне, из примеров героев художественной литературы, которую я не читала, да из примеров собственным умом созданной сравнительной социологии. Непонятной. Ну, там вроде бы собрана почти складная система наблюдения за всеобщей человеческой областью несправедливости. Так и сказала: «область несправедливости». Больше часа говорила. Но ничего не велела тебе передавать.
– Угу, – носом озвучил мысль папа. Тётя Люба тоже была приятельницей. А также коллегой в области произведений изобразительного искусства. Вернее, больше по тканям, да ещё и по дизайнерским делам, но и картины поделывала. По большей части – лесные пейзажи. Может быть, она – дама чересчур назойливая, но чрезвычайно добросердечная. Ей много до чего есть дела, и всюду успевает.
Выходит, мы ошиблись, определив этот час наиболее благоприятным для нашего встревания в его размышления. Ладно, пусть изобразитель Даль занимается добрым ворошением сокровищницы богатой памяти, где упрятаны лучшие события жизни. Нельзя нашим грубым вмешательством нарушать приятные посиделки милых людей. В иной раз. И мы одним пальчиком потеребили нижнюю губу.
Глава 8. Ещё встреча
Пожилой двойник античного шедевра изобразительного искусства, содеянного воспитанником Аргосской колыбели передовой культуры Средиземноморья, не стал далее укрощать бесконечность. Он вынул из-под стола толстую стопку чистой белой бумаги и положил перед собой. «Пока не испишу всю пачку, из дому не выйду», – подумал он, вряд ли доверяя такому опрометчивому обещанию.
А что тут у него предпринималось? Какое намечалось эдакое великое написание, не вмещающее потенциальную грандиозность? О ком? Или о чём? Трудно сказать. Пока лишь задумка есть, давно теплящаяся. Малая. Но дюже ёмкая. И подле неё давным-давно вертятся всякие приблизительные идейки. Будто бы пытаются они раскрутить эту задумку в тесной голове, наподобие гончарного круга. Только вот угадать формы никак не сподобятся. Задумка-то красивая. И здравая. Значит, и внешние проявления тоже должны быть нехилыми. Но сходу, прямиком красивую, пышущую здоровьем форму не угадать. Не сразу – тоже. Вот руки без указания центральной нервной системы что-то щиплют пальцами в воздухе да опускаются. А тут ещё на несчастную голову пало соседское присутствие, низошло оно всею длиной и обволокло чрезвычайной выразительностью. И, – к вертящимся там распрекрасным идеям подле маленького комка задумки, тем, что не могут остановиться на определённом выражении рвущегося к жизни шедевра, – добавилась мысль уже вовсе посторонняя. «Вообще-то, она крупная, но симпатичная. Тоже красивая, что и задумка, но в ней объём красоты весьма велик», – отвлёкся на выдающуюся соседку потенциальный сочинитель, прежде чем приступить к определению нового и даже новейшего, то ли научного, то ли поэтического труда. И развил мысль. «Редко рослые женщины бывают пригожими. Вы когда-нибудь встречали красавиц-баскетболисток»?
Не знаю, кого он пытал о красавицах из слоёв элитного спорта, но отвечу: нет, не встречал.
– То-то же, – вслух произнёс Дорифор и сунул нерабочий конец старомодной перьевой авторучки за щёку, создав на лице вулкан.
Его, по-видимому, уже увлекло пространное размышление об особенностях красоты, о формах её, причём большущих величин, которые непрестанно и неудержимо вырастали дальше, но особо не поддавались ни словесному, ни зрительному охвату. И сей рост поступательно продолжался да продолжался, заполняя все области ума, где ещё недавно, бойкие, но неосмысленные идейки, крутящиеся подле замечательной задумки, уже просто легонько тёрлись об неё туда-сюда, а затем и застопорили всякое движение. А вновь снисканное приумножение крупных форм ладного сложения, напротив, усиливалось и могло бы продлиться ещё и ещё. И ещё. Но до бесконечности дело не дошло. Немного оставалось, но не дотянулось. Потому-то не удалось испытать их степень близости-дальности путём сравнения моноскопического и стереоскопического разглядывания, чтобы лишний раз утвердиться в преимуществе стереоскопии как универсальном методе познания вообще.
Увлечение небывало значительными формами красоты остановилось из-за внешних помех. Это в наружную дверь снова позвонили. «Гости валом валят, – подумал наш потенциальный писатель сквозь мысли, объятые почти бесконечной красотой и, не выжидая повтора звонка, вышел отворять квартиру, – что-то с погодой сегодня, аномалия какая-нибудь».
– Минуточку, – прокричал он громко, чтоб там услышали, – я ключ найду, – и, пошарив в кармане пиджака, вынул искомый предмет.
В глубине коридора показалась и бело-черная баскетболистка с выжидающим взглядом.
Когда дверь отворилась, Дорифор увидел за порогом знакомое лицо. Знакомое, поскольку на сей раз, оно было узнано тотчас.
– Луговинов! Антон, дружище, – воскликнул Дорофей, – ну ты молодец. Удивил. Давай, давай, вперёд.
Антон, видом успешный господин, со свежевымытой головой и одетый в опрятный костюм серебристого цвета «от Кутюрье», прошёл вперёд, уверенно свернув из коридора в комнатку, нам известную, не преминув отвесить короткое «здрасьте» стоящей неподалёку женщине. Голову гость не задрал, а лишь высоко поднял веки: его вышина тоже заметно выделялась среди обычных горожан, но не в такой уж превосходной степени. Небольшой седой человек последовал за ним. Женщина уже скрылась за дверью, слегка приподняв плечи и брови.
– А знаешь, что интересно, – признался хозяин гостю, видать, непростому, – я ведь сегодня письма царапал, поцарапывал. Тебе, да ещё одному знакомому. Не дописал. Вообще только приступил, и то коряво. А потом сделал из них самолётики да отрядил на волю через окно. И вдруг – ни в сказке сказать, ни пером описать – вижу вас обоих. Представляешь? Сначала одного встретил: на улице. А теперь ты материализовался: у меня дома. Будто депеши доставились до адресатов без почтальонов. Долетели, и возымели волшебное действие.
– Угу. Значит, не аэропланы то были, а голуби, – Луговинов Антон Вельяминович явно стал красоваться собственной изобретательностью помимо внешней опрятности, – Ты ведь настоящую голубиную почту устроил, а она тебе и услужила. Умелец ты на все лады. Всегда был даровитым, насколько помню.
– Может быть, может быть, – умелец не стал возражать, – хе-хе. Но ты ведь без дела не приходишь. Одни дела занимают ум твой, и нет более никаких страстей.
– Конечно, дела. Конечно, – опрятный во всём гость подхватил согласительную манеру беседы. – А главное дело – не забыть подкрепиться, – Луговинов выставил вперёд руку с чемоданчиком.
Далее ловкими движениями он открыл его навесу и достал три штуки блестящих бутылочек, одну почти чёрную, другую почти белую, третью золотую с броскими этикетками, где чёткими буквами обозначены названия напитков: «Paulaner Salvator», «Paulaner Weissbier» и просто «Pilsner».
– Ну, у тебя и стол, – возгласил он, взглянув на книжки, бумаги и прочие предметы интеллектуальной жизни, в беспорядке перемежёванные со столярно-плотницкими инструментами, а также с чайником и чашками, – наинужнейшие вещи поставить некуда.
Хозяин сгрёб стопку белой бумаги без единой на ней буквы и закинул под стол. На вновь обретённой лужайке хватило места в самый раз для бутылочек.
– Ставь сюда.
– И закусочка имеется под рукой. Чтоб не ждать. Чтоб время не терять на готовку, – сказал гость, поставив бутылочки, и сразу вытащил из чемоданчика различные пакетики, опуская их, не глядя, на разваленную стопку книг. – Прямиком из солнечной и экологически чистой Баварии, из её столичного града Мюнхена, – говорил он, указывая пальцем почему-то вверх.
Его взгляд остановился на фарфоре.
– А пить, значит, из чашек будем? Или из блюдечка? – дружески поиздевался он.
– Можно из чашек. Достойное предложение. Незачем время зря тратить на поиски стаканов, а то вообще фужеров разных да фигуристых, – в тон гостю проговорил хозяин со смачным воркованием.
– Да, брат, нельзя зря изводить время. Драгоценнейшее наше достояние и состояние надо использовать с умом, – Луговинов, ловко, снова не глядя, вытряхнул из чашек остатки чая вбок от себя на почерневший от времени паркет, и тут же влил в них содержимое чёрной бутылки. «Paulaner Salvator» точно разошёлся поровну и почти до краёв, что он сразу оценил кратким взглядом, легонько сощуренным, – Давай, выпьем этот дупельбок за нашу встречу. За дупель. Пусть она будет приятной и продуктивной. Ты не против? – Не дожидаясь ответа, гость вскользь протёр фарфором по фарфору приятеля в области стилизованной виноградной кисти и немедля коснулся губами края посуды крупной формы.
Дорифор молча приставил чашку ко рту. И оба приятеля выпили синхронным манером. До дна.
– А дело простое, – говорил гость, наливая в чашки содержимое из второй бутылки, ещё более уверенно, – очень даже незатейливое. Ты это, разворачивай пакетики с закуской. Необязательно о нём напоминать и голову забивать. На высшую мировую премию выдвинули. Наши поддержали.
– Ну, да, обычное дело, – подтвердил на сегодня не состоявшийся писатель, распаковывая пищевые изделия солёненького вкуса и глядя в чашку, где в светло-золотистый «Paulaner Weissbier» со дна поднимаются чёрные волокна «Paulaner Salvator». Затем поднёс её к губам и сделал взгляд суровым, не позволяя проникновения туда попутной растерянности, – поедешь в Виртухец?
– Что? Хе, ну и словцо. Сам придумал? Да, да. Похоже, туда. Эко ты ловко обозвал то место, где присуждают премии. Что-то вроде древнескандинавского, да?
– Ага. Что-то вроде.
– Обычное дело, говоришь? – он глянул на суровое лицо Дорика, отмечая в нём что-то, действительно присущее древним германцам Севера, – Да, да. Но ты нужен мне, – затем он оценил облик третьей бутылочки, но разливать напиток не стал.
Глава 9. Драгоценности
Бог покрыл естество земли восхитительными одеждами. Разнотравье на лужайках и лугах, водные струи в ручьях и реках, кусты и деревья в подлесках и лесах, мелкие и большие холмы и горы, их разнообразные цепи, моря и океаны, перетекающие друг в друга, даже пустыни, тундры и ледники. И все созданные наряды Он украшает непревзойдённым великолепием цветов и плодов, которые с неизменным постоянством опадают, но впоследствии с обязательной устойчивостью появляются вновь.
Так Бог покрыл природу земли одеянием вечного рождения.
Покров божественной опеки представлен Богом весьма хрупким, легко ранимым и даже будто уничтожаемым. Он с готовностью пред вами рассыпается и пропадает. Но сила рождения никогда не покидает его. Потому что вечность немыслима без сущности рождения. Вечность и рождение – слова, означающие одну и ту же изначальную суть.
А человек добывает красоту из глубин земных недр, извлекает вечность из подземелий в виде ценного серебра и золота, ещё более ценных алмазов и прочих рубинов, эвклазов, изумрудов, шпинелей, корундов, сапфиров, и так далее, неподверженных изменениям во времени. Человек привык считать вечность всенепременно твёрдой, чтоб её ничто из вещей не одолело, и не тускнеющей, чтоб время не поглотило его. Всё абсолютно твёрдое и всё абсолютно не тускнеющее, – для него и есть вечное, то есть, чистота, утвердившееся навсегда. А главное – не просто чистое и твёрдое, но чрезвычайно заметное. Вечность в осознании человека должна быть особо заметной в любом окружении. Он признаёт абсолютно дорогими исключительно сверхзаметные предметы. И если таковые не освоены им, он готов сделать их из чего угодно другого. Добытые сверхзаметные драгоценности полагаются им гарантами уже и собственной вечности, тоже ничем не поверженной. Человек без устали заботится и заботится об утверждении и заметности превосходного положения среди существ, себе подобных. Уже безумные причуды придумывает он с целью жизнь свою сделать настолько твёрдой и чистой, чтобы самому стать подобным всякого рода извлечённым из земли драгоценностям, которые содержат в себе символы вечности. Таково человеческое видение.
Бог же и без того вечен, а строже сказать, и что окажется значительно более того, – Он Творец вечности, потому-то не нуждается ни в твёрдости для защиты, ни в заметности для самовыражения. Всякое утверждение и самовыражение кому-то необходимо лишь для противостояния, для борьбы. Бог же никому не противостоит, ни с кем не борется. Божественному творчеству твёрдость чужда. Поэтому красота Его видом именно хрупка и полностью беззащитна перед любым прикосновением. И тут, всяк безумный храбрец способен не только прикоснуться, но совершенно начисто обрубить её ростки.
Человек, тот безумный храбрец, постоянно посягает на красоту Бога. Он соперничает с Его главным творением. А в пылу ревностной страсти – уничтожает её под корень. А поверженная красота – с непреложной готовностью тускнеет, увядает и затем исчезает в глазах человека.