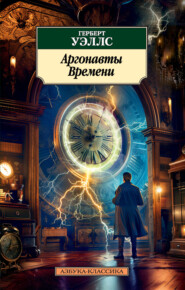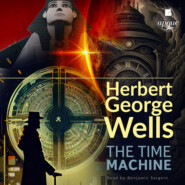По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Война в воздухе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушайте сюда, ребятки, – заявил он, пока помощник запирал замок ангара. – Я до смерти устал, и зад у меня болит, как после седла. Мне сейчас не до выступлений: слишком вымотался. Моя фамилия – Баттеридж. Бат-те-ридж. Зарубите себе на носу. Я гражданин Британской империи. Отложим разговор до завтра.
И все-таки эпохальное событие удалось запечатлеть на паре расплывчатых снимков: вот помощник Баттериджа пробивается через наседающую толпу вооруженных блокнотами и фотокамерами молодых людей в котелках и крикливых галстуках, вот сам Баттеридж на пороге ангара – здоровяк с открытым, искаженным в крике на приставучих прислужников гласности ртом под густыми черными усами. Настоящая глыба, а теперь еще и самый знаменитый человек страны. В левой руке, как символ громкой славы, он держал мегафон.
6
Том и Берт Смоллуэйсы смотрели на возвращение аэроплана с гребня холма Бан-Хилл, откуда прежде нередко наблюдали за огнями Хрустального дворца. Берт пребывал в восторге, Том сохранял туповатое спокойствие, однако оба не подозревали, насколько глубоко плоды этого начинания проникнут в их собственную жизнь.
– Может, теперь старина Грабб больше будет заниматься магазином, – проронил Берт, – и сунет свою хваленую модель в печку. Правда, нас это не спасет, если мы не возместим ущерб Стейнхарту.
Берт был достаточно наслышан о проблемах воздушных полетов, чтобы сразу понять: эта пародия на пчелу вызовет у газет, говоря его словами, истерику. На следующий день истерика случилась точно по расписанию: страницы журнальных приложений чернели от поспешно сделанных снимков, текст трясло как в лихорадке, заголовки давились идущей изо рта пеной. На следующий день все стало только хуже. К концу недели газеты не столько публиковали новости, сколько орали во весь голос.
Главной темой, вокруг которой разгорелся ажиотаж, выступала выдающаяся личность мистера Баттериджа и неслыханные требования, которые он выдвинул в обмен на передачу тайны своего изобретения.
Ибо это действительно была тайна, и он тщательно ее лелеял. Баттеридж своими руками построил летательный аппарат в надежном укрытии ангаров Хрустального дворца, с помощью безразличных рабочих на следующий день после полета собственноручно разобрал его на части, кое-что спрятал, а остальное поручил неграмотным рабочим упаковать и куда-то отправить. Запечатанные ящики разошлись по мастерским на севере, востоке и западе страны. Части двигателя были упакованы с особой тщательностью. Вскоре стало ясно, что предосторожности были отнюдь не лишними: на фотографии и зарисовки аэроплана Баттериджа возник просто бешеный спрос. Однако он, однажды показав свое детище, берег секрет как зеницу ока. Изобретатель поставил вопрос ребром: желает ли страна знать секрет или нет? Он не уставал подчеркивать, что является гражданином Британской империи и мечтает лишь об одном: чтобы его детище исключительно и безраздельно принадлежало ей одной. Но только…
Дальше начинались затруднения.
Мистер Баттеридж, как выяснилось, был человеком, напрочь лишенным ложной скромности, да и неложной тоже. Он охотно давал интервью и отвечал на вопросы, правда, исключительно на темы, не связанные с воздухоплаванием, делился мнениями, критиковал, рассказывал о себе, позировал для фотографий и портретов – короче, всячески поддерживал интерес к собственной персоне на земном небосклоне. Опубликованные портреты подчеркивали в первую очередь могучие усы Баттериджа, а во вторую – свирепость характера, которая за ними скрывалась. Сложилось всеобщее мнение, что он мал ростом. Ни один крупный мужчина, считала молва, не мог иметь столь воинственного выражения лица, хотя в действительности рост Баттериджа составлял шесть футов и два дюйма при соответствующем весе. Более того, он крутил любовную связь такого вопиющего масштаба и в таких безнравственных обстоятельствах, что в целом чинная британская публика засомневалась и встревожилась, опасаясь, что попустительство в отношении этой интрижки, по-видимому, является неотъемлемым условием монопольного приобретения Британской империей секрета надежных воздушных полетов. Точных подробностей никто не знал, но дама сердца Баттериджа, как сообщалось, в порыве неосторожного благородства вышла замуж за – я цитирую одно из неопубликованных высказываний мистера Баттериджа – «дохлого хорька», и сей зоологический парадокс отравил ее благополучное положение в обществе с помощью юридического крючкотворства. Баттеридж с жаром говорил на эту тему, желая показать, сколь безупречно эта дама вела себя в сложных обстоятельствах. Пресса, всегда предпочитавшая определенную недоговоренность, попала в крайне неудобное положение: ее, конечно, интересовали подробности интимного свойства, коих требовали современные нравы, но не настолько же! Иметь дело с открытым нараспашку в порыве добровольной вивисекции сердцем Баттериджа и его пульсирующими ответвлениями, украшенными флажками патриотизма, было воистину щекотливой задачей.
Бедным журналистам приходилось терпеть. Баттеридж регулярно обнажал перед ними свой неистово бьющийся, наводящий оторопь орган. Большего зануду трудно было сыскать. Он с ходу отметал все попытки уклонения. Его, как он утверждал под запись, «оправдывала любовь».
– Но ведь это дело личного свойства, мистер Баттеридж, – возражали журналисты.
– Несправедливость, сэр, дело общественное. Мне без разницы, кому противостоять: учреждениям или отдельным лицам. Да хоть бы и всей вселенной! Я вступаюсь за женщину, которую люблю, сэр, женщину благородную и непонятую. И я намерен отстаивать ее честь перед всем светом, сэр!
– Я люблю Англию, – говорил он в другой раз. – Но пуританизм, сэр, ненавижу. Он переполняет меня отвращением. Меня от него тошнит. Взять хотя бы мой случай.
Баттеридж постоянно твердил о сердечных делах и требовал показывать ему тексты интервью перед опубликованием. Если случалось, что его любовное мычание не находило должного отражения, он не успокаивался, пока крупными, аляповатыми каракулями не вписывал пропущенное и еще кое-что в придачу.
Британская пресса пребывала в странном смущении: она никогда еще не сталкивалась со столь банальным и неинтересным романом. Мир никогда еще не воспринимал историю сумасбродной любви с меньшей охотой и симпатией. С другой стороны, изобретение мистера Баттериджа вызывало острейшее любопытство. Но в те редкие моменты, когда его удавалось отвлечь от защиты чести дамы сердца, он главным образом говорил со слезами на глазах и дрожью в голосе о своей мамочке и детстве. Мать всегда представала в его рассказах целой энциклопедией материнской добродетели по единственной причине: она была «почти шотландкой». Не совсем, но почти.
– Всем в себе я обязан матери, – уверял Баттеридж, – всем. Эх! Спросите любого человека, кто чего-то достиг, он вам скажет то же самое. Мы всем обязаны женщинам. Вот кто настоящий род человеческий, сэр. Мужчина – это не более чем морок. Придет и уйдет. Вперед нас увлекает только душа женщины!
И так без конца.
Что именно он хотел получить за свой секрет от государства и на что надеялся в таком деле, помимо денежного вознаграждения, открыто не обсуждалось. У непредвзятого наблюдателя складывалось впечатление, что Баттеридж вовсе не добивался какой-то награды, а пользовался уникальной возможностью, чтобы покричать о себе и покрасоваться у всех на виду. Поползли слухи, что он не тот, за кого себя выдает, что на самом деле он владелец захудалой гостиницы в Кейптауне, месте проведения секретных опытов, и украл чертежи у чрезвычайно нелюдимого, застенчивого изобретателя по имени Паллизер, приехавшего из Англии в Южную Африку с прогрессирующей чахоткой, где и умер. Так, во всяком случае, утверждала более прямолинейная американская пресса. Однако ни доказательств, ни опровержений истории публика не увидела.
Кроме того, мистер Баттеридж азартно влез в целый клубок разбирательств по поводу большого количества ценных денежных призов. Некоторые из них были учреждены за успешный полет на механической тяге еще в 1906 году. К моменту триумфа мистера Баттериджа немалое количество газет, соблазнившись беспомощностью первопроходцев воздуха, обязались выплатить в некоторых случая весьма солидные суммы первому, кто пролетит от Манчестера до Глазго, из Лондона в Манчестер, первые сто миль, двести миль по Англии и так далее. Некоторые прикрылись хитрыми отговорками и теперь артачились. Одна или две заплатили без возражений и усиленно напирали на этот факт. Мистер Баттеридж ввязался в судебные тяжбы с наиболее строптивыми из газет, в то же время неустанно продолжая горячую агитацию и ходатайства за то, чтобы правительство наконец выкупило его изобретение.
Однако несмотря на все перипетии внебрачной интриги, абсурдную увлеченность любовными делами, политические маневры, характер, несмотря на все крики и бахвальство, Баттеридж – и это все знали – оставался единственным владельцем секрета работающего аэроплана, который, как ни крути, представлял собой ключ к созданию будущей мировой империи. Увы, вскоре, к великому огорчению множества людей, в том числе Берта Смоллуэйса, стало ясно, что переговоры о приобретении драгоценного секрета британским правительством, если они вообще велись, находятся на грани срыва. Первым всеобщую тревогу объявила лондонская «Дейли реквием», опубликовав интервью под зловещим заголовком «Мистер Баттеридж разоткровенничался».
Изобретатель, если он таковым действительно являлся, в очередной раз излил душу.
«Я приехал с другого конца света, – сообщал он, как бы подтверждая правдивость кейптаунской истории, – привез родине секрет, который способен сделать ее владычицей мира. И какой прием я встретил? Престарелые вельможи воротят от меня нос! А мою любимую женщину третируют как прокаженную!»
«Я гражданин Британской империи, – продолжал громыхать он, добавив эту часть интервью от руки, – но и у сердца есть предел! На свете есть страны помоложе и поживее! Страны, не храпящие, булькая горлом, в пароксизме изобилия на ложе формализма и волокиты! Страны, которые не отринут идею мировой империи ради того, чтобы насолить незнакомому человеку и оскорбить благородную женщину, на чьей обуви они недостойны расстегивать крючки. Есть страны, не закрывающие глаза перед светом науки, не отдавшие себя во власть изнеженной снобократии, дегенератов и декадентов. Короче, попомните мои слова: есть другие страны!»
Эта речь произвела на Берта Смоллуэйса глубочайшее впечатление.
– Если секрет узна2ют немцы или американцы, – многозначительно сказал он брату, – Британской империи каюк. Ка-юк. Английский флаг, как говорится, будет стоить не дороже бумаги, из которой сделан.
– Ты бы не мог нам немного помочь сегодня утром? – прервала Джессика глубокомысленную паузу. – В Бан-Хилле вдруг всем позарез понадобилась ранняя картошка. Том в одиночку не справится.
– Мы живем на вулкане, – продолжал Берт, пропустив вопрос мимо ушей. – В любой момент может грянуть война. И какая война!
Берт зловеще покачал головой.
– Том, отнеси сначала вот это, – сказала Джессика и резко повернулась к Берту. – Так ты нам поможешь или нет?
– Пожалуй. У нас в магазине с самого утра не было ни души. Вот только угроза империи очень уж меня тревожит.
– Поработаешь – голова сама собой очистится, – пообещала Джессика.
И Берт отправился в мир перемен и чудес, согнувшись под бременем картошки и патриотической тревоги за отечество. Постепенно ощущение тяжести превратилось в раздражение на неудобный груз и ярко выраженную антипатию к Джессике.
Глава II. Как у Берта Смоллуэйса начались затруднения
1
Ни Берту, ни Тому Смоллуэйсу и в голову не могло прийти, что удивительный спектакль, устроенный мистером Баттериджем в небесах, как-то повлияет на их судьбу и отделит их от миллионов соотечественников. Проследив с холма Бан-Хилл, как похожий на муху аппарат с вращающимися плоскостями, сияющий золотом на фоне заката, с жужжанием въезжает в ангар, они вернулись к лавке зеленщика, ютящейся под гигантской железной опорой монорельса линии Лондон – Брайтон, и возобновили разговор, прерванный триумфальным появлением мистера Баттериджа из лондонского смога.
Беседа протекала туго и безуспешно. Фразы приходилось выкрикивать из-за стонов и шума гироскопических автомобилей на Хай-стрит. Разговор шел по душам и на повышенных тонах. Для лавки Грабба наступили тяжелые времена, и хозяин в порыве финансового красноречия всучил половинную долю на магазин Берту, чьи отношения с работодателем уже некоторое время обходились без заработной платы и сохранялись на чисто приятельской, неформальной основе.
Берт пытался убедить Тома, что реформированное предприятие «Грабб и Смоллуэйс» открывает беспрецедентные, уникальные горизонты перед малыми инвесторами вроде него. Том проявил абсолютную невосприимчивость к бизнес-идеям, что стало для Берта некоторой неожиданностью. В конце концов, махнув рукой на финансовые перспективы, он воззвал к братской любви и сумел под честное слово одолжить у Тома соверен.
Бывшей фирме Грабба, ставшей фирмой «Грабб и Смоллуэйс», страшно не везло весь последний год, а то и дольше. Компания несколько последних лет едва сводила концы с концами, сохраняя налет романтической непредсказуемости, и занимала маленький магазин на Хай-стрит, украшенный крикливой рекламой велосипедов, выставкой звонков, брючных прищепок, масленок, насосов, сумочек для рам, футляров и прочих аксессуаров, объявлениями вроде «Прокат велосипедов», «Ремонт», «Бесплатное накачивание шин», «Бензин» и тому подобными вещами. Грабб и Берт были агентами нескольких малоизвестных велосипедных компаний, товарный запас магазина ограничивался двумя экземплярами, и время от времени им удавалось продать новый велосипед. Они также чинили проколотые шины и старались, хоть и не всегда удачно, ремонтировать все, что им принесут. Компаньоны также продавали линейку дешевых граммофонов и музыкальных шкатулок.
Однако главный стержень предприятия составлял прокат велосипедов. Это экзотическое занятие не подчинялось коммерческим или экономическим принципам, да и каким-либо принципам вообще. Для проката имелся запас женских и мужских велосипедов – неописуемый хлам, который они сдавали невзыскательным, легкомысленным клиентам, раззявам и простофилям, по номинальной ставке в один шиллинг за первый час пробега и шесть пенсов за каждый последующий час. В действительности, однако, никаких твердых цен не существовало, и мальчишки понастойчивее могли сторговать велосипед на час в комплекте с восторгом от рискованной езды за смехотворные три пенса, если только могли убедить Грабба, что это их последние деньги. Грабб кое-как регулировал седло и руль, получал от клиента, кроме тех, с кем был знаком лично, залог, капал масла и отправлял авантюриста на встречу с судьбой. Чаще всего любитель или любительница прокатиться возвращались сами, но иногда, в случае серьезной поломки, Берту или Граббу приходилось ехать и доставлять велосипед в мастерскую. Плата за прокат начислялась до возвращения инвентаря в магазин и высчитывалась из залога. Велосипеды редко покидали лавку в идеальном состоянии. Романтика подстерегала в виде болта регулятора седла со сбитой резьбой, ненадежных педалей, провисающей цепи, разболтанных креплений руля, но главным образом – тормозов и шин. Давя на педали, бесстрашный ездок извлекал из механизма постукивания, позвякивания и подозрительные ритмичные скрипы. Потом заедало звонок, или на склоне отказывали тормоза, или проваливалась стойка седла, отчего оно неожиданно для седока соскальзывало на три-четыре дюйма вниз, или разболтанную цепь заклинивало на шестерне, когда велосипед летел под гору, вызывая аварийную остановку, сопряженную с полетом водителя через руль, а иногда с громким хлопком либо с тихим шипением испускало дух колесо.
Когда клиент, превратившийся в озлобленного пешехода, возвращался в мастерскую, Грабб пропускал все жалобы мимо ушей и угрюмо осматривал велосипед.
– Кто же так ездит? – для начала говорил он, после чего мягко приводил доводы рассудка: – Вы думаете, велосипед возьмет вас на ручки и понесет сам? Надо же мозгами шевелить! Это как-никак механизм.
Подчас процесс удовлетворения жалоб требовал немалого красноречия, граничил с рукоприкладством и порядком изматывал нервы; впрочем, в те прогрессивные времена, чтобы заработать на жизнь, иногда приходилось пошуметь. Дело вообще требовало больших усилий, но все-таки прокат давал постоянный доход, пока однажды все стекла в витрине и дверях не разбили, а товар на витрине не повредили и не раскидали два чересчур критично настроенных, презревших риторику клиента. Ими оказались два дюжих, неотесанных кочегара из Грейвзенда. Одному не понравилось, что у него на ходу отвалилась левая педаль, второму – что спустила шина. И то и другое по стандартам Бан-Хилла было мелким, пустячным происшествием, вызванным исключительно грубым обращением клиентов с вверенным им деликатным имуществом. Кочегары наотрез отказывались видеть несостоятельность своих методов решения споров. Разве можно убедить хозяина проката в том, что он выдал негодный велосипед, швырянием насоса внутри мастерской или целой пригоршни звонков в ее витрину? Грабба и Берта такие методы не убедили и вызвали у них лишь раздражение и досаду. Пришла беда – отворяй ворота: неприятный инцидент привел к бурной разборке Грабба с хозяином арендованного помещения по вопросу о нравственных аспектах его поведения и юридической ответственности за восстановление выбитых стекол. В итоге Граббу и Смоллуэйсу пришлось возместить убыток и под покровом ночи предпринять стратегический отход на новые позиции.
Об этих позициях они подумывали не первый день. Запасным вариантом была маленькая, похожая на сарай мастерская с витриной из прессованного стекла и всего одним помещением, расположенная на крутом повороте дороги у подножия холма Бан-Хилл. Там друзья продолжали мужественно терпеть нужду, отбиваясь от назойливого домогательства изгнавшего их домовладельца, надеясь на удачу, которую должно было принести необычное расположение лавки. Увы, здесь их тоже подстерегало разочарование.
Шоссе из Лондона в Брайтон, пролегавшее через Бан-Хилл, подобно Британской империи или английской конституции приобрело свою важность постепенно, начиная с пустяков. В отличие от дорог в Европе, английские шоссе никогда не подвергались организованным попыткам их выровнять или выпрямить, чем объясняется их особая живописность. Старая Хай-стрит Бан-Хилла в самом конце спускалась на восемьдесят или сто футов под углом в семьдесят градусов, поворачивала под прямым углом направо, описывала дугу в тридцать ярдов до кирпичного моста, перекинутого через пересохшую канаву, некогда служившую руслом Оттерберна, затем резко поворачивала еще раз направо мимо густой рощицы и только тогда продолжалась как обычное, прямое, дружелюбное шоссе. Еще до того, как новая мастерская Берта и Грабба была оборудована, рядом с ней произошло две аварии – с конным фургоном и велосипедистом, и, если говорить честно, оба компаньона надеялись, что за ними последуют новые.
Поначалу такая вероятность обсуждалась в шутливых тонах.
– Идеальное место, где можно неплохо заработать на курах, бегающих через дорогу, – поделился мыслью Грабб.
– На курах не разбогатеешь.
– Заведем кур, пусть их давят, а водители будут платить.
Переехав на новое место, приятели вспомнили этот разговор. О курах, однако, не могло быть и речи, для них не оставалось места, если только не устраивать курятник прямо в мастерской. Вдобавок магазин с витриной из прессованного стекла выглядел современнее прежнего.
И все-таки эпохальное событие удалось запечатлеть на паре расплывчатых снимков: вот помощник Баттериджа пробивается через наседающую толпу вооруженных блокнотами и фотокамерами молодых людей в котелках и крикливых галстуках, вот сам Баттеридж на пороге ангара – здоровяк с открытым, искаженным в крике на приставучих прислужников гласности ртом под густыми черными усами. Настоящая глыба, а теперь еще и самый знаменитый человек страны. В левой руке, как символ громкой славы, он держал мегафон.
6
Том и Берт Смоллуэйсы смотрели на возвращение аэроплана с гребня холма Бан-Хилл, откуда прежде нередко наблюдали за огнями Хрустального дворца. Берт пребывал в восторге, Том сохранял туповатое спокойствие, однако оба не подозревали, насколько глубоко плоды этого начинания проникнут в их собственную жизнь.
– Может, теперь старина Грабб больше будет заниматься магазином, – проронил Берт, – и сунет свою хваленую модель в печку. Правда, нас это не спасет, если мы не возместим ущерб Стейнхарту.
Берт был достаточно наслышан о проблемах воздушных полетов, чтобы сразу понять: эта пародия на пчелу вызовет у газет, говоря его словами, истерику. На следующий день истерика случилась точно по расписанию: страницы журнальных приложений чернели от поспешно сделанных снимков, текст трясло как в лихорадке, заголовки давились идущей изо рта пеной. На следующий день все стало только хуже. К концу недели газеты не столько публиковали новости, сколько орали во весь голос.
Главной темой, вокруг которой разгорелся ажиотаж, выступала выдающаяся личность мистера Баттериджа и неслыханные требования, которые он выдвинул в обмен на передачу тайны своего изобретения.
Ибо это действительно была тайна, и он тщательно ее лелеял. Баттеридж своими руками построил летательный аппарат в надежном укрытии ангаров Хрустального дворца, с помощью безразличных рабочих на следующий день после полета собственноручно разобрал его на части, кое-что спрятал, а остальное поручил неграмотным рабочим упаковать и куда-то отправить. Запечатанные ящики разошлись по мастерским на севере, востоке и западе страны. Части двигателя были упакованы с особой тщательностью. Вскоре стало ясно, что предосторожности были отнюдь не лишними: на фотографии и зарисовки аэроплана Баттериджа возник просто бешеный спрос. Однако он, однажды показав свое детище, берег секрет как зеницу ока. Изобретатель поставил вопрос ребром: желает ли страна знать секрет или нет? Он не уставал подчеркивать, что является гражданином Британской империи и мечтает лишь об одном: чтобы его детище исключительно и безраздельно принадлежало ей одной. Но только…
Дальше начинались затруднения.
Мистер Баттеридж, как выяснилось, был человеком, напрочь лишенным ложной скромности, да и неложной тоже. Он охотно давал интервью и отвечал на вопросы, правда, исключительно на темы, не связанные с воздухоплаванием, делился мнениями, критиковал, рассказывал о себе, позировал для фотографий и портретов – короче, всячески поддерживал интерес к собственной персоне на земном небосклоне. Опубликованные портреты подчеркивали в первую очередь могучие усы Баттериджа, а во вторую – свирепость характера, которая за ними скрывалась. Сложилось всеобщее мнение, что он мал ростом. Ни один крупный мужчина, считала молва, не мог иметь столь воинственного выражения лица, хотя в действительности рост Баттериджа составлял шесть футов и два дюйма при соответствующем весе. Более того, он крутил любовную связь такого вопиющего масштаба и в таких безнравственных обстоятельствах, что в целом чинная британская публика засомневалась и встревожилась, опасаясь, что попустительство в отношении этой интрижки, по-видимому, является неотъемлемым условием монопольного приобретения Британской империей секрета надежных воздушных полетов. Точных подробностей никто не знал, но дама сердца Баттериджа, как сообщалось, в порыве неосторожного благородства вышла замуж за – я цитирую одно из неопубликованных высказываний мистера Баттериджа – «дохлого хорька», и сей зоологический парадокс отравил ее благополучное положение в обществе с помощью юридического крючкотворства. Баттеридж с жаром говорил на эту тему, желая показать, сколь безупречно эта дама вела себя в сложных обстоятельствах. Пресса, всегда предпочитавшая определенную недоговоренность, попала в крайне неудобное положение: ее, конечно, интересовали подробности интимного свойства, коих требовали современные нравы, но не настолько же! Иметь дело с открытым нараспашку в порыве добровольной вивисекции сердцем Баттериджа и его пульсирующими ответвлениями, украшенными флажками патриотизма, было воистину щекотливой задачей.
Бедным журналистам приходилось терпеть. Баттеридж регулярно обнажал перед ними свой неистово бьющийся, наводящий оторопь орган. Большего зануду трудно было сыскать. Он с ходу отметал все попытки уклонения. Его, как он утверждал под запись, «оправдывала любовь».
– Но ведь это дело личного свойства, мистер Баттеридж, – возражали журналисты.
– Несправедливость, сэр, дело общественное. Мне без разницы, кому противостоять: учреждениям или отдельным лицам. Да хоть бы и всей вселенной! Я вступаюсь за женщину, которую люблю, сэр, женщину благородную и непонятую. И я намерен отстаивать ее честь перед всем светом, сэр!
– Я люблю Англию, – говорил он в другой раз. – Но пуританизм, сэр, ненавижу. Он переполняет меня отвращением. Меня от него тошнит. Взять хотя бы мой случай.
Баттеридж постоянно твердил о сердечных делах и требовал показывать ему тексты интервью перед опубликованием. Если случалось, что его любовное мычание не находило должного отражения, он не успокаивался, пока крупными, аляповатыми каракулями не вписывал пропущенное и еще кое-что в придачу.
Британская пресса пребывала в странном смущении: она никогда еще не сталкивалась со столь банальным и неинтересным романом. Мир никогда еще не воспринимал историю сумасбродной любви с меньшей охотой и симпатией. С другой стороны, изобретение мистера Баттериджа вызывало острейшее любопытство. Но в те редкие моменты, когда его удавалось отвлечь от защиты чести дамы сердца, он главным образом говорил со слезами на глазах и дрожью в голосе о своей мамочке и детстве. Мать всегда представала в его рассказах целой энциклопедией материнской добродетели по единственной причине: она была «почти шотландкой». Не совсем, но почти.
– Всем в себе я обязан матери, – уверял Баттеридж, – всем. Эх! Спросите любого человека, кто чего-то достиг, он вам скажет то же самое. Мы всем обязаны женщинам. Вот кто настоящий род человеческий, сэр. Мужчина – это не более чем морок. Придет и уйдет. Вперед нас увлекает только душа женщины!
И так без конца.
Что именно он хотел получить за свой секрет от государства и на что надеялся в таком деле, помимо денежного вознаграждения, открыто не обсуждалось. У непредвзятого наблюдателя складывалось впечатление, что Баттеридж вовсе не добивался какой-то награды, а пользовался уникальной возможностью, чтобы покричать о себе и покрасоваться у всех на виду. Поползли слухи, что он не тот, за кого себя выдает, что на самом деле он владелец захудалой гостиницы в Кейптауне, месте проведения секретных опытов, и украл чертежи у чрезвычайно нелюдимого, застенчивого изобретателя по имени Паллизер, приехавшего из Англии в Южную Африку с прогрессирующей чахоткой, где и умер. Так, во всяком случае, утверждала более прямолинейная американская пресса. Однако ни доказательств, ни опровержений истории публика не увидела.
Кроме того, мистер Баттеридж азартно влез в целый клубок разбирательств по поводу большого количества ценных денежных призов. Некоторые из них были учреждены за успешный полет на механической тяге еще в 1906 году. К моменту триумфа мистера Баттериджа немалое количество газет, соблазнившись беспомощностью первопроходцев воздуха, обязались выплатить в некоторых случая весьма солидные суммы первому, кто пролетит от Манчестера до Глазго, из Лондона в Манчестер, первые сто миль, двести миль по Англии и так далее. Некоторые прикрылись хитрыми отговорками и теперь артачились. Одна или две заплатили без возражений и усиленно напирали на этот факт. Мистер Баттеридж ввязался в судебные тяжбы с наиболее строптивыми из газет, в то же время неустанно продолжая горячую агитацию и ходатайства за то, чтобы правительство наконец выкупило его изобретение.
Однако несмотря на все перипетии внебрачной интриги, абсурдную увлеченность любовными делами, политические маневры, характер, несмотря на все крики и бахвальство, Баттеридж – и это все знали – оставался единственным владельцем секрета работающего аэроплана, который, как ни крути, представлял собой ключ к созданию будущей мировой империи. Увы, вскоре, к великому огорчению множества людей, в том числе Берта Смоллуэйса, стало ясно, что переговоры о приобретении драгоценного секрета британским правительством, если они вообще велись, находятся на грани срыва. Первым всеобщую тревогу объявила лондонская «Дейли реквием», опубликовав интервью под зловещим заголовком «Мистер Баттеридж разоткровенничался».
Изобретатель, если он таковым действительно являлся, в очередной раз излил душу.
«Я приехал с другого конца света, – сообщал он, как бы подтверждая правдивость кейптаунской истории, – привез родине секрет, который способен сделать ее владычицей мира. И какой прием я встретил? Престарелые вельможи воротят от меня нос! А мою любимую женщину третируют как прокаженную!»
«Я гражданин Британской империи, – продолжал громыхать он, добавив эту часть интервью от руки, – но и у сердца есть предел! На свете есть страны помоложе и поживее! Страны, не храпящие, булькая горлом, в пароксизме изобилия на ложе формализма и волокиты! Страны, которые не отринут идею мировой империи ради того, чтобы насолить незнакомому человеку и оскорбить благородную женщину, на чьей обуви они недостойны расстегивать крючки. Есть страны, не закрывающие глаза перед светом науки, не отдавшие себя во власть изнеженной снобократии, дегенератов и декадентов. Короче, попомните мои слова: есть другие страны!»
Эта речь произвела на Берта Смоллуэйса глубочайшее впечатление.
– Если секрет узна2ют немцы или американцы, – многозначительно сказал он брату, – Британской империи каюк. Ка-юк. Английский флаг, как говорится, будет стоить не дороже бумаги, из которой сделан.
– Ты бы не мог нам немного помочь сегодня утром? – прервала Джессика глубокомысленную паузу. – В Бан-Хилле вдруг всем позарез понадобилась ранняя картошка. Том в одиночку не справится.
– Мы живем на вулкане, – продолжал Берт, пропустив вопрос мимо ушей. – В любой момент может грянуть война. И какая война!
Берт зловеще покачал головой.
– Том, отнеси сначала вот это, – сказала Джессика и резко повернулась к Берту. – Так ты нам поможешь или нет?
– Пожалуй. У нас в магазине с самого утра не было ни души. Вот только угроза империи очень уж меня тревожит.
– Поработаешь – голова сама собой очистится, – пообещала Джессика.
И Берт отправился в мир перемен и чудес, согнувшись под бременем картошки и патриотической тревоги за отечество. Постепенно ощущение тяжести превратилось в раздражение на неудобный груз и ярко выраженную антипатию к Джессике.
Глава II. Как у Берта Смоллуэйса начались затруднения
1
Ни Берту, ни Тому Смоллуэйсу и в голову не могло прийти, что удивительный спектакль, устроенный мистером Баттериджем в небесах, как-то повлияет на их судьбу и отделит их от миллионов соотечественников. Проследив с холма Бан-Хилл, как похожий на муху аппарат с вращающимися плоскостями, сияющий золотом на фоне заката, с жужжанием въезжает в ангар, они вернулись к лавке зеленщика, ютящейся под гигантской железной опорой монорельса линии Лондон – Брайтон, и возобновили разговор, прерванный триумфальным появлением мистера Баттериджа из лондонского смога.
Беседа протекала туго и безуспешно. Фразы приходилось выкрикивать из-за стонов и шума гироскопических автомобилей на Хай-стрит. Разговор шел по душам и на повышенных тонах. Для лавки Грабба наступили тяжелые времена, и хозяин в порыве финансового красноречия всучил половинную долю на магазин Берту, чьи отношения с работодателем уже некоторое время обходились без заработной платы и сохранялись на чисто приятельской, неформальной основе.
Берт пытался убедить Тома, что реформированное предприятие «Грабб и Смоллуэйс» открывает беспрецедентные, уникальные горизонты перед малыми инвесторами вроде него. Том проявил абсолютную невосприимчивость к бизнес-идеям, что стало для Берта некоторой неожиданностью. В конце концов, махнув рукой на финансовые перспективы, он воззвал к братской любви и сумел под честное слово одолжить у Тома соверен.
Бывшей фирме Грабба, ставшей фирмой «Грабб и Смоллуэйс», страшно не везло весь последний год, а то и дольше. Компания несколько последних лет едва сводила концы с концами, сохраняя налет романтической непредсказуемости, и занимала маленький магазин на Хай-стрит, украшенный крикливой рекламой велосипедов, выставкой звонков, брючных прищепок, масленок, насосов, сумочек для рам, футляров и прочих аксессуаров, объявлениями вроде «Прокат велосипедов», «Ремонт», «Бесплатное накачивание шин», «Бензин» и тому подобными вещами. Грабб и Берт были агентами нескольких малоизвестных велосипедных компаний, товарный запас магазина ограничивался двумя экземплярами, и время от времени им удавалось продать новый велосипед. Они также чинили проколотые шины и старались, хоть и не всегда удачно, ремонтировать все, что им принесут. Компаньоны также продавали линейку дешевых граммофонов и музыкальных шкатулок.
Однако главный стержень предприятия составлял прокат велосипедов. Это экзотическое занятие не подчинялось коммерческим или экономическим принципам, да и каким-либо принципам вообще. Для проката имелся запас женских и мужских велосипедов – неописуемый хлам, который они сдавали невзыскательным, легкомысленным клиентам, раззявам и простофилям, по номинальной ставке в один шиллинг за первый час пробега и шесть пенсов за каждый последующий час. В действительности, однако, никаких твердых цен не существовало, и мальчишки понастойчивее могли сторговать велосипед на час в комплекте с восторгом от рискованной езды за смехотворные три пенса, если только могли убедить Грабба, что это их последние деньги. Грабб кое-как регулировал седло и руль, получал от клиента, кроме тех, с кем был знаком лично, залог, капал масла и отправлял авантюриста на встречу с судьбой. Чаще всего любитель или любительница прокатиться возвращались сами, но иногда, в случае серьезной поломки, Берту или Граббу приходилось ехать и доставлять велосипед в мастерскую. Плата за прокат начислялась до возвращения инвентаря в магазин и высчитывалась из залога. Велосипеды редко покидали лавку в идеальном состоянии. Романтика подстерегала в виде болта регулятора седла со сбитой резьбой, ненадежных педалей, провисающей цепи, разболтанных креплений руля, но главным образом – тормозов и шин. Давя на педали, бесстрашный ездок извлекал из механизма постукивания, позвякивания и подозрительные ритмичные скрипы. Потом заедало звонок, или на склоне отказывали тормоза, или проваливалась стойка седла, отчего оно неожиданно для седока соскальзывало на три-четыре дюйма вниз, или разболтанную цепь заклинивало на шестерне, когда велосипед летел под гору, вызывая аварийную остановку, сопряженную с полетом водителя через руль, а иногда с громким хлопком либо с тихим шипением испускало дух колесо.
Когда клиент, превратившийся в озлобленного пешехода, возвращался в мастерскую, Грабб пропускал все жалобы мимо ушей и угрюмо осматривал велосипед.
– Кто же так ездит? – для начала говорил он, после чего мягко приводил доводы рассудка: – Вы думаете, велосипед возьмет вас на ручки и понесет сам? Надо же мозгами шевелить! Это как-никак механизм.
Подчас процесс удовлетворения жалоб требовал немалого красноречия, граничил с рукоприкладством и порядком изматывал нервы; впрочем, в те прогрессивные времена, чтобы заработать на жизнь, иногда приходилось пошуметь. Дело вообще требовало больших усилий, но все-таки прокат давал постоянный доход, пока однажды все стекла в витрине и дверях не разбили, а товар на витрине не повредили и не раскидали два чересчур критично настроенных, презревших риторику клиента. Ими оказались два дюжих, неотесанных кочегара из Грейвзенда. Одному не понравилось, что у него на ходу отвалилась левая педаль, второму – что спустила шина. И то и другое по стандартам Бан-Хилла было мелким, пустячным происшествием, вызванным исключительно грубым обращением клиентов с вверенным им деликатным имуществом. Кочегары наотрез отказывались видеть несостоятельность своих методов решения споров. Разве можно убедить хозяина проката в том, что он выдал негодный велосипед, швырянием насоса внутри мастерской или целой пригоршни звонков в ее витрину? Грабба и Берта такие методы не убедили и вызвали у них лишь раздражение и досаду. Пришла беда – отворяй ворота: неприятный инцидент привел к бурной разборке Грабба с хозяином арендованного помещения по вопросу о нравственных аспектах его поведения и юридической ответственности за восстановление выбитых стекол. В итоге Граббу и Смоллуэйсу пришлось возместить убыток и под покровом ночи предпринять стратегический отход на новые позиции.
Об этих позициях они подумывали не первый день. Запасным вариантом была маленькая, похожая на сарай мастерская с витриной из прессованного стекла и всего одним помещением, расположенная на крутом повороте дороги у подножия холма Бан-Хилл. Там друзья продолжали мужественно терпеть нужду, отбиваясь от назойливого домогательства изгнавшего их домовладельца, надеясь на удачу, которую должно было принести необычное расположение лавки. Увы, здесь их тоже подстерегало разочарование.
Шоссе из Лондона в Брайтон, пролегавшее через Бан-Хилл, подобно Британской империи или английской конституции приобрело свою важность постепенно, начиная с пустяков. В отличие от дорог в Европе, английские шоссе никогда не подвергались организованным попыткам их выровнять или выпрямить, чем объясняется их особая живописность. Старая Хай-стрит Бан-Хилла в самом конце спускалась на восемьдесят или сто футов под углом в семьдесят градусов, поворачивала под прямым углом направо, описывала дугу в тридцать ярдов до кирпичного моста, перекинутого через пересохшую канаву, некогда служившую руслом Оттерберна, затем резко поворачивала еще раз направо мимо густой рощицы и только тогда продолжалась как обычное, прямое, дружелюбное шоссе. Еще до того, как новая мастерская Берта и Грабба была оборудована, рядом с ней произошло две аварии – с конным фургоном и велосипедистом, и, если говорить честно, оба компаньона надеялись, что за ними последуют новые.
Поначалу такая вероятность обсуждалась в шутливых тонах.
– Идеальное место, где можно неплохо заработать на курах, бегающих через дорогу, – поделился мыслью Грабб.
– На курах не разбогатеешь.
– Заведем кур, пусть их давят, а водители будут платить.
Переехав на новое место, приятели вспомнили этот разговор. О курах, однако, не могло быть и речи, для них не оставалось места, если только не устраивать курятник прямо в мастерской. Вдобавок магазин с витриной из прессованного стекла выглядел современнее прежнего.