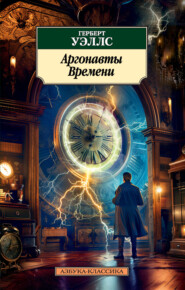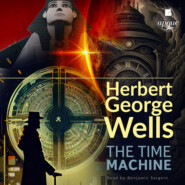По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дверь в стене
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воцарилась тишина, а затем ее прорезал, наполнив собой пространство гостиной, низкий, нездешний, проникновенный голос – страдающий и задыхающийся:
– О Эдвин! О матушка! Пощади меня, пощади меня! Ох!
Его жалобный вскрик завершился протяжным рыдающим стоном.
У Клода волосы встали дыбом. Вицелли не шелохнулся и не сказал ни единого слова. Эдвин сидел, сминая в кулаке карты, опустив голову, моргая, с перекошенным ртом, – словно ожидал приговора.
Посреди устрашающего безмолвия торжественно тикали часы. Бронзовый Сатана выжидательно замер за спинами собравшихся, кариатиды с затаенной тревогой смотрели вглубь комнаты. Тень от воздетой руки Сатаны угрожающе нависла над поникшей тенью Эдвина. Попугай переместился на своей жердочке, звякнула цепь. Со стуком упала на пол карта. Потом они услышали бесплотный голос, заставивший Вицелли и Клода невольно бросить взгляд на мертвенно-бледное лицо Эдвина:
– А!.. Тайное убежище священников в башне…
То был голос Эдвина, но это произнес не Эдвин.
Еще одна жуткая пауза, продлившаяся минуту – или час. Затем глаза Эдвина осмысленно блеснули. Он в ярости вскочил, уронив стул, и стремительно сделал три шага к попугаю. Птица издала зловещий крик и забила широкими серыми крыльями. Вицелли схватил Эдвина за руку, и они встали друг против друга.
– Это судьба, – произнес Вицелли. – Ты должен покориться. Мы знаем… достаточно.
Пауза, за ней – взволнованный шепот.
– Да, я убил его – здесь – год назад, в канун Рождества. Глупо было приходить сюда, особенно в этот вечер! Мы напились и поссорились. Он преграждал мне путь к богатству, а его богатство отбирало у меня мою Энни. Он издевался надо мной. Как я ненавидел его в ту минуту! Я с размаху ударил его кочергой, повалил на пол, напрыгнул на него и задушил. В заброшенной башне есть потайная комната, где когда-то скрывались от преследований католические священники. Только он и я знали о ней. Он там, изъеденный крысами, превратившийся в мумию… Вицелли, отпусти хоть на миг мою руку.
Он повернулся и теперь видел лица обоих.
Внезапно свет упал на его рапиру. Она взметнулась, попугай перекувырнулся и, обезглавленный, повис на цепи; еще один взмах – и Эдвин пошатнулся, упал ничком, перекатился по полу и, испустив вздох, остался недвижим – равнодушный к любви, ненависти и греху. У его ног лежала голова попугая, в его клюве еще слабо подрагивал мясистый язык.
Пламя свечей трепыхалось, словно от дуновения ветра, на стене причудливо дергался призрачный Сатана. Над мраморной каминной полкой размахивало косой седое Время, безжалостно и неустанно свершая свой необратимый труд.
1888–1889
Человек с носом
Всякий раз, когда я смотрю на твою физиономию,
я вспоминаю об адском пламени и о богаче,
который при жизни всегда одевался в пурпур,
ведь он там в своем одеянии так и пылает,
так и пылает!..[8 - В эпиграфе цитируются обращенные к Бардольфу слова сэра Джона Фальстафа из первой части (1595–1597, опубл. 1598) исторической дилогии Шекспира «Генрих IV» (1595–1598, опубл. 1598–1600; III. 3). Перевод Е. Бируковой.]
– Мой нос – проклятие всей моей жизни!
Человек помоложе, сидевший по соседству, встрепенулся.
Дотоле эти двое не разговаривали. Они занимали противоположные концы скамейки на каменистой вершине Примроз-хилл[9 - Примроз-хилл – общественный парк с одноименным холмом в его центре, в лондонском боро Кэмден, открытый для посещений в 1842 г. К югу от него, по другую сторону Принс-Альберт-роуд, находится упомянутый ниже Риджентс-парк.], откуда открывался вид на Риджентс-парк. Дело было поздним вечером. Вдоль тропинок на склоне холма пролегли желтые пунктирные линии из световых столбиков; тусклой полосой посеребренной зелени протянулась Альберт-роуд – это переливалось между деревьями сияние газовых фонарей; за нею расстилался загадочный мрак парка, а еще дальше, там, где рдеющая медь неба переходила в желтый туман, начиналось великолепие оживленных улиц квартала Мерилебон. Грозную черноту крайних домов на Альберт-террас хаотично прорезали освещенные окна. В вышине сверкали звезды.
Оба молчали, уйдя каждый в собственные мысли, и были друг для друга всего лишь смутными темными силуэтами – покуда один из них не счел нужным подать голос и открыть свою тайну.
– Да, – произнес он после паузы, – мой нос всегда стоял у меня на пути, всегда.
Человек на противоположном конце скамейки, похоже, не расслышал предыдущей реплики, но теперь он во все глаза уставился сквозь сгущавшийся сумрак на соседа-коротышку, который повернулся к нему лицом.
– Не вижу никаких изъянов – нос как нос, – заметил он.
– Будь сейчас посветлее, увидели бы, – возразил собеседник. – Впрочем, это поправимо.
Он порылся в кармане и что-то извлек оттуда. Раздался скрип, не гаснущая на ветру спичка вспыхнула зеленоватым фосфоресцирующим светом, и на фоне этой вспышки мир вокруг стал еще темнее.
На минуту повисла выразительная пауза.
– Ну? – спросил человек с носом, придвинув выдающуюся часть лица к свету.
– Видал и похуже, – отозвался его сосед по скамейке.
– Сомневаюсь, – заупрямился человек с носом, – а если и так, это слабое утешение. На форму обратили внимание? А на размеры? У него же разные крылья: одно вздыбленное, другое покатое, как склоны горы Сноудон[10 - Сноудон – самая высокая (1085 м над уровнем моря) гора в Уэльсе, с шестью хребтами – крутыми и скалистыми на севере и востоке и пологими на юге и западе.]. Торчит посреди физиономии, точно птичник внутри крытой галереи. А цвет!
– Ну, строго говоря, он не сплошь красный.
– Само собой – там есть и пурпур, и синева, и «лазуритовый тон, как у жилки на груди Мадонны»[11 - Неточная цитата из стихотворения английского поэта-романтика Роберта Браунинга (1812–1889) «Епископ заказывает себе гробницу в церкви Святой Пракседы» (1845, ст. 42, 45).], в одном месте – даже сероватая бородавка. Да что уж – это вообще не нос, а первобытный хаос, притороченный к моему лицу! Но поскольку он воткнут там, где полагается быть носу, окружающие бездумно признают его за таковой. То, что венчает мое лицо, – это брешь в совершенном здании мироустройства, забытая Творцом глыба необработанного материала. В нее заключен мой настоящий нос – подобно тому как статуя заключена в глыбу мрамора до тех пор, покуда в должный час она не обретает свободу. В следующей жизни… Впрочем, этого нельзя предсказать наперед. Что ж, ладно… Я редко завожу речь про свой нос, дружище, но в самой вашей позе мне почудилось что-то участливое, а меня нынче тянет поговорить. Проклятый нос! Но я, наверное, утомил вас, всунув его поперек ваших мыслей?
– Если разговор про нос облегчает ваши страдания, то прошу вас, продолжайте, – предложил носатому джентльмену собеседник, который, судя по его чуть дрогнувшему голосу, принял услышанное близко к сердцу.
– Тогда я скажу, что мой нос напоминает мне о фальшивых носах, которые нацепляют на себя в дни карнавала даже самые унылые люди, дабы предаться остроумному и жизнерадостному веселью. Этого достаточно для всеобщего ликования. Подозреваю, тот или иной англиканский епископ тоже как ни в чем не бывало носит на физиономии подобный бутафорский нарост. А вообразите-ка ангела в таком гриме! А если бы на вас сейчас напялили такое – вам бы понравилось? Подумайте, каково это: ухаживать за девушкой, выступать на митинге или величаво умирать – с таким носом, как у меня! Подружка открыто смеется над вами, публика глумливо гогочет, палач, давясь от хохота, с трудом находит в себе силы запалить ваш жертвенный костер. Ей-богу, я не шучу! Не однажды я поднимал бунт и клятвенно восклицал: «Я избавлюсь от этого носа!»
– Но что вы можете сделать?
– То-то и оно, что ничего, таков мой удел. А самое печальное – это сознавать, что мое положение, при всем его трагизме, невероятно комично. Одному Богу известно, как я буду радоваться, когда карнавал жизни завершится и я наконец расстанусь с этой штуковиной. Пагубнее всего она сказывается на делах амурных. Мне ведь не чужды утонченные, нежные чувства, и здоровье у меня в порядке. Но что сможет увидеть во мне женщина, кроме моего носа? Она захочет прочесть любовь в моих глазах – а их загородит он, во всей своей безразмерной красе. Я обречен на то, чтобы предаваться любовным утехам в инквизиторском капюшоне с прорезями для глаз, – и даже под ним будет вовсю топорщиться эта продолговатая шишка. Я читал и слышал от других – и вполне могу представить себе, – как прелестно женское лицо, светящееся любовью. Но эта темница плоти способна вмиг остудить самое пылкое сердце.
Монолог резко оборвался, сменившись громкими, яростными проклятиями. Молодой человек, сидевший на соседней скамейке в обнимку с девушкой, вскинулся и произнес: «Эй, потише!»
– Мне, разумеется, и в голову не приходило, – заговорил собеседник носатого джентльмена, – что красный нос – источник таких несчастий, но теперь, когда вы…
– Мне показалось, вы сумеете понять. Этот нос сопровождает меня всю мою жизнь. Нынешнюю форму он приобрел еще в школьные годы, а вот теперешний цвет пришел уже позже. Меня обзывали пятаком, Назоном[12 - Назон (Naso) – третье из имен (родовое прозвище) знаменитого римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. – 17/18 н. э.) – фонетически близко к латинскому слову «nasus» (нос), что уже при жизни автора «Любовных элегий» стало источником множества каламбуров. На античных изображениях Овидий нередко запечатлен в профиль с сильно выдающимся (вопреки реальности) носом.], Цицероном[13 - Третье имя римского философа, политика и оратора Марка Туллия Цицерона (106–43 до н. э.) – Cicero – созвучно латинскому слову «c?c?r» (горох). Греческий историк Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» (Цицерон, гл. 1) высказывает предположение, что это прозвище первый в роду Туллиев получил из-за формы своего носа – широкого, приплюснутого и напоминавшего горошину с бороздкой на кончике. Он также сообщает, что Цицерон, несмотря на частые насмешки, гордился своим родовым прозвищем и однажды даже попросил вырезать вместо него горошину в подписи на серебряном дарственном приношении богам.], хоботом, шнобелем. С годами он наливался все больше и больше, и мое будущее становилось все более трагическим. Любовь, которая только и придает смысл человеческой жизни, для меня – книга за семью печатями. Одиночество! Я возблагодарил бы небеса за… Но нет! Даже слепая женщина распознала бы его форму на ощупь.
– Но ведь, кроме любви, – задумчиво возразил более молодой собеседник, – существует и многое другое, ради чего стоит жить, – например, труд на благо общества. Неказистый нос ничуть ему не помеха. Некоторые люди находят, что труд куда важнее любви. Только не подумайте, что, говоря это, я не сопереживаю вашим невзгодам.
– Это вполне ясно уже по вашему тону. Ваши слова выдают, насколько вы еще молоды. Мой дорогой юный друг, труд – бесспорно, отличная штука, но поверьте, это недостаточный стимул. В нем нет услады. Вам еще предстоит это узнать. А кроме того, меня одолевают несказанная потребность любить, иметь рядом понимающую душу – и несказанная горечь оттого, что я одинок. Я догадываюсь, что вы не одобряете моего ропота, – но, украдкой наблюдая за окружающими в различных ситуациях, я знаю также, что лишь по-настоящему тонкая и артистическая натура способна проявить сочувствие к ближнему, которое так меня подкупает. Я много наблюдаю за людьми – пожалуй, даже чересчур много, – и поверьте дотошному антропологу-любителю: ничто так не выдает характер человека, как его поза в сумерках, когда, ему мнится, его никто не видит. Вот вы сидите, и ваш черный силуэт четко вырисовывается на фоне неба. О! А вот сейчас вы напряглись. Но вы не кальвинист. Друг мой, самое лучшее в жизни – это ее услады, а лучшая из услад – это любить и быть любимым. А тут – этот злосчастный нос! Что ж, есть немало других удовольствий, пусть и не столь восхитительных. Когда смеркается, я могу ненадолго забыть об этом пугале. Весна прекрасна, над холмами Даунза[14 - Даунз — протяженная, занимающая территорию нескольких графств (Серрей, Кент, Сассекс) гряда холмов на юго-востоке Англии.] чудесный воздух; лежишь среди вереска и любуешься на звезды в вышине. Даже лондонское небо к ночи окрашивается в более мягкие цвета, хотя край его все еще пламенеет. Днем тень от моего носа гуще и темнее. Но нынче вечером мне невесело – и все из-за того, что ожидает меня завтра.
– А что ожидает вас завтра? – спросил тот, что был помоложе.
– Меня ожидают новые знакомства, – объяснил человек с носом, – и любопытные взгляды, в которых смешиваются изумление и жалость и которые я слишком хорошо знаю. Моя кузина – мастерица устраивать званые ужины – пообещала гостям мой нос в качестве изюминки вечера.
– Да уж, ситуация хуже не придумаешь, – заметил собеседник.
Вновь воцарилось продолжительное молчание. Через некоторое время человек с носом поднялся и зашагал во тьму, что окутывала склон холма. Молодой человек наблюдал, как незнакомец исчезает в ночи, и тщетно спрашивал себя, чем можно утешить душу, на которую судьба наложила столь тяжкое бремя.
1894
– О Эдвин! О матушка! Пощади меня, пощади меня! Ох!
Его жалобный вскрик завершился протяжным рыдающим стоном.
У Клода волосы встали дыбом. Вицелли не шелохнулся и не сказал ни единого слова. Эдвин сидел, сминая в кулаке карты, опустив голову, моргая, с перекошенным ртом, – словно ожидал приговора.
Посреди устрашающего безмолвия торжественно тикали часы. Бронзовый Сатана выжидательно замер за спинами собравшихся, кариатиды с затаенной тревогой смотрели вглубь комнаты. Тень от воздетой руки Сатаны угрожающе нависла над поникшей тенью Эдвина. Попугай переместился на своей жердочке, звякнула цепь. Со стуком упала на пол карта. Потом они услышали бесплотный голос, заставивший Вицелли и Клода невольно бросить взгляд на мертвенно-бледное лицо Эдвина:
– А!.. Тайное убежище священников в башне…
То был голос Эдвина, но это произнес не Эдвин.
Еще одна жуткая пауза, продлившаяся минуту – или час. Затем глаза Эдвина осмысленно блеснули. Он в ярости вскочил, уронив стул, и стремительно сделал три шага к попугаю. Птица издала зловещий крик и забила широкими серыми крыльями. Вицелли схватил Эдвина за руку, и они встали друг против друга.
– Это судьба, – произнес Вицелли. – Ты должен покориться. Мы знаем… достаточно.
Пауза, за ней – взволнованный шепот.
– Да, я убил его – здесь – год назад, в канун Рождества. Глупо было приходить сюда, особенно в этот вечер! Мы напились и поссорились. Он преграждал мне путь к богатству, а его богатство отбирало у меня мою Энни. Он издевался надо мной. Как я ненавидел его в ту минуту! Я с размаху ударил его кочергой, повалил на пол, напрыгнул на него и задушил. В заброшенной башне есть потайная комната, где когда-то скрывались от преследований католические священники. Только он и я знали о ней. Он там, изъеденный крысами, превратившийся в мумию… Вицелли, отпусти хоть на миг мою руку.
Он повернулся и теперь видел лица обоих.
Внезапно свет упал на его рапиру. Она взметнулась, попугай перекувырнулся и, обезглавленный, повис на цепи; еще один взмах – и Эдвин пошатнулся, упал ничком, перекатился по полу и, испустив вздох, остался недвижим – равнодушный к любви, ненависти и греху. У его ног лежала голова попугая, в его клюве еще слабо подрагивал мясистый язык.
Пламя свечей трепыхалось, словно от дуновения ветра, на стене причудливо дергался призрачный Сатана. Над мраморной каминной полкой размахивало косой седое Время, безжалостно и неустанно свершая свой необратимый труд.
1888–1889
Человек с носом
Всякий раз, когда я смотрю на твою физиономию,
я вспоминаю об адском пламени и о богаче,
который при жизни всегда одевался в пурпур,
ведь он там в своем одеянии так и пылает,
так и пылает!..[8 - В эпиграфе цитируются обращенные к Бардольфу слова сэра Джона Фальстафа из первой части (1595–1597, опубл. 1598) исторической дилогии Шекспира «Генрих IV» (1595–1598, опубл. 1598–1600; III. 3). Перевод Е. Бируковой.]
– Мой нос – проклятие всей моей жизни!
Человек помоложе, сидевший по соседству, встрепенулся.
Дотоле эти двое не разговаривали. Они занимали противоположные концы скамейки на каменистой вершине Примроз-хилл[9 - Примроз-хилл – общественный парк с одноименным холмом в его центре, в лондонском боро Кэмден, открытый для посещений в 1842 г. К югу от него, по другую сторону Принс-Альберт-роуд, находится упомянутый ниже Риджентс-парк.], откуда открывался вид на Риджентс-парк. Дело было поздним вечером. Вдоль тропинок на склоне холма пролегли желтые пунктирные линии из световых столбиков; тусклой полосой посеребренной зелени протянулась Альберт-роуд – это переливалось между деревьями сияние газовых фонарей; за нею расстилался загадочный мрак парка, а еще дальше, там, где рдеющая медь неба переходила в желтый туман, начиналось великолепие оживленных улиц квартала Мерилебон. Грозную черноту крайних домов на Альберт-террас хаотично прорезали освещенные окна. В вышине сверкали звезды.
Оба молчали, уйдя каждый в собственные мысли, и были друг для друга всего лишь смутными темными силуэтами – покуда один из них не счел нужным подать голос и открыть свою тайну.
– Да, – произнес он после паузы, – мой нос всегда стоял у меня на пути, всегда.
Человек на противоположном конце скамейки, похоже, не расслышал предыдущей реплики, но теперь он во все глаза уставился сквозь сгущавшийся сумрак на соседа-коротышку, который повернулся к нему лицом.
– Не вижу никаких изъянов – нос как нос, – заметил он.
– Будь сейчас посветлее, увидели бы, – возразил собеседник. – Впрочем, это поправимо.
Он порылся в кармане и что-то извлек оттуда. Раздался скрип, не гаснущая на ветру спичка вспыхнула зеленоватым фосфоресцирующим светом, и на фоне этой вспышки мир вокруг стал еще темнее.
На минуту повисла выразительная пауза.
– Ну? – спросил человек с носом, придвинув выдающуюся часть лица к свету.
– Видал и похуже, – отозвался его сосед по скамейке.
– Сомневаюсь, – заупрямился человек с носом, – а если и так, это слабое утешение. На форму обратили внимание? А на размеры? У него же разные крылья: одно вздыбленное, другое покатое, как склоны горы Сноудон[10 - Сноудон – самая высокая (1085 м над уровнем моря) гора в Уэльсе, с шестью хребтами – крутыми и скалистыми на севере и востоке и пологими на юге и западе.]. Торчит посреди физиономии, точно птичник внутри крытой галереи. А цвет!
– Ну, строго говоря, он не сплошь красный.
– Само собой – там есть и пурпур, и синева, и «лазуритовый тон, как у жилки на груди Мадонны»[11 - Неточная цитата из стихотворения английского поэта-романтика Роберта Браунинга (1812–1889) «Епископ заказывает себе гробницу в церкви Святой Пракседы» (1845, ст. 42, 45).], в одном месте – даже сероватая бородавка. Да что уж – это вообще не нос, а первобытный хаос, притороченный к моему лицу! Но поскольку он воткнут там, где полагается быть носу, окружающие бездумно признают его за таковой. То, что венчает мое лицо, – это брешь в совершенном здании мироустройства, забытая Творцом глыба необработанного материала. В нее заключен мой настоящий нос – подобно тому как статуя заключена в глыбу мрамора до тех пор, покуда в должный час она не обретает свободу. В следующей жизни… Впрочем, этого нельзя предсказать наперед. Что ж, ладно… Я редко завожу речь про свой нос, дружище, но в самой вашей позе мне почудилось что-то участливое, а меня нынче тянет поговорить. Проклятый нос! Но я, наверное, утомил вас, всунув его поперек ваших мыслей?
– Если разговор про нос облегчает ваши страдания, то прошу вас, продолжайте, – предложил носатому джентльмену собеседник, который, судя по его чуть дрогнувшему голосу, принял услышанное близко к сердцу.
– Тогда я скажу, что мой нос напоминает мне о фальшивых носах, которые нацепляют на себя в дни карнавала даже самые унылые люди, дабы предаться остроумному и жизнерадостному веселью. Этого достаточно для всеобщего ликования. Подозреваю, тот или иной англиканский епископ тоже как ни в чем не бывало носит на физиономии подобный бутафорский нарост. А вообразите-ка ангела в таком гриме! А если бы на вас сейчас напялили такое – вам бы понравилось? Подумайте, каково это: ухаживать за девушкой, выступать на митинге или величаво умирать – с таким носом, как у меня! Подружка открыто смеется над вами, публика глумливо гогочет, палач, давясь от хохота, с трудом находит в себе силы запалить ваш жертвенный костер. Ей-богу, я не шучу! Не однажды я поднимал бунт и клятвенно восклицал: «Я избавлюсь от этого носа!»
– Но что вы можете сделать?
– То-то и оно, что ничего, таков мой удел. А самое печальное – это сознавать, что мое положение, при всем его трагизме, невероятно комично. Одному Богу известно, как я буду радоваться, когда карнавал жизни завершится и я наконец расстанусь с этой штуковиной. Пагубнее всего она сказывается на делах амурных. Мне ведь не чужды утонченные, нежные чувства, и здоровье у меня в порядке. Но что сможет увидеть во мне женщина, кроме моего носа? Она захочет прочесть любовь в моих глазах – а их загородит он, во всей своей безразмерной красе. Я обречен на то, чтобы предаваться любовным утехам в инквизиторском капюшоне с прорезями для глаз, – и даже под ним будет вовсю топорщиться эта продолговатая шишка. Я читал и слышал от других – и вполне могу представить себе, – как прелестно женское лицо, светящееся любовью. Но эта темница плоти способна вмиг остудить самое пылкое сердце.
Монолог резко оборвался, сменившись громкими, яростными проклятиями. Молодой человек, сидевший на соседней скамейке в обнимку с девушкой, вскинулся и произнес: «Эй, потише!»
– Мне, разумеется, и в голову не приходило, – заговорил собеседник носатого джентльмена, – что красный нос – источник таких несчастий, но теперь, когда вы…
– Мне показалось, вы сумеете понять. Этот нос сопровождает меня всю мою жизнь. Нынешнюю форму он приобрел еще в школьные годы, а вот теперешний цвет пришел уже позже. Меня обзывали пятаком, Назоном[12 - Назон (Naso) – третье из имен (родовое прозвище) знаменитого римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э. – 17/18 н. э.) – фонетически близко к латинскому слову «nasus» (нос), что уже при жизни автора «Любовных элегий» стало источником множества каламбуров. На античных изображениях Овидий нередко запечатлен в профиль с сильно выдающимся (вопреки реальности) носом.], Цицероном[13 - Третье имя римского философа, политика и оратора Марка Туллия Цицерона (106–43 до н. э.) – Cicero – созвучно латинскому слову «c?c?r» (горох). Греческий историк Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» (Цицерон, гл. 1) высказывает предположение, что это прозвище первый в роду Туллиев получил из-за формы своего носа – широкого, приплюснутого и напоминавшего горошину с бороздкой на кончике. Он также сообщает, что Цицерон, несмотря на частые насмешки, гордился своим родовым прозвищем и однажды даже попросил вырезать вместо него горошину в подписи на серебряном дарственном приношении богам.], хоботом, шнобелем. С годами он наливался все больше и больше, и мое будущее становилось все более трагическим. Любовь, которая только и придает смысл человеческой жизни, для меня – книга за семью печатями. Одиночество! Я возблагодарил бы небеса за… Но нет! Даже слепая женщина распознала бы его форму на ощупь.
– Но ведь, кроме любви, – задумчиво возразил более молодой собеседник, – существует и многое другое, ради чего стоит жить, – например, труд на благо общества. Неказистый нос ничуть ему не помеха. Некоторые люди находят, что труд куда важнее любви. Только не подумайте, что, говоря это, я не сопереживаю вашим невзгодам.
– Это вполне ясно уже по вашему тону. Ваши слова выдают, насколько вы еще молоды. Мой дорогой юный друг, труд – бесспорно, отличная штука, но поверьте, это недостаточный стимул. В нем нет услады. Вам еще предстоит это узнать. А кроме того, меня одолевают несказанная потребность любить, иметь рядом понимающую душу – и несказанная горечь оттого, что я одинок. Я догадываюсь, что вы не одобряете моего ропота, – но, украдкой наблюдая за окружающими в различных ситуациях, я знаю также, что лишь по-настоящему тонкая и артистическая натура способна проявить сочувствие к ближнему, которое так меня подкупает. Я много наблюдаю за людьми – пожалуй, даже чересчур много, – и поверьте дотошному антропологу-любителю: ничто так не выдает характер человека, как его поза в сумерках, когда, ему мнится, его никто не видит. Вот вы сидите, и ваш черный силуэт четко вырисовывается на фоне неба. О! А вот сейчас вы напряглись. Но вы не кальвинист. Друг мой, самое лучшее в жизни – это ее услады, а лучшая из услад – это любить и быть любимым. А тут – этот злосчастный нос! Что ж, есть немало других удовольствий, пусть и не столь восхитительных. Когда смеркается, я могу ненадолго забыть об этом пугале. Весна прекрасна, над холмами Даунза[14 - Даунз — протяженная, занимающая территорию нескольких графств (Серрей, Кент, Сассекс) гряда холмов на юго-востоке Англии.] чудесный воздух; лежишь среди вереска и любуешься на звезды в вышине. Даже лондонское небо к ночи окрашивается в более мягкие цвета, хотя край его все еще пламенеет. Днем тень от моего носа гуще и темнее. Но нынче вечером мне невесело – и все из-за того, что ожидает меня завтра.
– А что ожидает вас завтра? – спросил тот, что был помоложе.
– Меня ожидают новые знакомства, – объяснил человек с носом, – и любопытные взгляды, в которых смешиваются изумление и жалость и которые я слишком хорошо знаю. Моя кузина – мастерица устраивать званые ужины – пообещала гостям мой нос в качестве изюминки вечера.
– Да уж, ситуация хуже не придумаешь, – заметил собеседник.
Вновь воцарилось продолжительное молчание. Через некоторое время человек с носом поднялся и зашагал во тьму, что окутывала склон холма. Молодой человек наблюдал, как незнакомец исчезает в ночи, и тщетно спрашивал себя, чем можно утешить душу, на которую судьба наложила столь тяжкое бремя.
1894