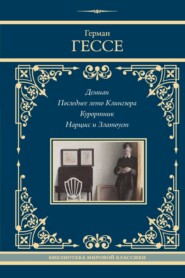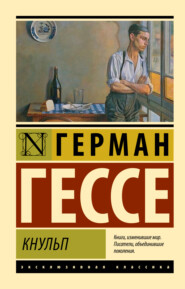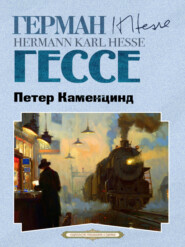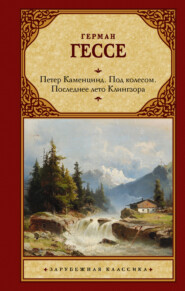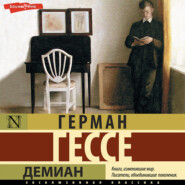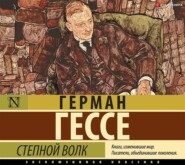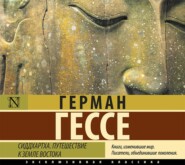По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Осенью. Пешком
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Очень может быть.
– Споем еще одну песню, – предложила красавица и, долущивая последние бобы, мы спели «Темной ночью стою одиноко»… Когда кончили, девушки встали, я тоже.
– Покойной ночи, – сказал я каждой и каждой подал руку, а брюнетке сказал:
– Покойной ночи, Агата.
Трое увальней в большой комнате уже собирались уходить. На меня они не обратили никакого внимания, молча допили свои стаканы и ушли, не расплачиваясь. На этот вечер, очевидно, были гостями приезжего из Ильгенберга.
– Покойной ночи, – сказал я, когда они выходили, но не получил ответа и громко захлопнул за ними дверь. Вскоре пришла хозяйка с лошадиной попоной и подушкой. Мы соорудили довольно сносное ложе из лавки и трех стульев, и в утешение хозяйка сообщила мне, что ночлег она мне в счет не поставит… Я благосклонно принял это к сведению.
Я лежал подле теплой еще печки, полураздетый, укрывшись своим плащом и думал об Агате. Строфа из старой наивной песни, которую я в детстве часто пел со своей матерью, вдруг вспомнилась мне:
Прекрасны цветы,
Прекраснее люди
В чудесные юности дни…
Такой была и Агата, прекраснее цветов, но родственная им. Везде, во всех странах, есть такие немногие, редкие красавицы, и когда мне приходилось встречать такую, это всегда было мне отрадой. Красивые женщины – это большие дети, робкие и доверчивые, и в их безмятежных глазах бессознательно-блаженная ясность красивого животного или лесного родника. Смотришь на них и любишь их без тени желания, и грустно от мысли, что и эти прелестные воплощения молодости и расцвета также когда-нибудь состарятся и погибнут.
Я скоро уснул, и вероятно, благодаря теплу от печки, мне снилось, что я лежу на скалистом берегу южного острова, и горячее солнце греет мне сипну, и я гляжу, как гребет, одна в лодке, черноволосая девушка, медленно уплывает и становится все меньше, меньше…
Утро
Проснулся я, дрожа весь от холода. Печка остыла, и ноги мои стали коченеть. Было уже светло, за стеною на кухне разводили огонь. Первый раз в эту осень белела на полях легкая изморозь. Я одеревенел от жесткой постели и чувствовал тяжесть в теле, но выспался недурно. Умываться пошел я на кухню, где старая служанка встретила меня ласковым приветствием, и почистил там свое платье, которое вчерашний ветер покрыл густым слоем пыли.
Как только я уселся в большой комнате за горячий кофе, вошел приезжий из Ильгенберга, вежливо поклонился и подсел ко мне за стол. Для него уже раньше поставили прибор. Он влил в свою чашку немного старой вишневой настойки из плоской дорожной фляжки и предложил и мне.
– Благодарю, – сказал я, – я не пью водки.
– В самом деле? А я, видите ли, поневоле… Потому что не переношу иначе молока. У каждого своя слабость.
– Ну, если только это, то вам жаловаться нечего.
– Конечно, нет, я и не жалуюсь… Нисколько даже не жалуюсь…
Он принадлежал к породе людей, имеющих потребность часто и беспричинно извиняться. Такие господа, я знаю, скоро становятся в тягость, и скромность их, чуть только они приосмелеют немного, переходит в противоположность, но они всегда забавны, и я охотно их выношу…
Впечатление он делал очень приятное, излишне вежливого, но неглупого человека и прямого.
Платье на нем было немодного покроя, очень прочное и аккуратное, но сидело мешковато.
Он тоже поглядывал на меня, и заметив, что я в коротких брюках, спросил, приехал ли я на велосипеде.
– Нет, пешком.
– Так, так… Экскурсия пешком, понимаю… Да-а, спорт прекрасная вещь, когда время позволяет…
– Вы покупали дрова?
– Да, безделицу… Для собственного употребления.
– Я думал, вы лесопромышленник.
– Нет, ничуть… У меня суконная торговля… То есть понимаете, суконная лавка.
Мы ели за кофе хлеб с маслом, и когда он брал себе масла, мне бросились в глаза его продолговатые изящные узкие руки.
До Ильгенберга, по его мнению, оставалось часов шесть ходьбы. У него была своя лошадь, и он любезно предложил мне поехать с ним, но я отказался. Спросил его о пешеходных дорогах, но сведения получил скудные. Отпив свое кофе, я расплатился с хозяйкой, сунул ломоть хлеба в карман, спустился с лестницы и из мощеных сеней вышел на холодный, утренний воздух.
Перед гостиницей стоял легкий двухместный шарабанчик, экипаж ильгенбергского купца, и из конюшни уже выводили маленькую упитанную лошадку, пеструю, как корова, в красноватых и белых пятнах.
Дорога из долины шла сначала отлогим подъемом, вдоль ручья, потом уже круче, вверх к лесистым холмам.
Бодро шагая по пустынной дороге, я подумал вдруг, что я, в сущности, все свои пути прошел одиноко. Не одни только прогулки – все шаги моей жизни. Были, правда, и друзья, и родные, и добрые знакомые, и любовные увлечения, но никогда они не обнимали, не наполняли всецело моего существования и никогда не увлекали меня на пути, которых я сам себе не намечал. Возможно, конечно, что каждому человеку предопределена черта его движения, как мячу, брошенному чьей-то рукой, и он следует намеченной для него линии и воображает, что подчиняет себе судьбу или, по крайней мере, хитрить с нею. Во всяком случае, «судьба» лежит в нас, а не вне нас, и этим самым поверхность жизни, то, что доступно глазу, приобретает некоторую незначительность, что-то забавно-игрушечное, и созерцание ее может целую жизнь занимать и тешить внимательного наблюдателя. То, к чему люди относятся очень серьезно, то, что считают чуть ли не трагическим, часто оказывается вздором. И те же люди, что падают ниц перед лицом трагического, страдают и гибнут от вещей, на которые никогда не обращали внимания.
Я думал: что гонит меня теперь, меня, свободного человека, в городок Ильгенберг, где мне чужды уже и люди, и дома, и где я едва ли найду что-нибудь, кроме разочарования и, быть может, даже страдания. И я сам подивился на себя, как я все хожу, хожу, и мечусь между смехом и тоской.
Было чудесное утро. В осеннем воздухе и земле уже чувствовалось первое дыхание зимы, но холодная ясность растворялась в разгоравшемся теплом дне. Большие стаи журавлей стройными клипами неслись над полями и громко курлыкали. Внизу, в долине, медленно двигалось стадо овец, и с легкой пылью сливался голубой дымок от трубки пастуха. Все это, вместе с очертаниями гор, и расцвеченные леса, и окаймлённые ивами речонки – четко выступало в хрустально-чистом воздухе, как нарисованная картина, и захватывающая красота земли говорила свои тихие, проникновенные речи, не заботясь о том, кто слушает ее.
Для меня это всегда было удивительно, непостижимо и увлекательнее всех вопросов и интересов человеческой жизни: как тянется гора к небесам и воздух беззвучно дремлет в долинах, как падают с ветвей желтеющие листья березы, и стаи птиц прорезают воздушную синеву…
Вечно-загадочное, стыдом и блаженством обжигает тогда сердце, и спадает с человека кичливость, с которой он говорит о непонятном… Но не покоренным вовсе чувствует себя, а все принимает с благодарностью и с гордостью и скромностью сознает себя гостем вселенной…
На опушке леса пролетела мимо меня из кустарника куропатка, громко хлопая крыльями. Коричневые листья ежевики на высоких лозах свешивались над дорогой, и на каждом листе лежала шелковисто-прочная тонкая изморозь, отсвечивавшая серебром, как бархатные ворсинки. Если бы какому-нибудь художнику удалось бы наполовину подражание этим тонам, он изумил бы мир.
Когда я поднялся на открытое место, откуда развернулась передо мною широкая перспектива, я узнал опять эти места. Но название деревушки, где я ночевал, мне было неизвестно, и я об этом и не спрашивал…
Дорога моя пошла теперь вдоль леса, с северной стороны. И меня очень занимало разглядывание смелых, внушительных и фантастичных очертаний деревьев, ветвей и корней… Ничто не может так сильно и глубоко увлечь воображение. Сначала преобладают комичные впечатления: в переплетах корней, в расселинах в земле, в изгибах ветвей, в чащах листвы вам мерещатся гримасы, смешные, карикатурные черты знакомых лиц. Потом глаз обостряется, ищет больше и находит уже целые полчища, причудливых силуэтов. Комичное исчезает, потому что все образы глядят так решительно, у них такой смелый, несокрушимый вид, что их молчаливая рать скоро убеждает в своей закономерности и серьезной необходимости. И, наконец, начинает наводить грусть и жуть…
Да, несомненно… Изменчивый, облеченный в маску человек пугается, вглядевшись внимательно в то, что свободно и естественно произрастает из земли…
Такое же впечатление, как деревья и камни, сделали на меня однажды фотографические снимки с индейцев. Это были огромные страшные лица, будто из железа или дерева, быть может, тоже маски, но неизменные…
Занятно в очертаниях горной вершины открывать профиль человеческого лица и в утесе фигуры зверя. Но кто умеет находить только это, кто, помимо случайного сходства, не видит и не сравнивает естественно-сложившихся форм, для кого эти формы никогда не воплощают трогательных образов, немой речи, скованной силы и страсти, – тот жалкий бедняк, и нет ничего неприятнее такого спутника.
Ильгенберг
Деревня, к которой я пришел после двухчасовой ходьбы, называлась Шлухтерзинген и была мне знакома. Я здесь бывал когда-то. Пересекая деревенскую улицу, я увидел перед нововыстроенной гостиницей шарабан, и тотчас узнал экипаж ильгенбергского купца и его маленькую рябую лошадку.
Он сам показался в эту минуту в дверях, и хотел уже сесть, как заметил меня. Тотчас же дружелюбно поклонился мне и закивал головой.
– У меня и здесь еще были дела, но теперь еду прямо в Ильгенберг. Поедемте со мной… Если, конечно, вас не прельщает больше идти пешком…
У него был такой добродушный вид, а мое желание быть, наконец, у цели моего путешествия было так сильно, что я принял его предложение и влез в его шарабан. Он дал на чай слуге из гостиницы, взял вожжи в руки, и мы поехали. Шарабанчик быстро и легко катил по ровной, твердой улице, и после долгого дня ходьбы мне очень приятно было ощущение удобной езды…
Приятно мне было и то, что купец не делал никаких попыток выспрашивать меня. Потому что яри малейшем поползновении я тотчас вылез бы из шарабана. Он спросил только, путешествую ли я удовольствия ради, и знаком ли с местностью.
– Какая теперь в Ильгенберге хорошая гостиница? – спросил я. – Раньше хорошо было «У оленя», Бёлигер звали хозяина.
Другие электронные книги автора Герман Гессе
Кнульп




 0
0