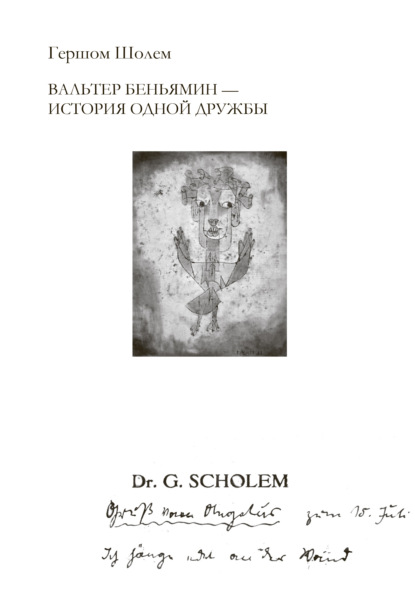По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вальтер Беньямин – история одной дружбы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этой связи я хотел бы сказать, что Беньямин, по сути, был совсем не циничным человеком, что, пожалуй, зависело от его глубоко укоренённой мессианской веры. Конечно, к буржуазному обществу он относился с немалой долей цинизма, но даже это давалось ему с трудом. За пределами этой области элемент цинизма у него полностью отсутствовал. Там, где речь шла о таких важных вещах, как религия, философия и литература, в Беньямине не было и следа цинизма. Его анархизм не имел с цинизмом ничего общего, а «веления духа» были для него в годы нашего близкого общения понятием, полностью исключавшим что-либо подобное. И всё же приходилось иногда удивляться его искренним высказываниям, в которых цинизм сочетался с глубокой и серьёзной духовностью. Это я наблюдал у него на трёх примерах: на его восхищении флоберовским «Буваром и Пекюше», связанным скорее с конгениальным ему презрением к буржуазной лживости; на его восхищении Миноной и, возможно, Фердинандом Хардекопфом. В отношении Миноны я легко мог согласиться с ним, а вот для Хардекопфа у меня отсутствовало необходимое «чувствилище».
Когда между Вальтером и Дорой царил мир – вскоре после приезда, ожидая их в соседней комнате, я был свидетелем шумных сцен – в их отношениях проявлялась несравненная внимательность и они оставались неприкрыто нежны друг к другу даже в моём присутствии. В их тайном языке существовало много слов, которых я не понимал – ласкательные словечки и тому подобное. Особенно излюбленным было слово Ekul, которое, в противоположность слову Ekel
, употреблялось в чрезвычайно положительном смысле. Так, Вальтер, по словам Доры, был «преласковый бука», а я летом 1918 года звался «благочестивый бука». Дора в то время была полногрудой Юноной, со страстной натурой, легко взрывалась, иногда доходя до приступов истерии, но могла быть и очень любезной и милой. Во многих разговорах с ними речь редко заходила об эротических или сексуальных вопросах. В те швейцарские годы это было тем заметнее, что Дора отнюдь не чуралась таких тем и заводила о них разговор, но Беньямина они как- то не интересовали. Но он много лет упорно – даже в разговорах с другими – отстаивал странный тезис, что несчастной любви не бывает, тезис, который решительно опровергался его собственной биографией.
В эти годы, между 1915-м и как минимум 1927-м, религиозная сфера имела для Беньямина, без всякого сомнения, центральное значение; в центре этой сферы располагалось понятие «учения», которое для него хотя и включало область философии, но перешагивало её границы. В своих ранних работах он то и дело возвращается к этому понятию, которое в еврейской Торе означает «наставление», наставление не только об истинном положении и пути человека в мире, но и о транскаузальной связи вещей и её заповеданности Богом. Это имело много общего с беньяминовским понятием традиции, приобретающим всё более мистический оттенок. Многие из наших разговоров – больше, чем прослеживается по его записям, – витали вокруг связей между двумя этими понятиями: религия, но не только теология – как, например, считала Ханна Арендт, имея в виду его последние годы – представляет собой некий высший порядок. (Слово «порядок», или «духовный порядок», часто употреблялось им в те годы. В изложении своих мыслей он часто прибегал к нему вместо «категории».) В разговорах тех лет он не стеснялся говорить о Боге без обиняков. Поскольку мы оба верили в Бога, мы никогда не спорили о его «бытии». Бог был для него реален – начиная от самых ранних статей по философии, в письмах времён расцвета «Молодёжного движения» и вплоть до заметок к первой его диссертации по философии языка. Мне знакомо одно ненапечатанное письмо об этом, письмо к Карле Зелигзон от июня 1914 года. Но даже в упомянутых записях Бог является недостижимым центром учения о символах, которое должно было отдалять его не только от всего предметного, но и от всего символического. Если в Швейцарии Беньямин говорил о философии как учении о порядках духовности, то его дефиниция, которую я тогда для себя записал, выходит и в область религиозного: «Философия есть абсолютный опыт, выведенный в систематико-символической связи как язык» и тем самым – часть «учения». То, что впоследствии он отошёл от непосредственного религиозного способа выражения, хотя теологическая сфера оставалась для него глубоко живой, нисколько этому не противоречит.
До того, как я приехал в Швейцарию, он полностью прочёл – наряду со Штифтером и Франсом – три толстых тома «Истории догм» Гарнака, которые надолго – отнюдь не к лучшему – определили его представление о христианской теологии и оказали столь же большое влияние на его решительное отвержение католицизма, как многие разговоры со мной – на его склонность к миру иудаизма, пусть она даже оставалась в области абстракции.
Спустя несколько дней после моего приезда супруги Беньямины взяли меня на состоявшийся в маленьком зале фортепьянный концерт Бузони, который исполнял Дебюсси. Это было «общественным» мероприятием, по бернским понятиям, и это был единственный раз, когда я видел Беньяминов на таком мероприятии; оба были весьма элегантно одеты и раздавали поклоны направо и налево. Отец Доры рекомендовал Беньямина своему близкому другу Самуэлю Зингеру, ординарному профессору средневерхненемецкого языка в Берне, и время от времени супругов Беньяминов приглашали в фортепьянный зал вместе с несколькими профессорами. Летний семестр только начался, и я – ещё до моего формального зачисления – начал вместе с Беньямином посещать некоторые лекции. Мы слушали «Введение в критический реализм» в исполнении Хербертца, и единственным содержанием этих лекций Беньямин назвал то, что деревянного железа не бывает. Этот курс лекций да ещё один, читавшийся Паулем Хеберлином, и лекции о романтизме Гарри Майнца, в которых, согласно Беньямину, «фальшь маскировалась китчем», были очень малолюдны. Но поскольку Беньямину для защиты диссертации были нужны три этих курса по философии, психологии и истории немецкой литературы и он должен был участвовать в семинарах, он просил меня хотя бы составлять ему компанию на лекциях. От скуки мы часто забавлялись, составляя списки знаменитых людей на какую-нибудь одну букву алфавита. Беньямин участвовал в семинаре Хеберлина по Фрейду; про фрейдовское учение о влечениях он написал тогда подробный реферат, но само учение ценил невысоко. Для этого семинара он, среди прочего, прочёл и «Мемуары нервнобольного» Шребе-ра
, которые произвели на него гораздо более глубокое впечатление, чем фрейдовская статья о них
. Беньямин побудил и меня прочесть книгу Шребера, чьи формулировки были очень выразительны и многозначительны. Из этой книги он позаимствовал для нашей игры выражение «улетучившиеся люди». У Шребера, который в разгар его паранойи полагал, будто мир разрушается враждебными ему «лучами», это было ответом на возражение, что, очевидно, врачи, пациенты и служащие сумасшедшего дома всё-таки существуют. На семинаре Хербертца мы читали «Метафизику» Аристотеля. Беньямин был неоспоримым фаворитом и заслужил – как он имел обыкновение говорить – «семинарские лавры, laurea communis minor»
. Хербертц, который любил говорить тоном философского рыночного зазывалы и выкрикивать аристотелевское ?? ?? ?? ?????
, словно глашатай, из будки чудес объявляющий выступление дамы без нижней половины тела, глубоко уважал Беньямина и уже относился к нему как к младшему коллеге. Его совершенно независтливое восхищение беньяминовским гением, который был полной противоположностью его собственному мелкобуржуазному мышлению, выказывало глубокое благородство его сути, которое он ещё не раз проявил, в том числе и в годы Второй мировой войны.
Несколько недель подряд мы встречались ежедневно, потом – как минимум по три раза. Сразу после моего приезда Беньямин и Дора предложили мне поселиться в деревушке Мури, которая находилась в получасе ходьбы от моста Кирхенфельд в сторону Туна
, где они – из-за ситуации с жильём в городе – собирались снять квартиру. И до начала августа мы жили за городом; моя комната была в двух минутах ходьбы от них, и, таким образом, между нами шло оживлённое общение. Беньямин сразу стал уговаривать меня вместе изучить какую-нибудь философскую работу. После некоторых колебаний мы – поскольку он тогда особенно интересовался Кантом – сошлись на основополагающем для Марбургской школы сочинении, на книге Когена «Кантова теория познания»
, которую затем подолгу анализировали и обсуждали. Так как мы – как выразился Беньямин в наших первых разговорах – образовали «свою собственную академию», тогда как в университете можно было обучиться лишь немногому, речь зашла о полусерьёзном-полушуточном открытии «университета Мури» и его «институций» – библиотеки и академии. В перечне лекций этого университета, в уставе академии и в воображаемом каталоге недавно поступивших книг, которые Беньямин снабжал аннотациями, фонтанирующими весельем, мы отводили душу последующие три-четыре года, давая выход нашему задору и подвергая осмеянию академическую рутину. Беньямин подписывался как ректор и неоднократно сообщал мне в письменной и устной форме о новейших событиях в университете, созданном нашей фантазией – тогда как я фигурировал в них как «младший служащий при религиозно-философском семинаре», но иногда и как член факультета.
Первые дни в Швейцарии протекали чрезвычайно интенсивно и празднично. Мой приезд был отмечен торжественным обедом, на котором Беньямин сообщил мне, что займётся изучением древнееврейского, как только сдаст экзамен. Для нас были важны разговоры об иудаизме, философии и литературе; к ним добавлялись чтение стихов, игры, разговоры наедине с Дорой, когда она рассказывала мне о своей прежней жизни и о Беньямине. Дора рано уходила спать, а мы с Беньямином говорили допоздна. 10 мая он дал мне на прощание написанную в 1913–1914 годах «Метафизику молодости»
, которую я переписал для себя.
С самого начала мы много говорили о его «Программе грядущей философии». Он говорил об объёме понятия опыта, которое, по его мнению, охватывает духовную и психологическую связь человека с миром, а эта связь свершается в сферах, куда ещё не проникло познание. Когда же я заговорил о том, что в таком случае было бы легитимным включить в это понятие опыта мантические дисциплины, он ответил, экстремально заострив формулировку: «Не может быть истинной философия, которая не включает и не может объяснить возможность гадания на кофейной гуще». Такие гадания, дескать, могут порицаться, как в иудаизме, но их следует считать возможными, исходя из взаимосвязи вещей. На самом деле, даже его поздние заметки об оккультном опыте полностью не исключают таких возможностей, хотя, скорее, implicite
. С этой точки зрения – а вовсе не из- за какой-то наркотической зависимости, совершенно чуждой ему и напрасно приписываемой ему в последнее время – объясняется его временами живой интерес к опыту употребления гашиша. Ещё в Швейцарии Беньямин, на чьём столе я впоследствии видел Les paradis artificiels
, говорил при обсуждении упомянутой работы о расширении человеческого опыта в галлюцинациях, которые, по его мнению, не исчерпываются такими словами, как «иллюзия». О Канте Беньямин говорил, что тот «обосновывает неполноценный опыт».
Этот тезис сыграл свою роль в разочаровании, которое мы испытали по прочтении работы Когена. Мы оба, слушавшие в разное время лекции или доклады Когена в его берлинский период и относившиеся к Ко- гену с почтением и даже с благоговением, приступили к этому чтению с большими ожиданиями и готовностью к критическому обсуждению. Но выводы и интерпретации Когена показались нам сомнительными, и мы не оставили от них камня на камне. У меня до сих пор сохранились заметки к критике кантовских силлогизмов в «трансцендентальной эстетике» и к доказательству их необоснованности – эти заметки я написал после нескольких наших занятий. Беньямин при этом высказывался об отношении рационалиста, которым являлся Коген, к интерпретации. «Для рационалиста не только тексты абсолютной ценности, как Библия [а для Беньямина также Гёльдерлин], поддаются интерпретации на разных уровнях, но и всё, что является объектом, выставляется рационалистом как абсолют и посему подлежит насильственному комментарию, как Аристотель, Декарт, Кант». В критике Канта Беньямин находил также оправдание феноменологам в их обращении к Юму. Беньямин не нуждался в рационалистическом позитивизме, занимавшем нас в связи с чтением Когена, так как он стремился к «абсолютному опыту». Наши сетования по поводу интерпретации Канта Когеном стали столь серьёзными, что с началом летних каникул в августе наши занятия завершились – при том, что в июле мы ежедневно занимались по два часа. Беньямин жаловался на «трансцендентальную путаницу» рассуждений Когена. «Тут я с равным успехом могу обратиться и в католицизм». Для меня различие между этой работой по Канту и когеновской собственной «Логикой чистого познания»
, половину которой я тогда только что прочёл, было очевидным, как бы ни казались взаимозависимыми эти два сочинения. О некоторых тезисах книги Беньямин утверждал, что это «отрицательные эталоны маленьких пухлых фолиантов». Он назвал когеновскую книгу «философским осиным гнездом».
В то время Беньямин много говорил о Ницше последнего периода. Незадолго до моего приезда он прочёл книгу К. Бернулли «Ницше и Овербек»
, которую назвал увлекательным примером газетной научно-популярной литературы. Очевидно, Бернулли побудил его задуматься над Ницше. По мнению Беньямина, Ницше был единственным, кто в XIX веке, когда «слышали» только природу, узрел исторический опыт. Даже Буркхардт-де ходил вокруг да около исторического этоса. Его этос – этос не истории, а исторического рассмотрения, гуманизма. В высказываниях Беньямина о философии тогда присутствовала отчётливая тенденция к систематизации. Вскоре после своего приезда я записал: «Он мчится в систему на всех парусах». Иногда Беньямин прямо-таки приравнивал друг к другу термины «система» и «учение». К этой области, как прежде, относились его споры с миром мифа и, в связи с его занятиями Бахофеном, умозрения относительно космогонии и «допотопного» мира человека. Я часто излагал ему свои идеи об иудаизме и его борьбе против мифа – о чём я очень много думал за прошедшие восемь месяцев. Особенно часто мы говорили на эти темы между серединой июня и серединой августа. Тогда мы испытали, пожалуй, особенно сильное взаимовлияние. Он прочёл мне длинную статью о грёзах и ясновидении, в которой пытался сформулировать законы, управляющие миром домифических призраков. Он различал две исторические мировые эпохи – призраков и демонов, – предшествовавшие мировой эпохе откровения; я же предлагал называть последнюю, скорее, мессианской. Собственным содержанием мифа, по его мнению, является грандиозная революция, которая в полемике против эпохи призраков положила ей конец. Уже тогда его занимали мысли о восприятии как о некоем чтении конфигураций поверхности: именно так-де первобытный человек воспринимал окружавший его мир и, особенно, небо. Здесь располагался зародыш тех рассуждений, каковые он представил четыре года спустя в статье «Учение о подобии»
. Возникновение созвездий как конфигураций на поверхности неба – утверждал Беньямин – является началом чтения и письма, и оно совпадает с формированием мировой эпохи мифа. Созвездия для мифического мира были тем, чем впоследствии стало откровение Священного Писания
.
Весь спектр состояний между сновидением и бодрствованием увлекал Беньямина так же, как и мир самих сновидений. Однажды он объяснил мне закон толкования сновидений; он считал, что открыл его, я же – вновь перечитав свои записи на эту тему – не понял этого закона. Когда Беньямин впоследствии насколько я могу догадываться – отказался от толкования сновидений, по меньшей мере, explicite
, он продолжал часто рассказывать собственные сны и охотно заговаривал на тему толкования сновидений. Не помню, чтобы он возражал моему глубокому разочарованию одноимённой фрейдовской книгой, о которой я написал ему несколько лет спустя. В Мури Беньямин рассказывал о сне весны 1916 года в Зеесхаупте, за три дня до кончины его любимой тётки Фридерики Йозефи, которая покончила жизнь самоубийством. Сновидение сильно взволновало его, и он часами пытался найти его истолкование, но тщетно. «Я лежал в постели, в комнате был ещё один человек и моя тётка, но они не общались. В окно глядели люди, проходившие мимо». Лишь впоследствии ему стало ясно, что это было символическим известием о её смерти. Я не уверен, сказал ли Вальтер напрямую, что одна из смотревших в окно была сама тётка, что прояснило бы его истолкование. В другой раз он рассказал после шутливо-ожесточённого разговора о запланированной «Энциклопедии белиберды» в духе Флобера
, что видел во сне накануне: «Было двадцать человек, которые должны были разбиться по двое для того, чтобы изобразить ситуацию, соответствующую заданной теме. Чудесным образом костюмы вырастали на нас в зависимости от наших намерений. Кто управлялся с делом раньше, задавал тон партнёру. Приз получал тот, кто изображал тему лучше всех». Вальтер должен был получить приз за тему «отказа». Он при этом был маленьким кругленьким китайцем в синих одеждах, а его назойливый партнёр, который чего-то от него хотел, взобрался к нему на спину. Но и другая пара столь же хорошо справилась со своей темой, поэтому приз решили дать за другую тему – «ревность». «Тут я был женщиной и лежал, распростёршись на полу, а мужчина обнимал меня, и я ревниво смотрел на него снизу вверх и высовывал язык».
Беньямин предавался также сравнению философского стиля нашего поколения с кантовским; стиль Канта – вопреки господствовавшему мнению – он считал утончённым и ссылался в этом на Клейста. В качестве доказательства он должен был бы привести, как я ожидал, цитаты из малых произведений Канта или из «Критики способности суждения», но он прочёл мне письмо Канта к Козегартену, чтобы тут же с расстановкой и торжественным голосом прочесть два сохранившихся в переписке Канта письма Самуэля Колленбуша – это были послания благочестивого христианина, протестовавшего против «религии в границах чистого разума»
(«Мне жаль, что И. Кант не уповает ни на что хорошее от Бога»). После этого он надолго замолк, а затем величественно вперил в меня взор, как если бы хотел сказать, что эту прозу, пожалуй, можно поставить рядом с библейской. Затем Вальтер прочёл три письма из переписки Гёте с Цельтером – среди них письмо Гёте о смерти его сына. Эти письма, особенно письма Колленбуша, ещё годы спустя всплывали в его разговорах и принадлежали к тем, которые дали толчок к возникновению его сборника «Люди Германии»
. Впоследствии мы провели немало бесед о Гёте; они были, скорее, монологами Беньямина, в лучшем случае – его монологами, которые я перебивал вопросами, так как я тогда мало читал Гёте. Говорил он и об «автобиографической жизни Гёте, которая основана на затуманивании». Когда он сказал, что узрел правду о Гёте, обдумывая его брак, он спонтанно перешёл к собственному обручению с Гретой Радт
. Он видел некую параллель между двумя этими отношениями, но какую именно, я не помню. Его непредвзятый взгляд на Гёте выразился уже в швейцарский период в высокой, лишь наполовину ироничной, оценке трёхтомной биографии Гёте, написанной иезуитом Баумгартнером
. Он пускался в похвалы «разоблачениям», которые содержались в этом памфлете: ненависть нередко наделяла автора проницательностью. «Настоящий иезуит о Гёте – это надо видеть». Или же «если выбирать между Баумгартнером и Гундольфом, я не затрудняюсь»
. Конечно, суждения Баумгартнера оставляли Беньямина совершенно безразличным; его интересовала детективная и инквизиторская сторона книги, где Гёте изображался в виде преступника, которого необходимо было изобличить. Меня тогда гораздо сильнее трогал Жан-Поль, о котором Беньямин говорил, что в Германии это единственный великий писатель, который может не принимать упрёк в свой адрес, что он жил в исторической сфере насилия. Против Шиллера, однако, этот упрёк правомерен, и «нет большего надувательства, чем историческая невинность Шиллера». Шиллеровский отказ помогать Гёльдерлину взаимосвязан с этой «невинностью» и с его «демонической моралью». В другой раз Беньямин прочёл вслух стихотворение Ленца о Канте: «Подлинное преклонение: оно бесконечно».
В те первые недели у нас было много важных разговоров, иногда за полночь, и среди прочего мы читали набросок новой этики, копию которой Людвиг Штраус посылал Беньямину и мне и которую мы подвергали критическому разбору. Беньямин читал и собственные стихи, но, прежде всего, стихи Фрица Хейнле, Августа Вильгельма Шлегеля и Платена, о котором он говорил, что чувствует с ним родство душ. Мы оба – как немало евреев из нашего поколения до прихода Гитлера к власти – совершенно пренебрегали Гейне, и я не помню, чтобы у нас был хоть один разговор о поэзии Гейне. Беньямин, готовя диссертацию о понятии художественной критики в раннем романтизме, прочёл «Романтическую школу» Гейне и дал о ней уничтожающий отзыв. Когда в 1916 году я впервые услышал о Карле Краусе, я прочёл его «Гейне и последствия»
, а Беньямин – ещё нет. Он в то время штудировал прозаические сочинения Фридриха Шлегеля, к которому издавна испытывал влечение, в том числе и к его поэзии, – и при этом натолкнулся на Фихте. Фихте, Кьеркегора и Фрейда Беньямин причислял к «сократическим людям». Лишь гораздо позднее в письме, отправленном в январе 1936 года нашей общей знакомой Китти Штейншнейдер, он писал, что «в Фихте революционный дух немецкой буржуазии превратился в куколку, из которой вылупился бражник – мёртвая голова национал-социализма».
Карл Краус. Вена, 1936 г.
Если в разговорах Беньямин часто высказывался о Георге и его «круге» (о последнем – с большой сдержанностью или полемично), то о поэзии Рильке говорил лишь изредка, что контрастировало с высокой оценкой, какую он давал ему в период «Молодёжного движения» и о которой мне рассказывали его друзья того времени (о чём я тогда ещё не знал). В мае 1918 года у нас с Беньямином произошла подробная беседа, в которой он – без всякой полемики – попытался дать определение сфере поэзии Рильке. Деталей я не помню, кроме одной. Мой друг Эрих Брауэр, который семестр назад начал учиться во Фрейбурге-им-Брейсгау, написал мне о глубоком впечатлении, произведённом на него лекцией Эрнста Бушора, археолога классической древности. Бушор говорил о хранящемся в музее в Неаполе архаическом торсе Аполлона и под конец лекции продекламировал стихотворение Рильке под тем же названием, после чего расплакался – а это не повседневное событие на университетской лекции по археологии
. Я поведал об этом Беньямину, и он сказал: «Это и впрямь необыкновенное стихотворение!». Годы спустя он послал мне копию своего по неведомым причинам оставшегося ненапечатанным ответа на злобный некролог, написанный на смерть Рильке Францем Блеем в «Литературном мире»
и глубоко возмутивший Беньямина. Этот ответ показал весьма изменившееся отношение Беньямина к Рильке, но тот сонет из сборника «Новые стихотворения» он по- прежнему назвал в числе незабываемых стихов. Когда же я в одном письме о жалобных песнях написал о трёх текстах: о библейском плаче Давида по Ионафану и о двух стихотворениях на ту же тему – Рильке и Эльзы Ласкер-Шюлер – он ответил, что стихотворение Рильке просто плохое. В одном разговоре о жалобных песнях – тема, глубоко занимавшая меня тогда в связи с древнееврейским – он мне сказал, что в романе Рильке «Мальте Лауридс Бригге» есть чудесная жалобная песнь. Я раскрыл книгу, и в искомом месте была приведена цитата из главы 30 Книги Иова, хотя и без указания источника! При всей остроте критики, которую Беньямин впоследствии обрушил на Рильке как на «классика всех слабостей югендштиля», он никогда не снисходил до распространившейся впоследствии «социально-критической» глупости, когда насмехались над знаменитым стихотворением Рильке о Франциске Ассизском
, считая его снобистско-реакционным восхвалением нищеты.
К литературному экспрессионизму, возникшему в предвоенные годы в кругу, близком Беньямину, он никогда не примыкал как к направлению. Однако к экспрессионистской живописи Кандинского, Марка Шагала и Пауля Клее на некоторых её фазах относился с большим восхищением. Ещё в Йене я подарил ему книгу Кандинского «О духовном в искусстве»
, где его привлекали именно мистические элементы содержащейся в ней теории. Но в девизах как таковых Беньямин находил вообще мало смысла и ориентировался, скорее, не на школы, а на конкретные феномены. Имя Казимира Эдшмида, тогда популярного представителя экспрессионистской прозы, было для Беньямина символом претенциозной пошлости и использовалось на том же уровне насмешки, что и имя Фриды Шанц. Правда, Георга Гейма он считал большим поэтом и цитировал мне наизусть – для него дело необычное – стихи из «Вечного дня»
. До сих пор остаётся нерешённой загадка поэзии Фрица Хейнле, содержащей, по мнению Беньямина, элементы величия, отличавшие его от основной массы экспрессионистов.
На описываемое время приходится также и начало его коллекционирования старых детских книг, о котором он написал в июле 1918 года в напечатанном письме к Эрнсту Шёну. Коллекционирование началось из-за энтузиазма Доры по отношению к таким книгам. Дора любила также саги и книги сказок. Оба, по меньшей мере до 1923 года, пока я жил рядом с ними, имели обыкновение дарить друг другу на дни рождения иллюстрированные детские книги и охотились, прежде всего, за экземплярами, раскрашенными вручную. Он показал мне сочинения Лизера с восторгом, в котором радость открытия была связана и с художественным результатом. Беньямин любил произносить небольшие речи о таких книгах перед Дорой и мной, чтобы особо выделить неожиданные ассоциации, встреченные в текстах. В июне 1918 года мы нашли у одного антиквара в Берне первый том «Книги с картинками для детей» Бертуха – из Веймарского круга
; впоследствии Беньямин приобрёл ещё несколько томов. Эта книга образовала особый фокус его любовного погружения. Когда Беньямин комментировал ту или иную иллюстрацию, в нём уже тогда воспламенялось его особое чутьё к эмблематике, хотя мы этого и не осознавали. Ассоциативно определённые картинки в таких книгах приковывали его на том же уровне, как впоследствии «Меланхолия I» Дюрера и книги об эмблемах XVIXVII веков.
Его склонность к воображаемому миру ассоциаций, связанная с пробуждением участия в мире ребёнка и погружением в этот мир в детские годы его сына, сказывалась и в его интересе к литературе душевнобольных. Уже в Берне у него было несколько работ такого происхождения. В них его восхищал, прежде всего, архитектонический, как сегодня выразились бы – структурный элемент систем их мира и часто с ними связанные фантастические иерархии с не текучей, как у детей, а с горестно и сурово затвердевшей упорядоченностью. Интерес Беньямина был при этом не патопсихологический, а метафизический. Я нередко слышал, как он говорил на упомянутые темы – но никогда не в связи с психоаналитической техникой, о которой он тогда знал хотя бы из чтения работ Фрейда и некоторых его ранних учеников. Из этой же серии было его уже упомянутое отношение к живописи – которое распространялось и на Джеймса Энсора задолго до его открытия сюрреалистами. Он любил посещать выставки, где его проницательное понимание искусства развивалось больше, чем при изучении репродукций. Ещё в Париже он привёл меня в кабинеты, где производились иллюзии, горячо расхваливая их технику, а также в музей восковых фигур мадам Тюссо, где неожиданные сопоставления также вызывали его эстетически-ассоциативный восторг.
Об эстетической теории, которой я не интересовался, мы почти не говорили, и я припоминаю лишь два исключения: его пожизненную убеждённость в значении работы Алоиза Ригля «Позднеримская художественная индустрия»
и его любовь к «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля, которую он читал в связи со своими исследованиями романтизма
. Особенно я вспоминаю фразу Жан-Поля, охотно цитируемую Беньямином как вершину чувства юмора. Жан-Поль говорил о раннем романтизме как об «уже полупогибшей школе, чьи важнейшие учебники, однако, в первую очередь шлегелевские – пережили её краткое бессмертие».
Бывая вместе, мы нередко проводили время в прогулках по старому Берну, но больше всего общались в рабочей комнате Беньямина, где он постепенно собрал значительную часть своей библиотеки. Иногда мы совершали и большие путешествия – например, ночной поход из Туна в Интерлакен
Когда между Вальтером и Дорой царил мир – вскоре после приезда, ожидая их в соседней комнате, я был свидетелем шумных сцен – в их отношениях проявлялась несравненная внимательность и они оставались неприкрыто нежны друг к другу даже в моём присутствии. В их тайном языке существовало много слов, которых я не понимал – ласкательные словечки и тому подобное. Особенно излюбленным было слово Ekul, которое, в противоположность слову Ekel
, употреблялось в чрезвычайно положительном смысле. Так, Вальтер, по словам Доры, был «преласковый бука», а я летом 1918 года звался «благочестивый бука». Дора в то время была полногрудой Юноной, со страстной натурой, легко взрывалась, иногда доходя до приступов истерии, но могла быть и очень любезной и милой. Во многих разговорах с ними речь редко заходила об эротических или сексуальных вопросах. В те швейцарские годы это было тем заметнее, что Дора отнюдь не чуралась таких тем и заводила о них разговор, но Беньямина они как- то не интересовали. Но он много лет упорно – даже в разговорах с другими – отстаивал странный тезис, что несчастной любви не бывает, тезис, который решительно опровергался его собственной биографией.
В эти годы, между 1915-м и как минимум 1927-м, религиозная сфера имела для Беньямина, без всякого сомнения, центральное значение; в центре этой сферы располагалось понятие «учения», которое для него хотя и включало область философии, но перешагивало её границы. В своих ранних работах он то и дело возвращается к этому понятию, которое в еврейской Торе означает «наставление», наставление не только об истинном положении и пути человека в мире, но и о транскаузальной связи вещей и её заповеданности Богом. Это имело много общего с беньяминовским понятием традиции, приобретающим всё более мистический оттенок. Многие из наших разговоров – больше, чем прослеживается по его записям, – витали вокруг связей между двумя этими понятиями: религия, но не только теология – как, например, считала Ханна Арендт, имея в виду его последние годы – представляет собой некий высший порядок. (Слово «порядок», или «духовный порядок», часто употреблялось им в те годы. В изложении своих мыслей он часто прибегал к нему вместо «категории».) В разговорах тех лет он не стеснялся говорить о Боге без обиняков. Поскольку мы оба верили в Бога, мы никогда не спорили о его «бытии». Бог был для него реален – начиная от самых ранних статей по философии, в письмах времён расцвета «Молодёжного движения» и вплоть до заметок к первой его диссертации по философии языка. Мне знакомо одно ненапечатанное письмо об этом, письмо к Карле Зелигзон от июня 1914 года. Но даже в упомянутых записях Бог является недостижимым центром учения о символах, которое должно было отдалять его не только от всего предметного, но и от всего символического. Если в Швейцарии Беньямин говорил о философии как учении о порядках духовности, то его дефиниция, которую я тогда для себя записал, выходит и в область религиозного: «Философия есть абсолютный опыт, выведенный в систематико-символической связи как язык» и тем самым – часть «учения». То, что впоследствии он отошёл от непосредственного религиозного способа выражения, хотя теологическая сфера оставалась для него глубоко живой, нисколько этому не противоречит.
До того, как я приехал в Швейцарию, он полностью прочёл – наряду со Штифтером и Франсом – три толстых тома «Истории догм» Гарнака, которые надолго – отнюдь не к лучшему – определили его представление о христианской теологии и оказали столь же большое влияние на его решительное отвержение католицизма, как многие разговоры со мной – на его склонность к миру иудаизма, пусть она даже оставалась в области абстракции.
Спустя несколько дней после моего приезда супруги Беньямины взяли меня на состоявшийся в маленьком зале фортепьянный концерт Бузони, который исполнял Дебюсси. Это было «общественным» мероприятием, по бернским понятиям, и это был единственный раз, когда я видел Беньяминов на таком мероприятии; оба были весьма элегантно одеты и раздавали поклоны направо и налево. Отец Доры рекомендовал Беньямина своему близкому другу Самуэлю Зингеру, ординарному профессору средневерхненемецкого языка в Берне, и время от времени супругов Беньяминов приглашали в фортепьянный зал вместе с несколькими профессорами. Летний семестр только начался, и я – ещё до моего формального зачисления – начал вместе с Беньямином посещать некоторые лекции. Мы слушали «Введение в критический реализм» в исполнении Хербертца, и единственным содержанием этих лекций Беньямин назвал то, что деревянного железа не бывает. Этот курс лекций да ещё один, читавшийся Паулем Хеберлином, и лекции о романтизме Гарри Майнца, в которых, согласно Беньямину, «фальшь маскировалась китчем», были очень малолюдны. Но поскольку Беньямину для защиты диссертации были нужны три этих курса по философии, психологии и истории немецкой литературы и он должен был участвовать в семинарах, он просил меня хотя бы составлять ему компанию на лекциях. От скуки мы часто забавлялись, составляя списки знаменитых людей на какую-нибудь одну букву алфавита. Беньямин участвовал в семинаре Хеберлина по Фрейду; про фрейдовское учение о влечениях он написал тогда подробный реферат, но само учение ценил невысоко. Для этого семинара он, среди прочего, прочёл и «Мемуары нервнобольного» Шребе-ра
, которые произвели на него гораздо более глубокое впечатление, чем фрейдовская статья о них
. Беньямин побудил и меня прочесть книгу Шребера, чьи формулировки были очень выразительны и многозначительны. Из этой книги он позаимствовал для нашей игры выражение «улетучившиеся люди». У Шребера, который в разгар его паранойи полагал, будто мир разрушается враждебными ему «лучами», это было ответом на возражение, что, очевидно, врачи, пациенты и служащие сумасшедшего дома всё-таки существуют. На семинаре Хербертца мы читали «Метафизику» Аристотеля. Беньямин был неоспоримым фаворитом и заслужил – как он имел обыкновение говорить – «семинарские лавры, laurea communis minor»
. Хербертц, который любил говорить тоном философского рыночного зазывалы и выкрикивать аристотелевское ?? ?? ?? ?????
, словно глашатай, из будки чудес объявляющий выступление дамы без нижней половины тела, глубоко уважал Беньямина и уже относился к нему как к младшему коллеге. Его совершенно независтливое восхищение беньяминовским гением, который был полной противоположностью его собственному мелкобуржуазному мышлению, выказывало глубокое благородство его сути, которое он ещё не раз проявил, в том числе и в годы Второй мировой войны.
Несколько недель подряд мы встречались ежедневно, потом – как минимум по три раза. Сразу после моего приезда Беньямин и Дора предложили мне поселиться в деревушке Мури, которая находилась в получасе ходьбы от моста Кирхенфельд в сторону Туна
, где они – из-за ситуации с жильём в городе – собирались снять квартиру. И до начала августа мы жили за городом; моя комната была в двух минутах ходьбы от них, и, таким образом, между нами шло оживлённое общение. Беньямин сразу стал уговаривать меня вместе изучить какую-нибудь философскую работу. После некоторых колебаний мы – поскольку он тогда особенно интересовался Кантом – сошлись на основополагающем для Марбургской школы сочинении, на книге Когена «Кантова теория познания»
, которую затем подолгу анализировали и обсуждали. Так как мы – как выразился Беньямин в наших первых разговорах – образовали «свою собственную академию», тогда как в университете можно было обучиться лишь немногому, речь зашла о полусерьёзном-полушуточном открытии «университета Мури» и его «институций» – библиотеки и академии. В перечне лекций этого университета, в уставе академии и в воображаемом каталоге недавно поступивших книг, которые Беньямин снабжал аннотациями, фонтанирующими весельем, мы отводили душу последующие три-четыре года, давая выход нашему задору и подвергая осмеянию академическую рутину. Беньямин подписывался как ректор и неоднократно сообщал мне в письменной и устной форме о новейших событиях в университете, созданном нашей фантазией – тогда как я фигурировал в них как «младший служащий при религиозно-философском семинаре», но иногда и как член факультета.
Первые дни в Швейцарии протекали чрезвычайно интенсивно и празднично. Мой приезд был отмечен торжественным обедом, на котором Беньямин сообщил мне, что займётся изучением древнееврейского, как только сдаст экзамен. Для нас были важны разговоры об иудаизме, философии и литературе; к ним добавлялись чтение стихов, игры, разговоры наедине с Дорой, когда она рассказывала мне о своей прежней жизни и о Беньямине. Дора рано уходила спать, а мы с Беньямином говорили допоздна. 10 мая он дал мне на прощание написанную в 1913–1914 годах «Метафизику молодости»
, которую я переписал для себя.
С самого начала мы много говорили о его «Программе грядущей философии». Он говорил об объёме понятия опыта, которое, по его мнению, охватывает духовную и психологическую связь человека с миром, а эта связь свершается в сферах, куда ещё не проникло познание. Когда же я заговорил о том, что в таком случае было бы легитимным включить в это понятие опыта мантические дисциплины, он ответил, экстремально заострив формулировку: «Не может быть истинной философия, которая не включает и не может объяснить возможность гадания на кофейной гуще». Такие гадания, дескать, могут порицаться, как в иудаизме, но их следует считать возможными, исходя из взаимосвязи вещей. На самом деле, даже его поздние заметки об оккультном опыте полностью не исключают таких возможностей, хотя, скорее, implicite
. С этой точки зрения – а вовсе не из- за какой-то наркотической зависимости, совершенно чуждой ему и напрасно приписываемой ему в последнее время – объясняется его временами живой интерес к опыту употребления гашиша. Ещё в Швейцарии Беньямин, на чьём столе я впоследствии видел Les paradis artificiels
, говорил при обсуждении упомянутой работы о расширении человеческого опыта в галлюцинациях, которые, по его мнению, не исчерпываются такими словами, как «иллюзия». О Канте Беньямин говорил, что тот «обосновывает неполноценный опыт».
Этот тезис сыграл свою роль в разочаровании, которое мы испытали по прочтении работы Когена. Мы оба, слушавшие в разное время лекции или доклады Когена в его берлинский период и относившиеся к Ко- гену с почтением и даже с благоговением, приступили к этому чтению с большими ожиданиями и готовностью к критическому обсуждению. Но выводы и интерпретации Когена показались нам сомнительными, и мы не оставили от них камня на камне. У меня до сих пор сохранились заметки к критике кантовских силлогизмов в «трансцендентальной эстетике» и к доказательству их необоснованности – эти заметки я написал после нескольких наших занятий. Беньямин при этом высказывался об отношении рационалиста, которым являлся Коген, к интерпретации. «Для рационалиста не только тексты абсолютной ценности, как Библия [а для Беньямина также Гёльдерлин], поддаются интерпретации на разных уровнях, но и всё, что является объектом, выставляется рационалистом как абсолют и посему подлежит насильственному комментарию, как Аристотель, Декарт, Кант». В критике Канта Беньямин находил также оправдание феноменологам в их обращении к Юму. Беньямин не нуждался в рационалистическом позитивизме, занимавшем нас в связи с чтением Когена, так как он стремился к «абсолютному опыту». Наши сетования по поводу интерпретации Канта Когеном стали столь серьёзными, что с началом летних каникул в августе наши занятия завершились – при том, что в июле мы ежедневно занимались по два часа. Беньямин жаловался на «трансцендентальную путаницу» рассуждений Когена. «Тут я с равным успехом могу обратиться и в католицизм». Для меня различие между этой работой по Канту и когеновской собственной «Логикой чистого познания»
, половину которой я тогда только что прочёл, было очевидным, как бы ни казались взаимозависимыми эти два сочинения. О некоторых тезисах книги Беньямин утверждал, что это «отрицательные эталоны маленьких пухлых фолиантов». Он назвал когеновскую книгу «философским осиным гнездом».
В то время Беньямин много говорил о Ницше последнего периода. Незадолго до моего приезда он прочёл книгу К. Бернулли «Ницше и Овербек»
, которую назвал увлекательным примером газетной научно-популярной литературы. Очевидно, Бернулли побудил его задуматься над Ницше. По мнению Беньямина, Ницше был единственным, кто в XIX веке, когда «слышали» только природу, узрел исторический опыт. Даже Буркхардт-де ходил вокруг да около исторического этоса. Его этос – этос не истории, а исторического рассмотрения, гуманизма. В высказываниях Беньямина о философии тогда присутствовала отчётливая тенденция к систематизации. Вскоре после своего приезда я записал: «Он мчится в систему на всех парусах». Иногда Беньямин прямо-таки приравнивал друг к другу термины «система» и «учение». К этой области, как прежде, относились его споры с миром мифа и, в связи с его занятиями Бахофеном, умозрения относительно космогонии и «допотопного» мира человека. Я часто излагал ему свои идеи об иудаизме и его борьбе против мифа – о чём я очень много думал за прошедшие восемь месяцев. Особенно часто мы говорили на эти темы между серединой июня и серединой августа. Тогда мы испытали, пожалуй, особенно сильное взаимовлияние. Он прочёл мне длинную статью о грёзах и ясновидении, в которой пытался сформулировать законы, управляющие миром домифических призраков. Он различал две исторические мировые эпохи – призраков и демонов, – предшествовавшие мировой эпохе откровения; я же предлагал называть последнюю, скорее, мессианской. Собственным содержанием мифа, по его мнению, является грандиозная революция, которая в полемике против эпохи призраков положила ей конец. Уже тогда его занимали мысли о восприятии как о некоем чтении конфигураций поверхности: именно так-де первобытный человек воспринимал окружавший его мир и, особенно, небо. Здесь располагался зародыш тех рассуждений, каковые он представил четыре года спустя в статье «Учение о подобии»
. Возникновение созвездий как конфигураций на поверхности неба – утверждал Беньямин – является началом чтения и письма, и оно совпадает с формированием мировой эпохи мифа. Созвездия для мифического мира были тем, чем впоследствии стало откровение Священного Писания
.
Весь спектр состояний между сновидением и бодрствованием увлекал Беньямина так же, как и мир самих сновидений. Однажды он объяснил мне закон толкования сновидений; он считал, что открыл его, я же – вновь перечитав свои записи на эту тему – не понял этого закона. Когда Беньямин впоследствии насколько я могу догадываться – отказался от толкования сновидений, по меньшей мере, explicite
, он продолжал часто рассказывать собственные сны и охотно заговаривал на тему толкования сновидений. Не помню, чтобы он возражал моему глубокому разочарованию одноимённой фрейдовской книгой, о которой я написал ему несколько лет спустя. В Мури Беньямин рассказывал о сне весны 1916 года в Зеесхаупте, за три дня до кончины его любимой тётки Фридерики Йозефи, которая покончила жизнь самоубийством. Сновидение сильно взволновало его, и он часами пытался найти его истолкование, но тщетно. «Я лежал в постели, в комнате был ещё один человек и моя тётка, но они не общались. В окно глядели люди, проходившие мимо». Лишь впоследствии ему стало ясно, что это было символическим известием о её смерти. Я не уверен, сказал ли Вальтер напрямую, что одна из смотревших в окно была сама тётка, что прояснило бы его истолкование. В другой раз он рассказал после шутливо-ожесточённого разговора о запланированной «Энциклопедии белиберды» в духе Флобера
, что видел во сне накануне: «Было двадцать человек, которые должны были разбиться по двое для того, чтобы изобразить ситуацию, соответствующую заданной теме. Чудесным образом костюмы вырастали на нас в зависимости от наших намерений. Кто управлялся с делом раньше, задавал тон партнёру. Приз получал тот, кто изображал тему лучше всех». Вальтер должен был получить приз за тему «отказа». Он при этом был маленьким кругленьким китайцем в синих одеждах, а его назойливый партнёр, который чего-то от него хотел, взобрался к нему на спину. Но и другая пара столь же хорошо справилась со своей темой, поэтому приз решили дать за другую тему – «ревность». «Тут я был женщиной и лежал, распростёршись на полу, а мужчина обнимал меня, и я ревниво смотрел на него снизу вверх и высовывал язык».
Беньямин предавался также сравнению философского стиля нашего поколения с кантовским; стиль Канта – вопреки господствовавшему мнению – он считал утончённым и ссылался в этом на Клейста. В качестве доказательства он должен был бы привести, как я ожидал, цитаты из малых произведений Канта или из «Критики способности суждения», но он прочёл мне письмо Канта к Козегартену, чтобы тут же с расстановкой и торжественным голосом прочесть два сохранившихся в переписке Канта письма Самуэля Колленбуша – это были послания благочестивого христианина, протестовавшего против «религии в границах чистого разума»
(«Мне жаль, что И. Кант не уповает ни на что хорошее от Бога»). После этого он надолго замолк, а затем величественно вперил в меня взор, как если бы хотел сказать, что эту прозу, пожалуй, можно поставить рядом с библейской. Затем Вальтер прочёл три письма из переписки Гёте с Цельтером – среди них письмо Гёте о смерти его сына. Эти письма, особенно письма Колленбуша, ещё годы спустя всплывали в его разговорах и принадлежали к тем, которые дали толчок к возникновению его сборника «Люди Германии»
. Впоследствии мы провели немало бесед о Гёте; они были, скорее, монологами Беньямина, в лучшем случае – его монологами, которые я перебивал вопросами, так как я тогда мало читал Гёте. Говорил он и об «автобиографической жизни Гёте, которая основана на затуманивании». Когда он сказал, что узрел правду о Гёте, обдумывая его брак, он спонтанно перешёл к собственному обручению с Гретой Радт
. Он видел некую параллель между двумя этими отношениями, но какую именно, я не помню. Его непредвзятый взгляд на Гёте выразился уже в швейцарский период в высокой, лишь наполовину ироничной, оценке трёхтомной биографии Гёте, написанной иезуитом Баумгартнером
. Он пускался в похвалы «разоблачениям», которые содержались в этом памфлете: ненависть нередко наделяла автора проницательностью. «Настоящий иезуит о Гёте – это надо видеть». Или же «если выбирать между Баумгартнером и Гундольфом, я не затрудняюсь»
. Конечно, суждения Баумгартнера оставляли Беньямина совершенно безразличным; его интересовала детективная и инквизиторская сторона книги, где Гёте изображался в виде преступника, которого необходимо было изобличить. Меня тогда гораздо сильнее трогал Жан-Поль, о котором Беньямин говорил, что в Германии это единственный великий писатель, который может не принимать упрёк в свой адрес, что он жил в исторической сфере насилия. Против Шиллера, однако, этот упрёк правомерен, и «нет большего надувательства, чем историческая невинность Шиллера». Шиллеровский отказ помогать Гёльдерлину взаимосвязан с этой «невинностью» и с его «демонической моралью». В другой раз Беньямин прочёл вслух стихотворение Ленца о Канте: «Подлинное преклонение: оно бесконечно».
В те первые недели у нас было много важных разговоров, иногда за полночь, и среди прочего мы читали набросок новой этики, копию которой Людвиг Штраус посылал Беньямину и мне и которую мы подвергали критическому разбору. Беньямин читал и собственные стихи, но, прежде всего, стихи Фрица Хейнле, Августа Вильгельма Шлегеля и Платена, о котором он говорил, что чувствует с ним родство душ. Мы оба – как немало евреев из нашего поколения до прихода Гитлера к власти – совершенно пренебрегали Гейне, и я не помню, чтобы у нас был хоть один разговор о поэзии Гейне. Беньямин, готовя диссертацию о понятии художественной критики в раннем романтизме, прочёл «Романтическую школу» Гейне и дал о ней уничтожающий отзыв. Когда в 1916 году я впервые услышал о Карле Краусе, я прочёл его «Гейне и последствия»
, а Беньямин – ещё нет. Он в то время штудировал прозаические сочинения Фридриха Шлегеля, к которому издавна испытывал влечение, в том числе и к его поэзии, – и при этом натолкнулся на Фихте. Фихте, Кьеркегора и Фрейда Беньямин причислял к «сократическим людям». Лишь гораздо позднее в письме, отправленном в январе 1936 года нашей общей знакомой Китти Штейншнейдер, он писал, что «в Фихте революционный дух немецкой буржуазии превратился в куколку, из которой вылупился бражник – мёртвая голова национал-социализма».
Карл Краус. Вена, 1936 г.
Если в разговорах Беньямин часто высказывался о Георге и его «круге» (о последнем – с большой сдержанностью или полемично), то о поэзии Рильке говорил лишь изредка, что контрастировало с высокой оценкой, какую он давал ему в период «Молодёжного движения» и о которой мне рассказывали его друзья того времени (о чём я тогда ещё не знал). В мае 1918 года у нас с Беньямином произошла подробная беседа, в которой он – без всякой полемики – попытался дать определение сфере поэзии Рильке. Деталей я не помню, кроме одной. Мой друг Эрих Брауэр, который семестр назад начал учиться во Фрейбурге-им-Брейсгау, написал мне о глубоком впечатлении, произведённом на него лекцией Эрнста Бушора, археолога классической древности. Бушор говорил о хранящемся в музее в Неаполе архаическом торсе Аполлона и под конец лекции продекламировал стихотворение Рильке под тем же названием, после чего расплакался – а это не повседневное событие на университетской лекции по археологии
. Я поведал об этом Беньямину, и он сказал: «Это и впрямь необыкновенное стихотворение!». Годы спустя он послал мне копию своего по неведомым причинам оставшегося ненапечатанным ответа на злобный некролог, написанный на смерть Рильке Францем Блеем в «Литературном мире»
и глубоко возмутивший Беньямина. Этот ответ показал весьма изменившееся отношение Беньямина к Рильке, но тот сонет из сборника «Новые стихотворения» он по- прежнему назвал в числе незабываемых стихов. Когда же я в одном письме о жалобных песнях написал о трёх текстах: о библейском плаче Давида по Ионафану и о двух стихотворениях на ту же тему – Рильке и Эльзы Ласкер-Шюлер – он ответил, что стихотворение Рильке просто плохое. В одном разговоре о жалобных песнях – тема, глубоко занимавшая меня тогда в связи с древнееврейским – он мне сказал, что в романе Рильке «Мальте Лауридс Бригге» есть чудесная жалобная песнь. Я раскрыл книгу, и в искомом месте была приведена цитата из главы 30 Книги Иова, хотя и без указания источника! При всей остроте критики, которую Беньямин впоследствии обрушил на Рильке как на «классика всех слабостей югендштиля», он никогда не снисходил до распространившейся впоследствии «социально-критической» глупости, когда насмехались над знаменитым стихотворением Рильке о Франциске Ассизском
, считая его снобистско-реакционным восхвалением нищеты.
К литературному экспрессионизму, возникшему в предвоенные годы в кругу, близком Беньямину, он никогда не примыкал как к направлению. Однако к экспрессионистской живописи Кандинского, Марка Шагала и Пауля Клее на некоторых её фазах относился с большим восхищением. Ещё в Йене я подарил ему книгу Кандинского «О духовном в искусстве»
, где его привлекали именно мистические элементы содержащейся в ней теории. Но в девизах как таковых Беньямин находил вообще мало смысла и ориентировался, скорее, не на школы, а на конкретные феномены. Имя Казимира Эдшмида, тогда популярного представителя экспрессионистской прозы, было для Беньямина символом претенциозной пошлости и использовалось на том же уровне насмешки, что и имя Фриды Шанц. Правда, Георга Гейма он считал большим поэтом и цитировал мне наизусть – для него дело необычное – стихи из «Вечного дня»
. До сих пор остаётся нерешённой загадка поэзии Фрица Хейнле, содержащей, по мнению Беньямина, элементы величия, отличавшие его от основной массы экспрессионистов.
На описываемое время приходится также и начало его коллекционирования старых детских книг, о котором он написал в июле 1918 года в напечатанном письме к Эрнсту Шёну. Коллекционирование началось из-за энтузиазма Доры по отношению к таким книгам. Дора любила также саги и книги сказок. Оба, по меньшей мере до 1923 года, пока я жил рядом с ними, имели обыкновение дарить друг другу на дни рождения иллюстрированные детские книги и охотились, прежде всего, за экземплярами, раскрашенными вручную. Он показал мне сочинения Лизера с восторгом, в котором радость открытия была связана и с художественным результатом. Беньямин любил произносить небольшие речи о таких книгах перед Дорой и мной, чтобы особо выделить неожиданные ассоциации, встреченные в текстах. В июне 1918 года мы нашли у одного антиквара в Берне первый том «Книги с картинками для детей» Бертуха – из Веймарского круга
; впоследствии Беньямин приобрёл ещё несколько томов. Эта книга образовала особый фокус его любовного погружения. Когда Беньямин комментировал ту или иную иллюстрацию, в нём уже тогда воспламенялось его особое чутьё к эмблематике, хотя мы этого и не осознавали. Ассоциативно определённые картинки в таких книгах приковывали его на том же уровне, как впоследствии «Меланхолия I» Дюрера и книги об эмблемах XVIXVII веков.
Его склонность к воображаемому миру ассоциаций, связанная с пробуждением участия в мире ребёнка и погружением в этот мир в детские годы его сына, сказывалась и в его интересе к литературе душевнобольных. Уже в Берне у него было несколько работ такого происхождения. В них его восхищал, прежде всего, архитектонический, как сегодня выразились бы – структурный элемент систем их мира и часто с ними связанные фантастические иерархии с не текучей, как у детей, а с горестно и сурово затвердевшей упорядоченностью. Интерес Беньямина был при этом не патопсихологический, а метафизический. Я нередко слышал, как он говорил на упомянутые темы – но никогда не в связи с психоаналитической техникой, о которой он тогда знал хотя бы из чтения работ Фрейда и некоторых его ранних учеников. Из этой же серии было его уже упомянутое отношение к живописи – которое распространялось и на Джеймса Энсора задолго до его открытия сюрреалистами. Он любил посещать выставки, где его проницательное понимание искусства развивалось больше, чем при изучении репродукций. Ещё в Париже он привёл меня в кабинеты, где производились иллюзии, горячо расхваливая их технику, а также в музей восковых фигур мадам Тюссо, где неожиданные сопоставления также вызывали его эстетически-ассоциативный восторг.
Об эстетической теории, которой я не интересовался, мы почти не говорили, и я припоминаю лишь два исключения: его пожизненную убеждённость в значении работы Алоиза Ригля «Позднеримская художественная индустрия»
и его любовь к «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля, которую он читал в связи со своими исследованиями романтизма
. Особенно я вспоминаю фразу Жан-Поля, охотно цитируемую Беньямином как вершину чувства юмора. Жан-Поль говорил о раннем романтизме как об «уже полупогибшей школе, чьи важнейшие учебники, однако, в первую очередь шлегелевские – пережили её краткое бессмертие».
Бывая вместе, мы нередко проводили время в прогулках по старому Берну, но больше всего общались в рабочей комнате Беньямина, где он постепенно собрал значительную часть своей библиотеки. Иногда мы совершали и большие путешествия – например, ночной поход из Туна в Интерлакен