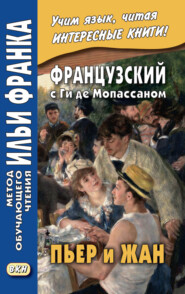По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лунный свет (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сам Мопассан видел в любви самообман, прикрывающий естественные человеческие инстинкты (сказывалось влияние Шопенгауэра и Спенсера). Признания в любви – или, скорее, повествование об испытанном зыбком ощущении влюбленности – встречаются в редких письмах к близкой и доверенной подруге, Эрмин Леконт де Ноуи, хрупкой женщине с голубыми глазами, оставившей книгу воспоминаний «Влюбленная дружба». Но и Эрмин остается одной из фигур в бесконечном «донжуанском списке» Мопассана – человека, о котором близкие говорили, что он никогда не добивался благосклонности женщин: это женщины приходили к нему, и он принимал их, никогда не считая себя обязанным жертвовать своей свободой. Ничто, даже рождение незаконных детей, не могло привязать его к женщине.
О популярности и «востребованности» Мопассана свидетельствует история некой простой девушки, которая, прочтя одно из его произведений, твердо решила с ним познакомиться и несколько месяцев работала не покладая рук, чтобы достойно одеться и прийти к Мопассану. Писателя она дома не застала, но увидела некую даму и поспешила уйти. Многие не решались предстать перед ним лично и выбирали переписку. Итак, Мопассан писал романы и повести, а ему писали женщины и девушки, как поодиночке, так и целыми пансионами. Некоторых привлекала писательская слава Мопассана, некоторых – пикантные слухи, которые сам писатель с удовольствием поддерживал. В результате одной переписки любовницей Мопассана стала эксцентричная женщина-скульптор Мари-Поль Паран-Дебаррес, коротко стриженная в подражание Жанне д’Арк, одевавшаяся то мужчиной, то школьником, стрелявшая из пистолета и упражнявшаяся на трапеции… Другие «корреспондентки» изначально ставили условие никогда не искать встреч. Так, в начале 1884 года неизвестная предложила Мопассану стать «поверенной его прекрасной души – если, конечно, эта душа прекрасна». Незнакомка следила за свежими публикациями Мопассана и позволяла себе критиковать писателя (например, она находила, что рассказ «Месть тетушки Соваж» – банальность). В ответ Мопассан утверждал, что не питает особых литературных претензий, и представлял себя без прикрас: «…две трети времени я провожу в глубокой скуке. Оставшуюся треть я употребляю на написание строк, которые я продаю как можно дороже, сожалея, что обязан заниматься этим отвратительным ремеслом». Как это ни странно, Мопассан, не всем и не сразу открывавшийся, с готовностью писал о себе этой неизвестной женщине. Переписка оборвалась после того, как незнакомка в очередной раз заявила, что ее не интересует «земная оболочка» писателя: «Неужели вы не хотите немного фантазии посреди парижской грязи? Не хотите бестелесной дружбы?» – вопрошала она. Незнакомкой была 24-летняя русская аристократка Мария Башкирцева, талантливая художница, замеченная на Парижском салоне в 1883 году и умершая от туберкулеза 31 октября 1884-го, оставив после себя интереснейший дневник на французском языке. По совпадению, последний автопортрет Ги де Мопассан дал в письме-отказе другой русской барышне, некой госпоже Богдановой: «Я держу свою жизнь в такой тайне, что никто ее не знает. Я разочарован, одинок и дик. […] Я два раза отказывался от ордена Почетного Легиона и в прошлом году – от места в Академии, чтобы быть свободным от всяких уз и всякой признательности и не держаться ни за что в жизни, кроме работы». Мопассан действительно твердо отказался от ордена Почетного Легиона и от места во Французской академии, которого отчаянно и безуспешно добивался, например, Эмиль Золя. Это был отказ от всякой зависимости, от всякой привязанности – от любых уз.
Уединение Мопассана со временем становится все более полным. Он непрестанно переезжает с места на место: Этрета, Ницца и Канны, курортный городок Экс-ле-Бен или шале в Альпах, Италия, Антибские острова и Корсика… Временами Мопассан был вынужден возвращаться в Париж, чтобы уладить дела и окунуться в светскую жизнь, но эти приезды утомляли его, и он спешил прочь. В этот период о местонахождении Мопассана знал только всюду сопровождавший его слуга Франсуа и мать, которой он постоянно писал (скрывая, однако, истинное состояние своего здоровья). Воспоминания Франсуа Тассара, несмотря на неточности и опущения, позволяют немало узнать об этой тщательно скрываемой от посторонних глаз жизни. Постоянная смена места все больше напоминала бегство – Мопассан бежал от мигреней, болей и недомоганий; он надеялся наконец найти оздоравливающий климат, подходящее место, идеальные условия. Но недуг каждый раз настигал его. На палубе яхты солнце слепило его и вызывало нестерпимую резь в глазах – не спасал ни специально сооруженный навес, ни очки с синими стеклами. В курортных городках лечебные души не были достаточно мощными и бодрящими…
Борьба с болью не была нова для Мопассана: первые признаки болезни проявились еще в 1877-м, а с 1883-го они становились все более многочисленными и разнообразными: головные боли, запоры, боли в желудке, бессонные ночи… В 1883 году Мопассан сообщал Эмилю Золя, что вот уже шесть месяцев, как он наполовину слеп – пишет на ощупь и вынужден был нанять чтеца, чтобы знакомиться с интересующими книгами… Зрение возвращалось и пропадало; зрачок одного глаза был расширен, другого – сужен. Многое из написанного Мопассан выводил на бумаге и правил, превозмогая боль, прорываясь сквозь сумерки. Лечение по последнему слову медицины помогало мало: Мопассан проводит дни и ночи в мучениях, «поглощая салицилат натрия, бромистый калий, хлороформ и т. д.». Доктора прописывают больному писателю хинин, антипирин, опиумную настойку, морфий, хлорал, уколы кокаина… Головные боли Мопассан уже много лет лечил эфиром.
Но с некоторых пор уже ничто не помогало собраться с силами и возобновить работу. Большим ударом и мрачным предсказанием стала в 1889 году смерть младшего брата Эрве, помещенного в психиатрическую лечебницу. Для самого Мопассана бессонница становится пыткой, головные и зубные боли не прекращаются. Из-за отеков ему тесно в собственной одежде. Но страшнее всего мгновения, когда он внезапно перестает понимать, где находится и что с ним происходит. Мопассан с трудом подбирает точные слова, его письма пестрят помарками. В 1891 году, показывая другу начатую рукопись романа «Анжелюс», Мопассан с горечью произнес: «Вот уже год, как я не могу написать ни страницы больше. Если через три месяца книга не будет окончена, я покончу с собой».
Когда Мопассан возвращается в Париж в апреле 1891 года, ему остается только совершать медленные прогулки по Булонскому лесу: из опасения за его зрение доктора категорически запрещают писать. Невоплощенным остается замысел собрать в единый том литературную критику: статьи о Флобере, Буйле, Золя, Тургеневе. Знакомые были поражены худобой Мопассана, которую не могла скрыть непривычная элегантность костюма. Писатель понимал, что почти неузнаваем, и с иронично-притворным удивлением отвечал на приветствия. В разговоре с поэтом Жозе-Мария Эредиа он признался, что измучен тоской, болями, а главное – невозможностью писать: что может быть ужаснее, чем провалы в памяти и неспособность подобрать необходимое слово? Они расстались на слове «Прощай». Мопассан добавил: «Мое решение принято. Я не задержусь. Я не хочу пережить самого себя. Я ворвался в литературу как метеор – я исчезну из нее с ударом грома».
Мопассан верно предугадывал свою судьбу. «Удар грома», предсказанный им, прогремел в начале января 1892-го. В канун нового года Мопассан гостил у матери в Нормандии. По рассказам Лоры де Мопассан, вечером он внезапно загорелся идеей куда-то ехать, и как мать ни отговаривала его, как ни пыталась удержать, он вырвался из ее объятий и исчез в ночи – «возбужденный, безумный, охваченный бредом, направляющийся неизвестно куда». В действительности последнее свидание писателя с матерью было чуть менее драматичным. Ги де Мопассан спокойно вернулся к себе на квартиру, съел гроздь винограда, выпил на ночь травяного чая и поднялся в спальню… Посреди ночи Франсуа Тассар, верный слуга Мопассана, услышал страшный шум и бросился наверх. Он нашел хозяина посреди комнаты с лезвием в руке и зияющей раной на горле. Ящик стола, где хранился пистолет, был раскрыт – но оружие в доме было предусмотрительно разряжено. Был ли это последний сознательный жест перед лицом надвигающегося безумия? Или неистовое движение, навеянное галлюцинациями о преследованиях загадочного двойника, злодея Подофилла, которым Мопассан будет непрестанно бредить с этого дня?
Спустя неделю поезд Ницца – Париж прибывает на Северный вокзал. Покорному и измученному Мопассану – в смирительной рубашке, прикрытой полосатым пледом, – помогают спуститься на перрон. Его встречают издатель Оллендорф и доверенный врач Казалис. Отец писателя успел составить необходимое официальное письмо с просьбой о помещении Мопассана в психиатрическую лечебницу. Ги де Мопассана доставили в знаменитое образцовое заведение доктора Бланша в Пасси – аккуратные павильоны в парке с видом на Эйфелеву башню, – где писателю предстоит провести последние полтора года жизни… Сначала были галлюцинации и причудливые монологи, в которых навязчиво возвращались отдельные темы: пропитавшая все тело соль, мнимое присвоение денег издателями, преследования загадочного Подофилла, мучения брата Эрве, необходимость есть яйца или принимать морфий, чтобы вылечить желудок, – и снова миллионы, брат Эрве, яйца, Подофилл, морфий, искусственный желудок, соль… Вскоре Мопассан перестал узнавать знакомых, речь стала бессвязной, и через некоторое время больной впал в прострацию. Он не писал и даже не читал; лишь однажды взял перо и лист бумаги, вывел несколько неведомых слов – ничего не значащий набор слогов… Доктор Бланш лично писал Лоре де Мопассан успокоительные и лживые отчеты о стабильном состоянии больного: мать писателя сама была слишком слаба, и родственники предпочитали ограждать ее от излишних волнений.
За оградой клиники газеты и журналы пережевывали новость: намекали на автобиографичность повести «Орля», вспоминали рассказы Мопассана о сумасшедших, рассуждали о связи гения и безумия, задавались вопросом о том, когда именно появились первые признаки болезни Мопассана и каковы были ее причины… Поразительно, но в хоре искренних сожалений звучали и злорадные голоса: в этом несчастии видели возмездие писателю, который никого и ничто не любил и не имел истинных друзей – кроме издателя Оллендорфа…
Ги де Мопассан скончался 5 июня 1893 года, в возрасте сорока трех лет, после одного из участившихся приступов судорог. Когда-то писатель просил не хоронить его в свинцовом гробу, чтобы тело могло воссоединиться с землей: его похоронили в обычном по тем временам тройном гробу из сосны, цинка и дуба. Ни мать, ни отец Мопассана не смогли приехать на похороны: Гюстав де Мопассан медленно оправлялся от апоплексического удара, а обессилевшая и больная Лора осталась в Ницце. Речь над могилой Ги де Мопассана Эмиль Золя завершил словами: «Те, что узнают его лишь по произведениям, будут любить его за вечный гимн любви, который он пел жизни».
Э. Абсалямова
Наше сердце
Часть первая
I
Однажды Масиваль, музыкант, прославленный автор Ревекки, тот, кого уже лет пятнадцать называли «знаменитым молодым маэстро», сказал своему другу Андре Мариолю:
– Почему ты не попросишь, чтобы тебя представили госпоже де Бюрн? Уверяю тебя, это одна из интереснейших женщин современного Парижа.
– Потому что я вовсе не создан для этого общества.
– Дорогой мой, ты не прав. Это очень своеобразный, очень современный, живой и артистический салон. Там много занимаются музыкой, там ведут беседу не хуже, чем в салонах лучших сплетниц прошлого столетия. Тебя в этом доме оценили бы, – прежде всего потому, что ты превосходный скрипач, во-вторых, потому, что там о тебе было сказано много хорошего, наконец, потому, что ты слывешь человеком не банальным и не расточительным на знакомства.
Мариоль был польщен, но, все еще противясь и к тому же предполагая, что это настойчивое приглашение делается не без ведома молодой женщины, проронил: «Ну, меня это мало интересует»; и в этом нарочитом пренебрежении уже звучала нотка согласия.
Масиваль продолжал:
– Хочешь, я представлю тебя на днях? Да ты, впрочем, уже знаешь ее по рассказам друзей; ведь мы довольно часто говорим о ней. Ей двадцать восемь лет, это очень красивая женщина, большая умница; она не хочет вторично выходить замуж, потому что в первом браке была крайне несчастлива. Она сделала свой дом местом встреч приятных людей. Там не слишком много клубных завсегдатаев и светских пошляков. Ровно столько, сколько требуется для придания блеска. Она будет в восторге, если я тебя приведу.
Побежденный Мариоль ответил:
– Пусть будет по-твоему. Как-нибудь на днях.
В начале следующей недели композитор зашел к нему и спросил:
– Ты завтра свободен?
– Да… пожалуй.
– Отлично. Пойдем обедать к госпоже де Бюрн. Она мне поручила пригласить тебя. Впрочем, вот и ее записка.
Подумав несколько мгновений для приличия, Мариоль ответил:
– Пойдем.
Андре Мариолю было лет тридцать семь, он был холост, ничем не занимался, был достаточно богат, чтобы позволить себе жить, как ему вздумается, путешествовать и даже собрать прекрасную коллекцию новой живописи и старинных безделушек; он слыл человеком остроумным, немного сумасбродным, немного нелюдимым, чуть прихотливым, чуть высокомерным, разыгрывающим отшельника скорее из гордости, чем от застенчивости. Богато одаренный, тонкого ума, но ленивый, способный все понять и, быть может, многое сделать, он довольствовался тем, что наслаждался жизнью в качестве зрителя или, вернее, знатока. Будь он беден, он, несомненно, стал бы выдающимся человеком и знаменитостью, но, родившись богатым, он вечно упрекал себя за то, что не сумел ничего добиться. Правда, он предпринимал ряд попыток, но слишком нерешительных, в области искусств: одну – на литературном поприще, издав путевые заметки, интересные, живые и изысканные по стилю; другую – в области музыки, увлекаясь игрой на скрипке, – и тут он приобрел, даже среди профессиональных исполнителей, славу одаренного дилетанта; и, наконец, третью попытку – в области скульптуры, того искусства, где прирожденная ловкость и дар смело намечать обманчивые контуры заменяют в глазах невежд мастерство и выучку. Его глиняная статуэтка Тунисский массажист принесла ему даже некоторый успех на прошлогодней выставке.
Говорили, что он не только прекрасный наездник, но и выдающийся фехтовальщик, хоть он никогда не выступал публично, вероятно, из-за той же робости, которая заставляла его избегать светских кругов, где можно было опасаться серьезного соперничества.
Но друзья единодушно хвалили и ценили его, быть может, потому, что он не затмевал их. Во всяком случае, о нем говорили как о человеке надежном, преданном, отзывчивом и приятном в обращении.
Роста выше среднего, с черной бородкой, коротко подстриженной на щеках и образующей на подбородке острый клин, со слегка седеющими, но красиво вьющимися волосами, он отличался открытым взглядом ясных, живых карих глаз, недоверчивых и чуть суровых.
Среди его друзей преобладали деятели искусства – романист Гастон де Ламарт, музыкант Масиваль, художники Жобен, Риволе, де Модель, которые, казалось, высоко ценили его дружбу, его ум, остроумие и даже его суждения, хотя в глубине души они с высокомерием людей, достигших успеха, считали его неудачником – пусть очень милым и очень умным.
Его надменная сдержанность как бы говорила: «Я ничто, потому что не захотел быть чем-либо». И он вращался в узком кругу, пренебрегая великосветским флиртом и модными салонами, где другие блистали бы ярче и оттеснили бы его в толпу светских статистов. Он посещал только такие дома, где могли правильно оценить его неоспоримые, но скрытые качества; и он так быстро согласился быть представленным г-же Мишель де Бюрн лишь потому, что лучшие его друзья, те самые, которые всюду рассказывали о его скрытых достоинствах, были постоянными гостями этой молодой женщины.
Она жила в первом этаже прекрасного дома на улице Генерала Фуа, позади церкви Сент-Огюстен. Две комнаты – столовая и та гостиная, где принимали всех, – выходили на улицу, две другие – в прелестный сад, находившийся в распоряжении домовладельца. С этой стороны помещалась вторая гостиная, очень просторная, скорее длинная, чем широкая, с тремя окнами, откуда были видны деревья, листья которых касались ставен; она была обставлена исключительно простыми и редкими предметами безупречного, строгого вкуса и огромной ценности. Стулья, столы, прелестные шкафчики и этажерки, картины, веера и фарфоровые статуэтки в горке, вазы, фигурки, громадные стенные часы, обрамленные панно, – все убранство дома молодой женщины влекло и приковывало взоры своим стилем, стариной или изяществом. Чтобы создать себе такую обстановку, которой она гордилась почти так же, как самой собою, она воспользовалась дружбой, любезностью и чутьем всех знакомых ей художников. Они с охотничьим азартом выискивали для нее, богатой и щедрой, вещи, отмеченные тем неповторимым отпечатком, которого не улавливает вульгарный любитель, и благодаря этим людям г-жа де Бюрн создала знаменитый, малодоступный салон, где, как ей представлялось, гости чувствовали себя лучше и куда шли охотнее, нежели в заурядные салоны других светских женщин.
Одна из излюбленных ее теорий заключалась в том, что оттенок обоев, занавесей, уютность кресел, приятность форм, изящество целого нежат, чаруют и ласкают взоры не меньше, чем обворожительные улыбки хозяев. Привлекательные или отталкивающие дома, говорила она, богатые или бедные, пленяют, удерживают или отвращают в такой же мере, как и населяющие их существа. Они будят или усыпляют сердце, воспламеняют или леденят ум, вызывают потребность говорить или молчать, повергают в печаль или радуют. Словом, они внушают гостю безотчетное желание остаться или уйти.
В этой несколько сумрачной гостиной, между двумя жардиньерками с цветами, на почетном месте стоял величественный рояль. Дальше высокая двустворчатая дверь вела в спальню, за которой следовала туалетная, тоже очень элегантная и просторная, обитая персидской материей, как летняя гостиная; здесь г-жа де Бюрн обычно проводила время, когда бывала одна.
Выйдя замуж за светского негодяя, за одного из тех семейных тиранов, которым все должны подчиняться и уступать, она вначале была очень несчастна. Целых пять лет ей приходилось терпеть жестокость, требовательность, ревность, даже грубость этого отвратительного властелина; и, терроризованная, ошеломленная неожиданностью, она безропотно покорилась игу открывшейся перед нею супружеской жизни; она была подавлена деспотической, гнетущей волей грубого мужчины, жертвой которого оказалась.
Однажды вечером, возвращаясь домой, муж ее умер от аневризма, и когда принесли его тело, завернутое в одеяло, она долго вглядывалась в него, не веря в реальность освобождения, чувствуя глубокую, сдерживаемую радость и боясь обнаружить ее.
От природы независимая, веселая, даже экспансивная, обворожительная и очень восприимчивая, с проблесками вольнодумства, которые каким-то образом появляются у иных парижских девочек, словно они с детских лет вдыхали пряный воздух бульваров, куда по вечерам через распахнутые двери театров врывается тлетворная атмосфера одобренных или освистанных пьес, – она все же сохранила от своего пятилетнего рабства какую-то застенчивость, сочетавшуюся с прежней смелостью, постоянную боязнь, как бы не сделать, не сказать лишнего, жгучую жажду независимости и твердую решимость уже никогда больше не рисковать своей свободой.
Ее муж, человек светский, заставлял ее устраивать приемы, на которых она играла роль бессловесной, изящной, учтивой и нарядной рабыни. Среди друзей этого деспота было много деятелей искусства, и она принимала их с любопытством, слушала с удовольствием, но никогда не решалась показать им, как хорошо она их понимает и как высоко ценит.
Когда кончился срок траура, она как-то пригласила нескольких из них к обеду. Двое уклонились, трое же приняли приглашение и с удивлением нашли в ней обаятельную молодую женщину с открытой душой, которая тотчас же безо всякого жеманства мило призналась им в том, какое большое удовольствие доставляли ей прежние их посещения.
Так постепенно она выбрала среди старых знакомых, мало знавших или мало ценивших ее, несколько человек себе по вкусу и, в качестве вдовы, в качестве свободной женщины, желающей, однако, сохранить безупречную репутацию, стала принимать наиболее изысканных мужчин, которых ей удалось собрать вокруг себя, присоединив к ним лишь двух-трех женщин.
Первые приглашенные стали близкими друзьями, образовали ядро, за ними последовали другие, и дому был придан уклад небольшого монаршего двора, куда каждый приближенный приносил либо талант, либо громкое имя; несколько тщательно отобранных титулов примешивалось здесь к светлым умам разночинной интеллигенции.
Ее отец, г-н де Прадон, занимавший верхний этаж, служил как бы блюстителем нравственности и защитником ее доброго имени. Старый волокита, чрезвычайно элегантный, остроумный, он уделял ей много внимания и обращался с ней скорее как с дамой сердца, чем как с дочерью; он возглавлял обеды, которые она давала по четвергам и которые вскоре приобрели в Париже славу, став предметом толков и зависти. Просьбы быть представленным и приглашенным все учащались; их обсуждали в кружке приближенных и часто отклоняли после своего рода голосования. Несколько острот, сказанных в этом салоне, облетели весь город. Здесь дебютировали актеры, художники и молодые поэты, и это было для них как бы крещением их славы. Лохматые гении, приведенные Гастоном де Ламартом, сменяли у рояля венгерских скрипачей, представленных Масивалем, а экзотические танцовщицы изумляли здесь гостей своей волнующей пластикой, прежде чем появиться перед публикой Эдема или Фоли-Бержер[1 - Эдем, Фоли-Бержер – парижские театры, превратившиеся к концу XIX века в кафешантаны.].
Г-жа де Бюрн, сохранившая тяжелое воспоминание о своей светской жизни под гнетом мужа и к тому же ревниво оберегаемая друзьями, благоразумно воздерживалась слишком расширять круг знакомых. Довольная и в то же время чувствительная к тому, что могли бы сказать и подумать о ней, она отдавалась своим немного богемным наклонностям, сохраняя вместе с тем какую-то буржуазную осторожность. Она дорожила своей репутацией, остерегалась безрассудств, была корректна в своих прихотях, умеренна в дерзаниях и заботилась о том, чтобы ее не могли заподозрить ни в одной связи, ни в одном флирте, ни в одной интриге.
Все пытались обольстить ее; но никому, как говорили, это не удалось. Они исповедовались друг другу и признавались в этом с удивлением, ибо мужчины с трудом допускают – и, пожалуй, не без оснований – такую добродетель в независимой женщине. Вокруг нее создалась легенда. Говорили, будто ее муж проявил в начале их совместной жизни столь возмутительную грубость и такие невероятные требования, что она навсегда излечилась от любви. И ее друзья часто обсуждали это между собой. Они неизбежно приходили к выводу, что девушка, воспитанная в мечтах о любовных ласках и в ожидании волнующей тайны, которая представляется ей как что-то мило-постыдное, что-то нескромное, но утонченное, должна быть потрясена, когда сущность брака раскрывается перед нею грубым самцом.
Светский философ Жорж де Мальтри добавлял с легкой усмешкой: «Ее час еще пробьет. Он никогда не минует таких женщин. И чем позднее, тем громче он прозвучит. Наша приятельница, с ее артистическими вкусами, влюбится на склоне лет в какого-нибудь певца или пианиста».
Гастон де Ламарт придерживался другого мнения. Как романист, психолог и наблюдатель, изучающий светских людей, с которых он, кстати сказать, писал иронические, но схожие портреты, он считал, что понимает женщин и разбирается в их душе с непогрешимой и непревзойденной проницательностью. Он причислял г-жу де Бюрн к разряду тех нынешних сумасбродок, образ которых он дал в своем любопытном романе «Одна из них». Он первый описал эту новую породу женщин, породу рассудительных истеричек, которых терзают нервы, беспрестанно томят противоречивые влечения, даже не успевающие стать желаниями, женщин, во всем разочарованных, хотя они еще ничего не испытали по вине обстоятельств, по вине эпохи, условий момента, современных романов; эти женщины, лишенные огня, неспособные на увлечение, сочетают в себе прихоти избалованных детей с черствостью старых скептиков.