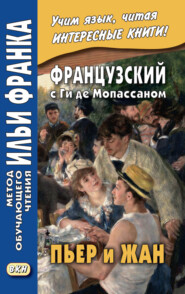По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пышка (сборник)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она казалась немного смущенной, пристыженной и робко подошла к своим спутникам. Все, как один, отвернулись, словно не замечая ее. Граф с достоинством взял под руку жену, как бы оберегая ее от соприкосновения с чем-то нечистым.
Пышка остановилась пораженная. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно шепнула:
– Здравствуйте, сударыня.
Та ответила лишь легким высокомерным кивком головы, сопровождая его взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что заняты, и сторонились ее, как будто она в своих юбках принесла заразу. Затем все поспешили к карете. Пышка вошла последней и молча села на то же место, которое занимала в начале путешествия.
Ее как будто не видели, не были с ней знакомы. Госпожа Луазо, негодующе посматривая на нее издали, вполголоса сказала мужу:
– Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.
Тяжелая карета тронулась – и прерванное путешествие возобновилось.
Некоторое время все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она негодовала на своих спутников и в то же время чувствовала себя униженной тем, что уступила, оскверненной поцелуями пруссака, в объятия которого ее с таким лицемерием толкнули.
Повернувшись к госпоже Карре-Ламадон, графиня вскоре прервала тягостное молчание:
– Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?
– Да, она моя приятельница.
– Какая обаятельная женщина!
– Да, она очаровательна! Вот подлинно избранная натура: высокообразованна и артистка до мозга костей. Она чудесно поет и рисует.
Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание стекол слышались слова: «купон – срок платежа – премия – на срок».
Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, играл с женой в безик.
Монахини, перебирая висевшие у пояса длинные четки, обе разом перекрестились и быстро зашевелили губами, все ускоряя свое невнятное бормотание, как будто состязаясь в быстроте чтения молитв. Время от времени они целовали образок, снова крестились и снова начинали быстро бормотать.
Корнюде не шевелился, о чем-то задумавшись.
Прошло три часа. Луазо, собрав карты, сказал:
– Хочется есть.
Тогда его жена достала перевязанный сверток и вынула из него кусок холодной телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие, но солидные ломтики, и оба принялись за еду.
– Не сделать ли и нам то же самое? – спросила графиня.
Остальные согласились, и она развернула провизию, приготовленную на обе семьи. В длинной миске с крышкой, на которой фаянсовый заяц как бы указывал, что под ней покоится нашпигованный заяц, лежал сочный паштет. Белые полоски сала пронизывали темное мясо дичи, начиненной различным мелко изрубленным фаршем. Завернутый в газету изрядный кусок швейцарского сыра еще хранил на своей маслянистой поверхности отпечаток слов: «Происшествия».
Монахини достали пахнувшую чесноком колбасу, а Корнюде, засунув одновременно обе руки в глубокие карманы своего пальто, вытащил из одного четыре крутых яйца, из другого – горбушку хлеба. Он разбил скорлупу, бросил ее в солому под ногами и принялся уписывать яйца, роняя на свою длинную бороду крошки желтка, похожие на звездочки.
Пышка второпях и в волнении сегодняшнего утра не успела ничем запастись. И теперь она смотрела с озлоблением, задыхаясь от гнева, на всех этих людей, спокойно занятых едой. Сначала, в сильном раздражении, она уже открыла было рот, чтобы прокричать этим людям то, что она думала о их поступке, чтобы осыпать их градом ругательств, просившихся ей на язык. Но она не могла произнести ни слова – до такой степени душило ее возмущение.
Никто не смотрел на нее, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь. Потом она вспомнила о своей объемистой корзинке, полной вкусных вещей, которую они уничтожили с такой прожорливостью, о двух цыплятах, на которых блестело желе, о своих паштетах, грушах, о четырех бутылках бордо. Ее ярость внезапно упала, подобно тому как лопается и падает туго натянутая струна: она почувствовала, что сейчас заплачет. Она делала невероятные усилия над собой, давилась слезами, как ребенок, но слезы подступали, уже блестели на ресницах, и наконец две крупные капли выкатились из глаз и медленно потекли по щекам. За ними последовали другие, катясь все быстрее, подобно струйкам, сочащимся из скалы, и падая на ее высокую грудь. Она сидела выпрямившись, неподвижно глядя в одну точку, с бледным суровым лицом, надеясь, что слез ее никто не увидит.
Но графиня заметила и знаком указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, я тут ни при чем».
Госпожа Луазо торжествующе засмеялась про себя и прошептала:
– Она оплакивает свой позор.
Монахини, завернув в бумагу остатки колбасы, снова начали молиться.
А Корнюде, переваривавший свой завтрак, вытянул длинные ноги под скамью напротив, откинулся назад, скрестив руки, и с усмешкой человека, придумавшего хорошую шутку, принялся насвистывать «Марсельезу».
Все нахмурились. Очевидно, эта народная песня не пришлась по вкусу его соседям. Она действовала им на нервы, раздражала, у них был такой вид, словно сейчас они завоют, как собаки при звуках шарманки. Корнюде это заметил, но не перестал насвистывать. Время от времени он даже напевал вполголоса слова песни:
Любовь священная к народу,
Рукою мстителя води.
На бой, прекрасная свобода,
Своих защитников веди.
Снег стал тверже, и дилижанс теперь катился быстрее. И всю дорогу, до самого Дьеппа, в течение долгих, унылых часов путешествия, на всех ухабах, сначала в сумерках, а потом и в полной темноте, Корнюде со свирепым упорством продолжал свое монотонное и мстительное насвистывание, заставлявшее его усталых и раздраженных соседей невольно следить за песней от начала до конца, припоминать в такт мелодии каждое ее слово.
А Пышка все плакала, и по временам рыдания, которых она не в силах была сдержать, слышались в темноте между строфами «Марсельезы».
Воскресные прогулки парижского буржуа
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ
Господин Патиссо, уроженец Парижа, окончив с грехом пополам, подобно многим другим, коллеж Генриха IV, поступил в министерство по протекции одной из своих теток: она содержала табачную лавочку, где покупал табак начальник отделения этого министерства.
Он продвигался по службе очень медленно и, вероятно, так бы и умер канцеляристом четвертого разряда, не выручи его благосклонный случай, управляющий порой нашими судьбами.
Сейчас ему пятьдесят два года; достигнув этого возраста, он впервые собирается обойти в качестве туриста всю ту часть Франции, которая простерлась между укреплениями и деревней.
История его повышения может оказаться полезной для других чиновников, а повесть о его прогулках, несомненно, сослужит службу многим парижанам: они воспользуются ими как маршрутами для собственных экскурсий и научатся на его примере избегать неприятностей, которые с ним приключались.
В 1854 году господин Патиссо все еще получал только тысячу восемьсот франков. По странному свойству своей натуры он не нравился никому из своих начальников, и они оставляли его изнывать в вечном и безнадежном ожидании повышения – этой мечты каждого чиновника.
Между тем он много работал; только он не умел добиться, чтобы его ценили, да и, по его словам, был слишком горд. Вдобавок гордость его проявлялась в том, что он никогда не кланялся начальству низко и подобострастно, как это делали, по его мнению, иные из его сослуживцев, которых ему не хотелось называть. Он добавлял еще, что его откровенность многим не по нутру, ибо он – как и все остальные, впрочем, – возмущался, когда обходили по службе или когда видел несправедливости, предпочтения, оказываемые неведомым людям, непричастным к миру чиновников. Но его негодующий голос никогда не выходил за порог каморки, где он, по его выражению, сгибался над работой.
– Я сгибаюсь… сгибаюсь, сударь, в обоих смыслах этого слова.
Как служащий, во-первых, как француз, во-вторых, и наконец как человек порядка, он из принципа стоял за всякое установленное правительство и был фанатически предан власти… только не власти своих начальников.
Всякий раз, как представлялся случай, он становился на пути следования императора, чтобы иметь честь снять перед ним шляпу, после чего шел своей дорогой, гордясь тем, что приветствовал главу государства.
Он так часто созерцал монарха, что, подобно многим другим, перенял форму его бородки, прическу, покрой сюртука, походку, жесты; сколько людей в каждой стране – вылитые портреты своего государя! У него и правда имелось небольшое сходство с Наполеоном III, только волосы были черные; он их выкрасил. Тогда сходство стало настолько полным, что, встречая на улице другого господина, также копировавшего императорский облик, он ревниво окидывал его презрительным взглядом. Эта страсть к подражанию скоро превратилась у него в манию, и, услышав, как один привратник Тюильри подражает голосу императора, он, в свою очередь, перенял его интонации и нарочитую растянутость речи.
Таким образом, он стал до того похож на оригинал, что их можно было спутать, и в министерстве среди высших чиновников зашептались о том, что это неудобно, даже неприлично. Дело дошло до министра; он вызвал к себе этого служащего, а увидев его, расхохотался и раза два-три повторил:
– Забавно, право, забавно!
Слова эти стали известны. На следующий же день непосредственный начальник Патиссо представил своего подчиненного к прибавке в триста франков, которую тот немедленно и получил. Благодаря этой своей обезьяньей способности к подражанию он начал с тех пор регулярно продвигаться. И его начальниками, которые теперь стали относиться к нему с уважением, овладело даже некое смутное беспокойство, как бы предчувствие уготованной ему блестящей карьеры.
Пышка остановилась пораженная. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно шепнула:
– Здравствуйте, сударыня.
Та ответила лишь легким высокомерным кивком головы, сопровождая его взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что заняты, и сторонились ее, как будто она в своих юбках принесла заразу. Затем все поспешили к карете. Пышка вошла последней и молча села на то же место, которое занимала в начале путешествия.
Ее как будто не видели, не были с ней знакомы. Госпожа Луазо, негодующе посматривая на нее издали, вполголоса сказала мужу:
– Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.
Тяжелая карета тронулась – и прерванное путешествие возобновилось.
Некоторое время все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она негодовала на своих спутников и в то же время чувствовала себя униженной тем, что уступила, оскверненной поцелуями пруссака, в объятия которого ее с таким лицемерием толкнули.
Повернувшись к госпоже Карре-Ламадон, графиня вскоре прервала тягостное молчание:
– Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?
– Да, она моя приятельница.
– Какая обаятельная женщина!
– Да, она очаровательна! Вот подлинно избранная натура: высокообразованна и артистка до мозга костей. Она чудесно поет и рисует.
Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание стекол слышались слова: «купон – срок платежа – премия – на срок».
Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, играл с женой в безик.
Монахини, перебирая висевшие у пояса длинные четки, обе разом перекрестились и быстро зашевелили губами, все ускоряя свое невнятное бормотание, как будто состязаясь в быстроте чтения молитв. Время от времени они целовали образок, снова крестились и снова начинали быстро бормотать.
Корнюде не шевелился, о чем-то задумавшись.
Прошло три часа. Луазо, собрав карты, сказал:
– Хочется есть.
Тогда его жена достала перевязанный сверток и вынула из него кусок холодной телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие, но солидные ломтики, и оба принялись за еду.
– Не сделать ли и нам то же самое? – спросила графиня.
Остальные согласились, и она развернула провизию, приготовленную на обе семьи. В длинной миске с крышкой, на которой фаянсовый заяц как бы указывал, что под ней покоится нашпигованный заяц, лежал сочный паштет. Белые полоски сала пронизывали темное мясо дичи, начиненной различным мелко изрубленным фаршем. Завернутый в газету изрядный кусок швейцарского сыра еще хранил на своей маслянистой поверхности отпечаток слов: «Происшествия».
Монахини достали пахнувшую чесноком колбасу, а Корнюде, засунув одновременно обе руки в глубокие карманы своего пальто, вытащил из одного четыре крутых яйца, из другого – горбушку хлеба. Он разбил скорлупу, бросил ее в солому под ногами и принялся уписывать яйца, роняя на свою длинную бороду крошки желтка, похожие на звездочки.
Пышка второпях и в волнении сегодняшнего утра не успела ничем запастись. И теперь она смотрела с озлоблением, задыхаясь от гнева, на всех этих людей, спокойно занятых едой. Сначала, в сильном раздражении, она уже открыла было рот, чтобы прокричать этим людям то, что она думала о их поступке, чтобы осыпать их градом ругательств, просившихся ей на язык. Но она не могла произнести ни слова – до такой степени душило ее возмущение.
Никто не смотрел на нее, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь. Потом она вспомнила о своей объемистой корзинке, полной вкусных вещей, которую они уничтожили с такой прожорливостью, о двух цыплятах, на которых блестело желе, о своих паштетах, грушах, о четырех бутылках бордо. Ее ярость внезапно упала, подобно тому как лопается и падает туго натянутая струна: она почувствовала, что сейчас заплачет. Она делала невероятные усилия над собой, давилась слезами, как ребенок, но слезы подступали, уже блестели на ресницах, и наконец две крупные капли выкатились из глаз и медленно потекли по щекам. За ними последовали другие, катясь все быстрее, подобно струйкам, сочащимся из скалы, и падая на ее высокую грудь. Она сидела выпрямившись, неподвижно глядя в одну точку, с бледным суровым лицом, надеясь, что слез ее никто не увидит.
Но графиня заметила и знаком указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, я тут ни при чем».
Госпожа Луазо торжествующе засмеялась про себя и прошептала:
– Она оплакивает свой позор.
Монахини, завернув в бумагу остатки колбасы, снова начали молиться.
А Корнюде, переваривавший свой завтрак, вытянул длинные ноги под скамью напротив, откинулся назад, скрестив руки, и с усмешкой человека, придумавшего хорошую шутку, принялся насвистывать «Марсельезу».
Все нахмурились. Очевидно, эта народная песня не пришлась по вкусу его соседям. Она действовала им на нервы, раздражала, у них был такой вид, словно сейчас они завоют, как собаки при звуках шарманки. Корнюде это заметил, но не перестал насвистывать. Время от времени он даже напевал вполголоса слова песни:
Любовь священная к народу,
Рукою мстителя води.
На бой, прекрасная свобода,
Своих защитников веди.
Снег стал тверже, и дилижанс теперь катился быстрее. И всю дорогу, до самого Дьеппа, в течение долгих, унылых часов путешествия, на всех ухабах, сначала в сумерках, а потом и в полной темноте, Корнюде со свирепым упорством продолжал свое монотонное и мстительное насвистывание, заставлявшее его усталых и раздраженных соседей невольно следить за песней от начала до конца, припоминать в такт мелодии каждое ее слово.
А Пышка все плакала, и по временам рыдания, которых она не в силах была сдержать, слышались в темноте между строфами «Марсельезы».
Воскресные прогулки парижского буржуа
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ
Господин Патиссо, уроженец Парижа, окончив с грехом пополам, подобно многим другим, коллеж Генриха IV, поступил в министерство по протекции одной из своих теток: она содержала табачную лавочку, где покупал табак начальник отделения этого министерства.
Он продвигался по службе очень медленно и, вероятно, так бы и умер канцеляристом четвертого разряда, не выручи его благосклонный случай, управляющий порой нашими судьбами.
Сейчас ему пятьдесят два года; достигнув этого возраста, он впервые собирается обойти в качестве туриста всю ту часть Франции, которая простерлась между укреплениями и деревней.
История его повышения может оказаться полезной для других чиновников, а повесть о его прогулках, несомненно, сослужит службу многим парижанам: они воспользуются ими как маршрутами для собственных экскурсий и научатся на его примере избегать неприятностей, которые с ним приключались.
В 1854 году господин Патиссо все еще получал только тысячу восемьсот франков. По странному свойству своей натуры он не нравился никому из своих начальников, и они оставляли его изнывать в вечном и безнадежном ожидании повышения – этой мечты каждого чиновника.
Между тем он много работал; только он не умел добиться, чтобы его ценили, да и, по его словам, был слишком горд. Вдобавок гордость его проявлялась в том, что он никогда не кланялся начальству низко и подобострастно, как это делали, по его мнению, иные из его сослуживцев, которых ему не хотелось называть. Он добавлял еще, что его откровенность многим не по нутру, ибо он – как и все остальные, впрочем, – возмущался, когда обходили по службе или когда видел несправедливости, предпочтения, оказываемые неведомым людям, непричастным к миру чиновников. Но его негодующий голос никогда не выходил за порог каморки, где он, по его выражению, сгибался над работой.
– Я сгибаюсь… сгибаюсь, сударь, в обоих смыслах этого слова.
Как служащий, во-первых, как француз, во-вторых, и наконец как человек порядка, он из принципа стоял за всякое установленное правительство и был фанатически предан власти… только не власти своих начальников.
Всякий раз, как представлялся случай, он становился на пути следования императора, чтобы иметь честь снять перед ним шляпу, после чего шел своей дорогой, гордясь тем, что приветствовал главу государства.
Он так часто созерцал монарха, что, подобно многим другим, перенял форму его бородки, прическу, покрой сюртука, походку, жесты; сколько людей в каждой стране – вылитые портреты своего государя! У него и правда имелось небольшое сходство с Наполеоном III, только волосы были черные; он их выкрасил. Тогда сходство стало настолько полным, что, встречая на улице другого господина, также копировавшего императорский облик, он ревниво окидывал его презрительным взглядом. Эта страсть к подражанию скоро превратилась у него в манию, и, услышав, как один привратник Тюильри подражает голосу императора, он, в свою очередь, перенял его интонации и нарочитую растянутость речи.
Таким образом, он стал до того похож на оригинал, что их можно было спутать, и в министерстве среди высших чиновников зашептались о том, что это неудобно, даже неприлично. Дело дошло до министра; он вызвал к себе этого служащего, а увидев его, расхохотался и раза два-три повторил:
– Забавно, право, забавно!
Слова эти стали известны. На следующий же день непосредственный начальник Патиссо представил своего подчиненного к прибавке в триста франков, которую тот немедленно и получил. Благодаря этой своей обезьяньей способности к подражанию он начал с тех пор регулярно продвигаться. И его начальниками, которые теперь стали относиться к нему с уважением, овладело даже некое смутное беспокойство, как бы предчувствие уготованной ему блестящей карьеры.