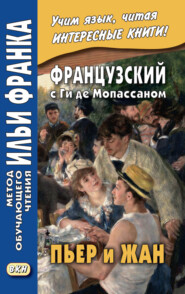По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь
Автор
Жанр
Год написания книги
1883
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилам сердцу соседа то наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она, охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним? Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее, сильнее, чуть не ломая ее. И, не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал, да, конечно, он сказал ей очень отчетливо:
– О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!
Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.
Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль, наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.
В «Тополях» их ожидал хороший завтрак.
На дворе, под яблонями, был накрыт большой стол. Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам – из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом, – настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала маленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.
Жанна, рядом с крестным отцом, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.
Она спросила у него:
– Как ваше имя?
Он сказал:
– Жюльен. Разве вы не знали?
Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»
Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким, заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки:
– Скажите, хотите быть моей женой?
Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!», – она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.
IV
Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:
– Виконт де Лямар просит твоей руки.
Ей захотелось спрятать лицо в простыни.
Отец продолжал:
– Мы пока отложили ответ.
Она задыхалась; волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:
– Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но, когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных; если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он… тебе?
Она прошептала, покраснев до корней волос:
– Я согласна, папа.
Отец, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:
– Я в этом почти не сомневался, мадемуазель.
Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.
Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.
Сердце Жанны бешено забилось. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.
Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.
Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, 15 августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.
Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овеянными, убаюканными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вожделение томило их еще смутно.
Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пансионеркой в версальском монастыре.
После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.
Время от времени она проводила месяц или два в семье.
То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.
Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.
Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился.
Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какою-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.
Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:
– Это было в год безрассудного поступка Лизон.
Больше об этом ничего не говорилось, и этот «безрассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.
Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодующе воздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.
С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать как бы слабоумной. Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружавших. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.
Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.
Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос:
– Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?
Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.
Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно что упомянуть о кофейнике или сахарнице.
– О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!
Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.
Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль, наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.
В «Тополях» их ожидал хороший завтрак.
На дворе, под яблонями, был накрыт большой стол. Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам – из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом, – настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала маленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.
Жанна, рядом с крестным отцом, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.
Она спросила у него:
– Как ваше имя?
Он сказал:
– Жюльен. Разве вы не знали?
Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»
Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким, заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки:
– Скажите, хотите быть моей женой?
Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!», – она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.
IV
Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:
– Виконт де Лямар просит твоей руки.
Ей захотелось спрятать лицо в простыни.
Отец продолжал:
– Мы пока отложили ответ.
Она задыхалась; волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:
– Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но, когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных; если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он… тебе?
Она прошептала, покраснев до корней волос:
– Я согласна, папа.
Отец, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:
– Я в этом почти не сомневался, мадемуазель.
Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.
Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.
Сердце Жанны бешено забилось. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.
Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.
Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, 15 августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.
Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овеянными, убаюканными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вожделение томило их еще смутно.
Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пансионеркой в версальском монастыре.
После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.
Время от времени она проводила месяц или два в семье.
То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.
Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.
Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился.
Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какою-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.
Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:
– Это было в год безрассудного поступка Лизон.
Больше об этом ничего не говорилось, и этот «безрассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.
Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодующе воздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.
С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать как бы слабоумной. Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружавших. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.
Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.
Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос:
– Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?
Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.
Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно что упомянуть о кофейнике или сахарнице.