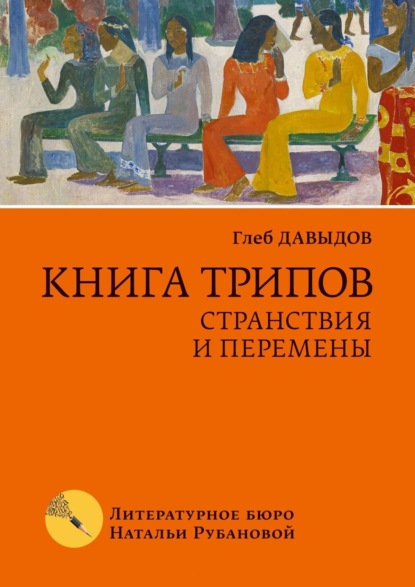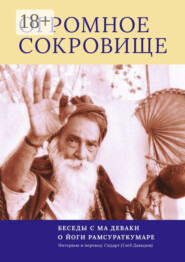По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга трипов. Странствия и перемены
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Верблюд видит человека очень высоким. Так устроено его зрение. Он не видит, где у человека кончаются ноги, поэтому человек кажется верблюду бесконечно высоким чудовищным великаном. Так объяснил проводник тот невменяемо дикий ор, который при нашем приближении издала небольшая верблюдица. По словам Али, верблюдица просто испугалась. Бедуины рассматривали нас, мы рассматривали бедуинов. Верблюды рассматривали нас всех. И жевали специальным образом приготовленное для них сено.
Никто ни в коем случае не должен видеть, как верблюды совокупляются. «Никто! Даже их хозяева не должны видеть этого! И ты знаешь, что будет, если человек все-таки подсмотрит, как верблюды занимаются сексом, и верблюд заметит это? – авторитетно вещал гид. – Он попытается убить этого человека! Если же у него не получится это сделать, то… то он убьет самого себя!» Глядя на эту неуклюжую нелепую громадину, я с недоумением спросил, каким же способом он себя убьет? Верблюд-самоубийца казался мне чем-то совершенно немыслимым. «Он подойдет к машине и станет биться головой об ее крышу. Или ляжет на бок и начнет биться головой о землю, пока совершенно не разобьет голову и не сдохнет…»
Наутро я опять пошел к развалинам. Что-то все-таки тянуло меня туда…
Полный покой. Невозможно даже представить, что это место когда-то было охвачено кровопролитными сражениями. Казалось, что это одно из самых надежных мест на земле. Эти камни стояли здесь испокон веков. И в то же время это было окончательным свидетельством иллюзорности земного могущества и богатства. Время разрушает все.
На краю разрушенного города в маленьком белом бетонном доме что-то зашевелилось. Семья бедуинов вылезла на солнце. Вокруг них забегали гуси и куры. Муж крутил самокрутку, жена принесла чайник. Дети плакали. Заметив меня, женщина помахала рукой, как бы приглашая в гости. Меня приветливо напоили чаем. А потом попытались втридорога продать шаль. Я отказался и тут же снова ушел вглубь разрушенного города.
Среди развалин шествовал большой верблюд, верхом на нем сидел маленький арабский мальчик. Мальчик стал уговаривать меня прокатиться на верблюде. Я отказался и спросил: «Эй, парень, а правда ли, что нельзя смотреть, как верблюды занимаются сексом?» Он тут же понял, о чем я, и ответил: «Да нет! Это ерунда. Если хочешь посмотреть, я могу тебе это устроить. За десять долларов, прямо сейчас! Пойдем». Нет. Спасибо. Больше никогда не буду ездить в туристические места, – подумал я и пошел прочь. И дались мне эти верблюды?
Осень 2004 г.
Фото: Антон Чурочкин
СИРИЯ. ХАЛЕБ
Медиагород
Халеб (Алеппо) находится совсем уже рядом с Турцией, почти на границе. Это самый большой город Сирии. В нем восток сталкивается с западом, они смотрят здесь друг на друга и пытаются найти общий язык. Это город, по своей энергетике, цветам и скорости похожий на Москву, но одновременно и очень особенный: его узловая, торговая вибрация многократно преумножена отчетливой медиавирусной спецификой.
Ирак. 28 октября 2004 года. Пустыня. Военный грузовик. Американский офицер (шлем, солнцезащитные очки, болотная униформа, белые зубы) отдает водителю приказ двигаться в сторону Багдада. Колонна американских машин катит по пустынному шоссе. Мост над рекой Тигр. Солдаты настороже. Готовность номер один… Табличка Welcome, полупустой Багдад. Какое-то время американцы едут по напряженно тихим улицам. И чем напряженнее становится тишина, тем явственнее на лицах солдат проступает выражение страха.
Из-за угла медленно выкатывается длинный автобус. Преграждает путь американцам и останавливается. Из открывшихся дверей автобуса, как пчелы, выпрыгивают один за другим люди с автоматами. Стоп-кадр. Офицер связывается с кем-то по рации и отдает приказание развернуться: «Назад!» Но сзади уже подготовлены иракские грузовики, закрывающие американцам путь к отступлению. Начинается огненная мясорубка…
На самом деле все это происходит не в Багдаде, а в сирийском торговом городе Халеб (он же Алеппо). На улице. Вокруг пятнадцатидюймового монитора, установленного рядом с лотком, на котором продают видеодиски, скучковались сирийцы и увлеченно смотрят кино. В Халебе в тот год было множество таких лотков с видеодисками.
Халеб – это город, переполненный призраками массмедиа. Город, где цивилизация Ближнего Востока рефлексирует себя в зеркале Западного мира и получает самоопределение, создавая западному миру альтернативу. И впадая тем самым от этого мира в неуёмную зависимость.
За все время нашего пребывания в городе Халебе (в этом, по выражению одного русского туриста, «городе, будто сошедшем со страниц сказок 1001-й ночи»), мы ни разу не слышали западной поп-музыки. У них есть своя. Она тоже продается на лотках. И, как правило, не существует без видеоряда (дешево смонтированные образцы красивой жизни по-арабски – водопады, пышнотелые красавицы, которые на фоне этих водопадов манерно танцуют танец живота, свадьбы, застолья, светская жизнь, горячие мужчины в дорогих костюмах и жаркие женщины в ярких атласных платьях).
Женщины с широкими бедрами и огромным бюстом (говорят, их с самого детства специально откармливают сладостями, чтобы они обрели надлежащие формы) – это образец восточных красавиц, полная противоположность западным стереотипам. И вдруг среди всех этих женщин-водопадов обнаруживается диск, посвященный войне в Ираке. И вот уже сирийским мужчинам больше неинтересны женщины и застолья. Они заворожено наблюдают за тем, как под аккомпанемент плохо записанной сирийской попсы (с антивоенными текстами) иракцы мочат в мясо американцев. Как Восток торжествует над Западом в кровопролитной бойне. Бесспорный хит… Но откуда взялось это кино? Кто его создатель?
Иракцы мочат в мясо американцев. Трудно сказать наверняка – постановка это или документальные съемки. Внизу (будто бы всё снято на любительскую камеру) есть дата – 2004.10.28. Но… слишком для документальных кадров наигранные лица у американских солдат и слишком четко прослеживается сюжетная линия, к тому же иногда мелькают спецэффекты, которые явно сработаны на компьютере. С другой стороны, для постановки, сделанной арабами на коленке, это кажется чересчур дорогим и монументальным кино, да и уровень монтажа совсем не похож на остальные CD-ромы, которые тут продают. Все эти богатые гулянки и природные красоты сняты явно на любительскую цифровую камеру и смонтированы на скорую руку в любительских программах. А над «иракским хитом» явно работали профессионалы. Скорее всего, это смесь документальных кадров, искусно смонтированных, и постановки. Пропагандистский фэйк, медиавирус. А может быть кто-то просто решил использовать в целях наживы праведную ненависть арабов к американцам?
Ракета впивается в американский грузовик. Грузовик подпрыгивает, переворачивается колесами вверх и исчезает в красно-оранжевом дыму. Сирийские мужчины в толпе шевелятся, под воздействием какого-то невидимого импульса переступают с ноги на ногу, покачивают головами и тихо переговариваются. Крупный план: ноги американского солдата в защитных штанах. И тут в эти ноги попадает снаряд – и солдат складывается на землю. Сирийцы в толпе удивленно ахают. Снова крупный план: красно-черные остатки ног в армейских ботинках дымятся на выжженной земле.
Халеб находится совсем уже рядом с прозападной Турцией, почти на границе. Восток в Халебе соединяется с Западом. Они выясняют отношения, смешиваются, совокупляются, дерутся, ненавидят друг друга, продают друг друга в рабство. А потом расходятся в разные стороны, оставляя себе то, что принадлежит каждому изначально. Отторгают друг друга, как масло и вода. Халеб для арабского мира – как Москва для европейского… И, кстати, здесь (почти как в Турции) – десятки вывесок на русском языке. «Фирма Абдулы из Халеба. Обувь», «Свежие кондитерские изделия – оптом и в розницу».
Кругом безумие и суета, по качеству варящейся в них энергии почти идентичные московским суете и безумию, только еще бесшабашнее и нелепее. Потому что сирийские арабы – самый бесхитростный и прямой народ на свете. Сирия вообще – очень простая страна. А сирийцы – простейшие и уж точно не тонкие люди. Они не умеют лгать, хотя очень любят это делать.
Город торговцев и юродивых. Город врунов и актеров… Халеб пропитан шоу-бизнесом, но это не западный шоу-бизнес, который стремится подменить реальность. Это восточный шоу-бизнес, и бог, например, играет здесь совсем не ту роль, что в западном, «католическом шоу-бизе». Бог здесь действительно есть. И он действительно всё прощает. Поэтому людям не нужно особенно притворяться честными…
Я хочу купить чехол для мобильника. Спрашиваю мальчика в лавочке: «Сколько?» («Адэйш?») Он пишет мне на калькуляторе «50». В этот момент подходит отец мальчика. Я набиваю на калькуляторе «40». Отец, не видевший, что набил мне до этого мальчик, деловито и как бы совершенно уверенно в своей правоте говорит «One Hundred». Я со смехом поворачиваюсь уходить. «75!» – кричит вдогонку толстый усач…
Кинотеатр оклеен эротическими фотографиями. Но внутри идет «Властелин колец». Всё не то, чем кажется, всё лжет во всякое время… Убогие религиозные нищие, сидя у входа в мечеть, поют, раскачиваются, жмутся и закатывают глаза. И вдруг один из них прекращает раскачиваться, застывает на секунду, замолчав и выпрямившись. А потом достает из внутреннего кармана пиджака мобильник и, как совершенно обычный деловой человек, начинает вести с кем-то обыденную серьезную беседу. Дервиш…
Иду вниз по улице. Слева – проезжая часть, очень оживленная, справа – череда лавочек, торгующих всякой лабудой – сигаретами, шапками, теплой белой кашей из крахмала и кокосовой стружки, которая служит нам здесь завтраком. Посреди улицы – пустая картонная коробка. Шум, гам, суета, люди бегут в разные стороны. Коробку люди старательно обходят, стараясь не задеть. Но не отрывают от нее заинтересованного взгляда. Скотчем к коробке прикреплен сломанный компакт-диск и – фотография полуголой девушки. Кому принадлежит коробка, становится понятно через минуту: из табачной лавочки напротив мне сально подмигивает седовласый дядя…
Еще через десять метров на лотке продают наклейки. Наклейки делятся на три категории. Первая – красивые виды (водопады, пейзажи). Вторая – политические наклейки, которые демонстрируют в основном частную жизнь президента страны (Башар катается на велосипеде, Башар в кругу семьи). Третий вид – эротика. Красотки в бикини. Среди красоток неожиданно отыскивается наклейка со знойной Шакирой («Shkira» – указано под фотографией). Западная поп-музыка представлена на сирийском рынке только таким способом…
Сворачиваю в проулок между домами. Двигаюсь в ту сторону, где предположительно должен обнаружиться крытый рынок-лабиринт. Но вскоре, так и не зацепив рынок, выхожу к холму Телль, на котором высится цитадель. По мосту поднимаюсь через ров к большой башне и, заплатив 50 лир, вхожу внутрь. Огромные сводчатые залы с небесной мозаикой, перетекая один в другой, выводят в руины старой крепости, к полуразрушенным мечетям, башням и бастионам. Сквозь бойницы смотрю на серый мокрый от дождя город…
И тут, как раз когда я подошел к краю цитадели, облака вдруг рассеялись и навстречу мне вышло солнце. От прекрасного бесконечного города с полукруглыми куполами мечетей, башнями-минаретами и квадратами средневековых домов поднимались розовые облака пара. Над городом висела радуга. И я был на самом верху… Кто-то в городе громко-громко переливисто запел простую и понятную песню на незнакомом арабском языке… Радуга, медленно опускаясь на город, растворялась в небесах. Постановка или документальные съемки? Да какая, собственно, разница…
Осень 2004 г.
Фото: Глеб Давыдов
Часть вторая. Европа
МАРТ В АМСТЕРДАМЕ
Себастьян Ландкроон ждал нас наверху. Взгляд молниеносно пробежал по красной ковровой дорожке, покрывавшей узкую крутую лестницу, уходящую вверх, в бесконечность, туда, где ждал нас Себастьян, и мы стали подниматься. Так начиналась очередная вечеринка, которых было в Амстердаме так много, что я и рассказать-то про них ничего не смогу, – все слилось в одно сплошное общее впечатление и обрывки каких-то ничего не значащих сцен, в разноцветный закатный фон мартовского Амстердама.
Только что, например, мы забили на концерт Джульетт Льюис, выступавшей в клубе «Парадизо», мимо которого мы шли в гости к Себастьяну. Как знакомая девочка Эльза нас туда ни зазывала, нам было куда интереснее потратить этот теплый весенний вечер с Себастьяном в его патриархально-аристократической квартире на последнем этаже слегка готического (вполне типичного для этого города) дома – темного, узкого и высокого. В квартире, наполненной холстами себастьяновского деда, различной занятной утварью и горящими свечами.
Кроме свечей, в гостиной еще горел живой камин, а на пустых – пока еще пустых – бокалах колыхались блики пламени. Себастьян включил антифашистского Шостаковича, наполнил бокалы испанским вином и достал пачку макадэмий – божественных на вкус, хрустящих и тающих одновременно орешков. Разговор пошел о вчерашних событиях в квартале красных фонарей.
Вчерашний вечер закончился бегством. После получасовой прогулки по кварталу красных фонарей – среди падших улыбчивых красоток в розовых витринах и вонючих обдолбанных негров-барыг – мне и Лео стало невыразимо херово… Об этом мы и рассказывали Себастьяну. В ответ Себастьян признался, что тоже не любит этот район, и, когда ему приходится проходить через него, чувствует себя совершенно больным. «Но ведь все же есть там некоторое очарование, – я подобрал с пола небольшую щепку и бросил ее в камин, щепка моментально вспыхнула и сгорела. – В этой порочной атмосфере есть что-то романтично-притягательное».
«Да, – согласился Себастьян, – в квартале красных фонарей есть какое-то мистическое отчаянье. Как в фильмах Дэвида Линча, которого я так люблю. Некая призрачная экзистенциальность». Да… Так и есть. Мы были как два обезумевших от собственной слабости и почти сдавшихся ангела – вроде бы и спасать должны всех этих пробитых людей, а спасти-то не можем, а можем только слиться с их мерзостью, позволив им тем самым хоть на один миг ощутить какую-то небывалую близость к Богу… Себастьян что-то ответил, но я уже не слушал его – я смотрел на огромный портрет на стене. На портрете в полный рост был изображен Себастьян в юности – настоящий дэнди в котелке и во фраке. А вокруг – пасторальные картины из жизни старой голландской деревни – сенокос, крестьяне, все такое желто-зеленое, светлое, жизнерадостное, и среди этих крестьян и крестьянок – тоже косит траву – маленькая незаметная черная смерть. Дед Себастьяна был великий художник.
«Амстердам не жалуется на свою грязь, он просто принимает ее – и все равно остается красивым. За это я его и люблю», – сказал мне Лео. Мы пили пиво в каком-то уличном баре напротив живописно раскинувшегося перед нами, грязного, как Москва-река, канала. «В отличие от прилизанного Люксембурга, например, на который приятно смотреть, но который не живет с тобой». Лео в Амстердаме уже три месяца. Его привело сюда вовсе не желание без проблем накуриваться каждый вечер, а нечто иное. Оказавшись здесь, он просто влюбился в этот город и решил, что хочет жить в нем. Ничуть не смущаясь всеми этими наркоманскими опциями Амстердама, но и не используя их, он открыл для себя совсем другой Амстердам. Для которого наркотики – только одно из многих проявлений, и проявление это даже не имеет особого значения. Так, случайная побочка, и уж ни в коем случае не причина и не суть.
Мы расплатились по счету и пошли по улочке вниз. Из арки вырулили два бомжеватого вида велосипедиста и предложили велосипед за 10 евро. «Два велосипеда за десять», – стали торговаться мы. Велосипеды были, разумеется, краденные, а бомжам не хватало на травку – и, поломавшись слегка, бомжи согласились. «Слушай, Лева, зачем нам сейчас велосипеды?» – с сомнением спросил я. Беззубый негр в грязной болоньевой куртке омерзительно голубого цвета явно прочухал, о чем это я толкую, и озлобленно прошипел: «Что вы тут шутки шутите! Будете брать или нет???»
«Ок, вы тут всегда стоите? Давайте мы придем завтра, может быть, и купим у вас». Негр разозлился еще сильнее, плюнул мне под ноги, прошепелявив, что мы мазафакеры, и стал крутить педали, уезжая от нас. Черная тварь! Его блядская слюна блестела на поле моего эксклюзивного пиджака. Скотина! Я пришел в такое бешенство, которого вовсе не ожидал от себя после благостного пивораспития в живописном баре… «Иди сюда, нигер! – заорал я. – Ко мне!» Я почти даже догнал его, и, когда уже готов был долбануть ногой по багажнику его велосипеда, дабы свалить черного вора на землю и как следует отмудохать, он осознал вдруг, что моя решимость разобраться с ним куда сильнее, чем решимость купить велосипед, и закрутил педали с удвоенной силой.
Колокола, птицы, росистый воздух, крепкие скуластые люди, бутерброды с нежнейшей селедкой хайринг… Дома в лодках, узкие улочки и широкие кольца каналов, обветренные площади и торговые улицы магазинов, узкие четырехэтажные домики… Я понять не мог, как в одном и том же городе могут уживаться такие светлые люди, как Себастьян, и все эти пропащие наркоманы, живущие уже где-то совсем в другом мире, в своем каком-то бесконечном трипе…
Больной квартал красных фонарей, наполненный сексшопами, неграми, кофешопами и грязными бомжами-наркоманами. Грязь так и липнет к тебе изо всех щелей, она соскакивает на тебя из дредов проходящих мимо фриков, лоснится вокруг и кусает тебя за руки, соскользнув с лысины пожилого извращенца, приобретающего в сексшопе dvd с садо-мазо-порнухой.
Грязь пыльно оседает в носу вместе с запахом ганджи, когда ты проходишь мимо очередного кофешопа, в котором сонные улыбчивые люди потеряли время. Жалкой головной болью оборачивается жарко-поддельная улыбка проститутки, случайно подхваченная тобой из-за розовой занавески. Да fuck them all, какого черта! – думаешь ты. Какого черта они тут все делают! Ведь им же всем плохо и только становится все хуже и хуже от такой жизни – все эти продажные искусственные извращения, все эти политые химикатами травки и грибочки, вызывающие иллюзию какой-то необычной настоящей жизни. Лузеры. В этот момент очаровательная девушка, сидящая за прилавком в магазине Magicmushrums, поднимает голову и оказывается морщинистой старухой. Как??? Как хрупкая патриархальная чистота каналов и барочных домиков уживается с этой липкой порочной мерзостью красных фонарей – непонятно. Однако бездомный черный нищий, бьющий в колотушку, гнусавящий под нос себе какую-то частушку и просящий милостыню у проституток, наркодилеров и слюнявых задротов, внезапно умолкает, заслышав звон колоколов на церкви Аудэ.
Я вернулся в наш антисквот. По-голландски это называется «антикраак» («краак» значит сквот). Голландский закон гласит: нет такого пустующего дома, который не мог бы быть краакнут. Если дом пустует, значит его можно занять. То есть просто вселиться, если в нем уже больше года никто не живет (главное не быть пойманным непосредственно в момент взлома). И никто ничего не скажет. И никто не выгонит. Владельцам дома придется найти вам аналогичное по стоимости и месту расположения жилье, если они вдруг вспомнят, что у них есть дом, и захотят, к примеру, его отремонтировать и сдавать. Так вот, риэлторы недавно придумали следующее: если хозяева уже опомнились, но еще не отремонтировали свой дом, то фирма подыскивает какого-нибудь вполне благонадежного представителя среднего класса и подписывает с ним договор. Человек начинает жить в доме за сущие копейки – 150 евро в месяц. И целых четыре этажа, пусть и во вполне аварийном состоянии, – в полном его распоряжении. Вуаля. Но по договору он должен покинуть место по истечении определенного срока. Пока он живет в доме, дом гарантированно никто не краакнет. Лео был подходящим кандидатом для антисквота. Профессиональный скрипач из Америки, только что подписавший контракт на год с одним из лучших амстердамских оркестров…
Черный четырехэтажный замок. С электричеством и горячей водой. Чего ж еще? Лева обжил второй этаж. Третий был полностью в моем распоряжении. На четвертом не было ничего, кроме битых стекол на полу, истлевшего шкафа и сломанной ржавой плиты. Пол на всех этажах был кривым и, когда по нему ходили, страшно скрипел. Где-нибудь у окна на пыльном подоконнике можно было запросто обнаружить голландские гульдены пятидесятилетней давности. В окнах ярко светились остатки старинных витражей – розовые пастушки, желтые птички и другие красоты. «Этот дом никогда не скажет тебе, что он в порядке, даже если ты постоянно будешь им заниматься», – сказал Леве Себастьян, заделывая мокрой туалетной бумагой сквозные щели на улицу, которые я обнаружил в своей комнате, проснувшись ночью от леденящего ветра.
В центре просторной комнаты стояли музыкальный центр, два кресла и огромный обшарпанный диван, принесенный Лео откуда-то с помойки. (Помойки тут образуются каждую среду и воскресенье у каждого дома – люди просто выносят ненужное и оставляют у дверей своих домов, а утром мусорщики незаметно забирают все это. При этом среди мусора иногда оказываются вполне хорошие вещи – легко можно найти телевизор или пылесос в рабочем состоянии или какой-нибудь приятный журнальный столик.) У нас в гостиной вечно что-то звучало – то Игги Поп, то Шостакович, то Нина Симоне, то Сабрина, и постоянно шли вечеринки, сменяющиеся неизбежным утренним похмельем.
Достаточно было просто высунуться в окно, увидеть двух полупьяных красоток, только что вывалившихся из джаз-бара напротив и собирающихся ехать на своих велосипедах в дискотеку, и предложить им выпить вина. Голландки напьются и станут отплясывать на столе грязные танцы, обрывая провода, тянущиеся по потолку, и падая с грохотом в кучу пустых бутылок. В тот вечер аргентинское вино Urban въелось в мои внутренности терпким черным клещом, и я с ужасом продолжал кружиться по перекошенной деревянной зале нашего жилища. Себастьян, Машид, Жюстина, Лео, две эти безумные голландки – не помню уже, как их звали, – все смешалось. Я был пьян, и мне хотелось утра и воздуха. «Пойдем покупать билет во Францию! Я не могу больше жить в этой стране, – сказал я Леве на следующий день. – Здесь слишком много свободы».
Темнота, мы на третьем этаже нашего замка. Сквозь полузакрытые пыльные жалюзи мы, сидя в мягких креслах, видим окна дома напротив (улицы здесь узкие, так что дом напротив находится метрах в десяти от нашего). Мы пьем пряное, на этот раз южноафриканское вино, закусываем бананами и брюссельским шоколадом и разглядываем полуголую девушку в освещенной комнате дома напротив. Девушка готовится ко сну, намазываясь кремами. Со второго этажа доносится Шостакович.
Девушка села за компьютер, а я спустился вниз и вышел на улицу. На мосту рядом с входом на нашу улицу садилось солнце. Оно медленно таяло в темной воде, постепенно проявляя в ней отражения фонарей. В свете этих отражений медленно загорались и плавали прямоугольные окна домов. От ветра они изменяли очертания, как будто фотографию забыли опустить в закрепитель, и расплывались на множество маленьких, ничего не значащих световых иконок. И треугольные крыши тонули где-то далеко на дне. Понятно теперь, почему этот город так хорош, светел, грязен и безумен. Чего еще можно ожидать от людей, день изо дня наблюдающих, как их собственные дома к вечеру ближе превращаются в какие-то расплывчатые корабли, которые, покачиваясь и теряя очертания, тонут в бесформенном омуте каналов. Все слилось в одно сплошное общее впечатление и обрывки каких-то ничего не значащих сцен, в разноцветный закатный фон мартовского Амстердама.
Весна 2005 г.
Фото: Глеб Давыдов