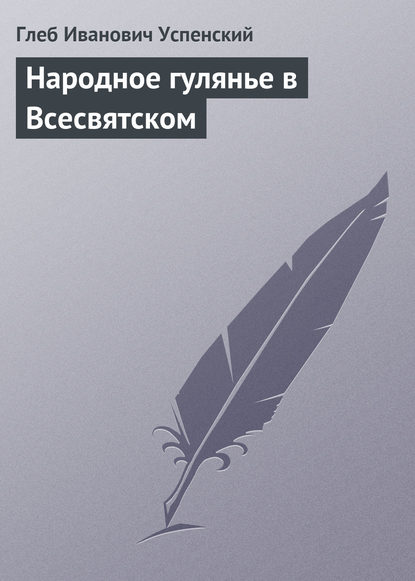По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Народное гулянье в Всесвятском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Что ты, говорю, орешь!» Пробираюсь к спальне. Двери заперты. Надо лезть через перегородку. Думаю, стану на рукомойник, оттеда на стул. Только полез, братец ты мой, нога у меня и соскользни! Я на рукомойник верхом; рукомойник оборвался в таз; таз на пол. Стра-а-а-сть! Утром жена встала, видит лужи, думает: ребятишки. Схватила одного за вихор: дескать, просись, просись! А я-то лежу, помираю со смеху.
И приятели залились смехом и потом продолжали пить чай молча.
Вваливается толпа подгулявших мужиков в дырявых полушубках, свитах и, шурша своими одеждами, усаживается за стол.
– Митряй, насупроти, насупроти садись.
– Сядем-с, Яков Антоныч.
– То-то. Здеся насупроти, говорю.
– Благодарим покорно.
– Левоша! – слышится через несколько времени. – Я так говорю: за что мы пропадаем?
Левоша тупо смотрит в стол.
– За что, я говорю, погибаем? Помрем все!
– Все! Это уж шабаш!
– Просшай! Просшайте, други милые!
– Экой народ, – замечает иронически половой, подавая зажженную спичку какому-то дачнику в парусинном пальто, – как это мало-мальски попало ему, тут ему и смерть, и пропали да погибли, режут нас да обижают. Только у него и разговору.
– Нет, во што! С мертвого возьмем! – кричал Яков Антоныч, царапнув в стол кулаком.
– Возьмем!
– Нешто нет? Сейчас издохнуть, возьмем! Мы по начальству. Что такое! Али мы…
– Шалишь… э-э…
– Я те, погоди! – произносит Левоша, прищуривая глаз и прилаживаясь курнуть папироску, причем держит ее обеими руками.
– Это ты что подал? – орет дачник.
– Коньяк-с.
– Коньяк?
– Так точно-с.
– Свинья!
– Как вам будет угодно.
– Да вот так мне и угодно!
Около стойки совершенно трезвый мужик, приготовляясь пропустить шкальчик, рассказывает молодцу, как у него лошадей увели:
– А какие животы-то! Сейчас издохнуть, за гнединького-то гурийский барин двести серебра давал! «Не тебе бы, говорит, Митька, ездить: во что!» Уж как приставал, как приставал, – все крепился. Ведь что такое; слава богу, нужды нету, а тут вот…
– Все гордость!
– Она! Она!
– Как увели-то?
– Да как уводят? Напали середь чистого поля: «вылезай-ка, друг любезный!» Отобрали рукавицы, кнут, все дочиста. Шапку было тоже норовили, да спасибо один заступился. «Нет, говорит товарищу, шапку ему отдай: вишь вьюга (перед масленой дело-то было). Отдай, говорит, а то чего доброго простудится, умрет: богу за душу ответишь».
– Вона как!
Некоторое молчание.
– Шкальчик! – произносит солдат, выкладывая на стойку пятачок.
– Сию минуту-с.
– Да в белой посуде чтоб.
– Нет-с, это не можем.
– Да что ты? Ай нам впервой? Мы, слава богу, учены!
– Что же-с, кавалер, нам тоже надыть себе преферанс оказывать. Копеечку набавьте – так; ноне не бог весть какие доходы-те: когда-когда ведро в сутки сбудешь.
– Так что ж нам трынка-то важность, что ли? – вломился вдруг в амбицию солдат.
– Кто говорит!
– Иван Егорыч, оставь! – пищит солдату какой-то люстриновый капот. – Господь с ним.
– Постой! Что ты мне: «господь с ним»? Этак «господь с ним» с одним да с другим, так тебе в день шею свернут!
– Сделай милость, оставь!
– Кавалер, не горячитесь.
– Нет, я те во чем угощу!
– Ну, это еще надвое!..
Кое-как солдат с бранью удаляется от стойки.
– Так это-то ты ромом называешь? – орет опять дачник.
– Так точно.
И приятели залились смехом и потом продолжали пить чай молча.
Вваливается толпа подгулявших мужиков в дырявых полушубках, свитах и, шурша своими одеждами, усаживается за стол.
– Митряй, насупроти, насупроти садись.
– Сядем-с, Яков Антоныч.
– То-то. Здеся насупроти, говорю.
– Благодарим покорно.
– Левоша! – слышится через несколько времени. – Я так говорю: за что мы пропадаем?
Левоша тупо смотрит в стол.
– За что, я говорю, погибаем? Помрем все!
– Все! Это уж шабаш!
– Просшай! Просшайте, други милые!
– Экой народ, – замечает иронически половой, подавая зажженную спичку какому-то дачнику в парусинном пальто, – как это мало-мальски попало ему, тут ему и смерть, и пропали да погибли, режут нас да обижают. Только у него и разговору.
– Нет, во што! С мертвого возьмем! – кричал Яков Антоныч, царапнув в стол кулаком.
– Возьмем!
– Нешто нет? Сейчас издохнуть, возьмем! Мы по начальству. Что такое! Али мы…
– Шалишь… э-э…
– Я те, погоди! – произносит Левоша, прищуривая глаз и прилаживаясь курнуть папироску, причем держит ее обеими руками.
– Это ты что подал? – орет дачник.
– Коньяк-с.
– Коньяк?
– Так точно-с.
– Свинья!
– Как вам будет угодно.
– Да вот так мне и угодно!
Около стойки совершенно трезвый мужик, приготовляясь пропустить шкальчик, рассказывает молодцу, как у него лошадей увели:
– А какие животы-то! Сейчас издохнуть, за гнединького-то гурийский барин двести серебра давал! «Не тебе бы, говорит, Митька, ездить: во что!» Уж как приставал, как приставал, – все крепился. Ведь что такое; слава богу, нужды нету, а тут вот…
– Все гордость!
– Она! Она!
– Как увели-то?
– Да как уводят? Напали середь чистого поля: «вылезай-ка, друг любезный!» Отобрали рукавицы, кнут, все дочиста. Шапку было тоже норовили, да спасибо один заступился. «Нет, говорит товарищу, шапку ему отдай: вишь вьюга (перед масленой дело-то было). Отдай, говорит, а то чего доброго простудится, умрет: богу за душу ответишь».
– Вона как!
Некоторое молчание.
– Шкальчик! – произносит солдат, выкладывая на стойку пятачок.
– Сию минуту-с.
– Да в белой посуде чтоб.
– Нет-с, это не можем.
– Да что ты? Ай нам впервой? Мы, слава богу, учены!
– Что же-с, кавалер, нам тоже надыть себе преферанс оказывать. Копеечку набавьте – так; ноне не бог весть какие доходы-те: когда-когда ведро в сутки сбудешь.
– Так что ж нам трынка-то важность, что ли? – вломился вдруг в амбицию солдат.
– Кто говорит!
– Иван Егорыч, оставь! – пищит солдату какой-то люстриновый капот. – Господь с ним.
– Постой! Что ты мне: «господь с ним»? Этак «господь с ним» с одним да с другим, так тебе в день шею свернут!
– Сделай милость, оставь!
– Кавалер, не горячитесь.
– Нет, я те во чем угощу!
– Ну, это еще надвое!..
Кое-как солдат с бранью удаляется от стойки.
– Так это-то ты ромом называешь? – орет опять дачник.
– Так точно.