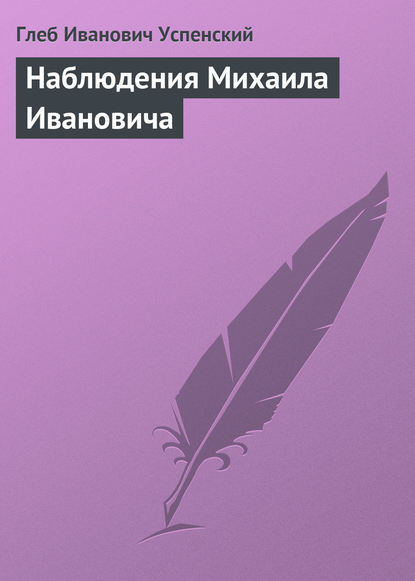По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наблюдения Михаила Ивановича
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2
Путь лежит в город через слободку Яндовище, где у Михаила Иваныча между рабочим народом много знакомых, так как здесь он сам живал долгое время. При въезде в улицу, начинающуюся кузней, лицо Михаила Иваныча теряет то оживление, которое придало ему утро и чугунка; лошадь, которую он начинает называть «горькая», «мертвая», идет тихо: Михаил Иваныч едет по тому царству прижимки, от которой единственное спасение – Максим Петрович; ибо ни в этих домишках, осевших назад во время приколачивания к ним нумера, ни в этих трубах, похожих на решето, ни в этих воротах, слепленных из дощечек, решительно не усматривается того, по поводу чего Михаил Иваныч мог бы сказать – «Не то время!», как это он говорит при виде доживающего произвола…
– Ваня! – грустно сказал Михаил Иваныч, останавливаясь у одной кузни, лепившейся рядом с крошечным двориком.
Высокий черный и худой человек, стоявший в глубине кузни у пылающего горна, только обернулся на эти слова вытаращенными глазами и не сказал ни слова.
– Ванюша! – повторил Михаил Иваныч, привязав лошадь и входя в кузню. – Что-о? Здорово! Обмякли дела?..
Вместо ответа Ваня сердито и торопливо засунул железо в горн и, попрежнему не говоря ни слова, вышел из кузни, причем большие вытаращенные глаза его как бы сказали: «в кабак». Идя проворно сзади шедшего Вани, Михаил Иваныч видел, как он, не оглядываясь и как бы мимоходом, овладел железным баутом, видневшимся из-за ставни одной хибарки, и юркнул с ним в кабак. Нужно было не более секунды, чтобы оторванный баут был грохнут на кабашную стойку, чтобы целовальник, мельком взглянувши на него, спихнул его куда-то в яму под стойку и выставил водку.
– Это так-то? – сказал Михаил Иваныч, взглянув на Ваню.
Но Ваня, молча совершивший все это, так же молча и торопливо выпил стакан водки, отошел в угол и, обернувшись оттуда, буркнул Михаилу Иванычу:
– Обмякло!..
И снова сжал рот, загадочно смотря на Михаила Иваныча глазами, какими смотрят немые. Михаил Иваныч тоже смотрел на него.
– Они потеряли всякий стыд! – пояснил целовальник: – потому что они в настоящее время обкрадывают друг друга – в лучшем виде. Даже удивляешься, – прибавил он стыдливо.
Но Михаил Иваныч, не обращая внимания на это объяснение и глядя на Ваню, видел, что прижимка цветет и не увядает. Она изуродовала человека до того, что он лишился возможности выразить то, что у него на душе, а может только тупо смотреть, молча плакать, скрипеть зубами и вертеть кулаком в груди…
– Убечь от вас – одно! – сказал Михаил Иваныч, вздохнув и отводя от Вани глаза. – Надо, надо убечь!
– Что, душеньки, – робко произнесла женщина, войдя в кабак, – бауту не получали ни от кого?
– Какие бауты-с! – гордо ответил целовальник, не поднимая глаз. – Что такое-с? Что вы считаете?.. У вас нет ли чьих?..
– Я вить так… чуть… что ты?
– То-то-с!.. Почему у Андрея трех досок в крыше нету?..
– Уж спросить нельзя! – сказала женщина, улыбаясь беззубым ртом. – Набрасывается!
– Отыщите-с! – заключил целовальник.
– То есть только бы господь вынес! – испуганный этим обманом и грабежом, проговорил Михаил Иваныч. – Надо, на-адо в Питер!.. Что это тебя ест? – отнесся он к Ване, который все время сновал и останавливался, как зверь в клетке.
– Жена! – брякнул тот, хватил стакан водки и одним шагом очутился на улице…
Михаила Иваныча рвануло за сердце.
– И что это еще эти шкуры выдумывают? Где она? Я ей… – сердито говорил он, догоняя Ваню… – Чего они еще мудруют, не умудрятся?.. Везде нашего брата обчищают, а тут домой придешь избитый да измученный, и тут тебя еще ожигают! Одурели! Баловаться-то не с чего… Ошалели!..
Говоря таким образом, он дошел до Иванова жилья и отыскал его жену. Это была изможденная, какая-то сырая женщина, вялая, словно полинялое платье, в котором она была.
– Что вы, Федосья Петровна, забунтовали? Что вы заставляете мужа воровать чужое да в кабак таскать? Почему так? Али вы не знаете, что и без этого наш брат терпит? Что вы-с? Себя пожалейте.
– Я, Михаил Иваныч, не бунтуюсь… – едва внятно и испуганно проговорила жена Вани.
Смущенный тоном ее голоса, Михаил Иваныч уже гораздо тише продолжал:
– Как же не бунтуетесь? Уж с чего же нибудь да пьет он? Уж что-нибудь да…
– Потому что Иван Иваныч в том имеют сердце, что я не своим делом занимаюсь.
– А вы бросьте! У вас свое хозяйское дело на руках. Что вам в чужое соваться? Вы и с бабьим-то делом много помочи окажете… Вы, значит, держитесь своего…
– Чего ж мне, Михаил Иваныч, за свое дело держаться, коли нету у нас никакого хозяйства? Печка развалится, и совсем без печки останемся. Что я буду хозяйствовать? – полена дров нету.
Михаил Иваныч оглянул жилье и молчал.
– А Иван Иваныч в том серчают, что я им хочу помочь оказать. Когда у меня женского дела нету, я мужским хочу заняться… Думаю: обучусь я ихнему мастерству. Все что-нибудь добуду для дома… За это они и серчают и бьют, коли увидят, что я на станке занимаюсь. «Не твое дело! Что ты, баба, можешь!..» Только у них и слов: «Не видано этого, чтобы баба…» и бьют… «Дайте мне обучиться!» – а они…
– Ах он, стоеросовая дубина! – озлился Михаил Иваныч и вскочил. – Чучело! – закричал он на Ваню. – Что ты мудруешь? Да что вы? Вы очумели совсем…
Ваня стоял к нему спиной и не отвечал. – Как же ты не понимаешь, что жена хочет тебе пользу делать? Это вот никто-тебе помочи не давал, так ты и не веруешь…
– Не видано! – буркнул Ваня и заворочал мехами.
– Да дай ты ей обучиться-то, дубина!.. Попадись к вам человек с понятием, вы его в гроб вгоните… Вы очумелые…
Михаил Иваныч долго вразумлял Ваню насчет пользы, которую ему хочет оказать жена; но в голову его собеседника решительно не входила мысль о том, что женина затея может иметь благоприятные результаты. Да и, кроме того, ему было обидно за жену – «жена не на это дадена»… Словом, ему было скучно утратить в жене женщину и получить «работницу»… Он молча ворочал мехами и калил свое лицо среди летевших искр. Кроме отрывистого «не видано», Михаил Иваныч не мог добиться ни слова.
– Ну чорт тебя возьми! – взбешенно проговорил он и ушел. – Тут с вами сам пропадешь. Вот сделай, сделай с ними! Ах, убегу, убегу!
3
– Надбавка? – это, брат, верно будет! – донеслось до Михаила Иваныча, когда он старался поскореее выехать из этой ужасной стороны.
Эти слова, произнесенные весьма самодовольным голосом среди стонущего царства прижимки, заставили его остановить лошадь.
– Кто надбавляет? – отрывисто спросил он высокого подгулявшего рабочего.
– Проезжай! – закричал тот.
– Пошел своей дорогой! Допросчик нашелся!.. – прибавил другой спутник.
– Ты не зевай! – оборвал его Михаил Иваныч. – Я, брат, сам зевать-то умею; а коли ежели у тебя спрашивают, отвечай по-человечьи. Что я тебе сделал? Что ты по-собачьи лаешь?.. Кто дает надбавку?
– Хозяин! – тоже отрезал рабочий сердито и пошел в кабак.
Михаил Иваныч не оставил его и отправился вслед. При его входе небольшой котелок, хранившийся под полой одного из рабочих, тем же порядком, как и баут, загремел под стойку. Два друга уселись за выпивкой.
– Кто такой надбавщик явился? – спросил Михаил Иваныч.
– Говорю: хозяин новый… молодой…
Путь лежит в город через слободку Яндовище, где у Михаила Иваныча между рабочим народом много знакомых, так как здесь он сам живал долгое время. При въезде в улицу, начинающуюся кузней, лицо Михаила Иваныча теряет то оживление, которое придало ему утро и чугунка; лошадь, которую он начинает называть «горькая», «мертвая», идет тихо: Михаил Иваныч едет по тому царству прижимки, от которой единственное спасение – Максим Петрович; ибо ни в этих домишках, осевших назад во время приколачивания к ним нумера, ни в этих трубах, похожих на решето, ни в этих воротах, слепленных из дощечек, решительно не усматривается того, по поводу чего Михаил Иваныч мог бы сказать – «Не то время!», как это он говорит при виде доживающего произвола…
– Ваня! – грустно сказал Михаил Иваныч, останавливаясь у одной кузни, лепившейся рядом с крошечным двориком.
Высокий черный и худой человек, стоявший в глубине кузни у пылающего горна, только обернулся на эти слова вытаращенными глазами и не сказал ни слова.
– Ванюша! – повторил Михаил Иваныч, привязав лошадь и входя в кузню. – Что-о? Здорово! Обмякли дела?..
Вместо ответа Ваня сердито и торопливо засунул железо в горн и, попрежнему не говоря ни слова, вышел из кузни, причем большие вытаращенные глаза его как бы сказали: «в кабак». Идя проворно сзади шедшего Вани, Михаил Иваныч видел, как он, не оглядываясь и как бы мимоходом, овладел железным баутом, видневшимся из-за ставни одной хибарки, и юркнул с ним в кабак. Нужно было не более секунды, чтобы оторванный баут был грохнут на кабашную стойку, чтобы целовальник, мельком взглянувши на него, спихнул его куда-то в яму под стойку и выставил водку.
– Это так-то? – сказал Михаил Иваныч, взглянув на Ваню.
Но Ваня, молча совершивший все это, так же молча и торопливо выпил стакан водки, отошел в угол и, обернувшись оттуда, буркнул Михаилу Иванычу:
– Обмякло!..
И снова сжал рот, загадочно смотря на Михаила Иваныча глазами, какими смотрят немые. Михаил Иваныч тоже смотрел на него.
– Они потеряли всякий стыд! – пояснил целовальник: – потому что они в настоящее время обкрадывают друг друга – в лучшем виде. Даже удивляешься, – прибавил он стыдливо.
Но Михаил Иваныч, не обращая внимания на это объяснение и глядя на Ваню, видел, что прижимка цветет и не увядает. Она изуродовала человека до того, что он лишился возможности выразить то, что у него на душе, а может только тупо смотреть, молча плакать, скрипеть зубами и вертеть кулаком в груди…
– Убечь от вас – одно! – сказал Михаил Иваныч, вздохнув и отводя от Вани глаза. – Надо, надо убечь!
– Что, душеньки, – робко произнесла женщина, войдя в кабак, – бауту не получали ни от кого?
– Какие бауты-с! – гордо ответил целовальник, не поднимая глаз. – Что такое-с? Что вы считаете?.. У вас нет ли чьих?..
– Я вить так… чуть… что ты?
– То-то-с!.. Почему у Андрея трех досок в крыше нету?..
– Уж спросить нельзя! – сказала женщина, улыбаясь беззубым ртом. – Набрасывается!
– Отыщите-с! – заключил целовальник.
– То есть только бы господь вынес! – испуганный этим обманом и грабежом, проговорил Михаил Иваныч. – Надо, на-адо в Питер!.. Что это тебя ест? – отнесся он к Ване, который все время сновал и останавливался, как зверь в клетке.
– Жена! – брякнул тот, хватил стакан водки и одним шагом очутился на улице…
Михаила Иваныча рвануло за сердце.
– И что это еще эти шкуры выдумывают? Где она? Я ей… – сердито говорил он, догоняя Ваню… – Чего они еще мудруют, не умудрятся?.. Везде нашего брата обчищают, а тут домой придешь избитый да измученный, и тут тебя еще ожигают! Одурели! Баловаться-то не с чего… Ошалели!..
Говоря таким образом, он дошел до Иванова жилья и отыскал его жену. Это была изможденная, какая-то сырая женщина, вялая, словно полинялое платье, в котором она была.
– Что вы, Федосья Петровна, забунтовали? Что вы заставляете мужа воровать чужое да в кабак таскать? Почему так? Али вы не знаете, что и без этого наш брат терпит? Что вы-с? Себя пожалейте.
– Я, Михаил Иваныч, не бунтуюсь… – едва внятно и испуганно проговорила жена Вани.
Смущенный тоном ее голоса, Михаил Иваныч уже гораздо тише продолжал:
– Как же не бунтуетесь? Уж с чего же нибудь да пьет он? Уж что-нибудь да…
– Потому что Иван Иваныч в том имеют сердце, что я не своим делом занимаюсь.
– А вы бросьте! У вас свое хозяйское дело на руках. Что вам в чужое соваться? Вы и с бабьим-то делом много помочи окажете… Вы, значит, держитесь своего…
– Чего ж мне, Михаил Иваныч, за свое дело держаться, коли нету у нас никакого хозяйства? Печка развалится, и совсем без печки останемся. Что я буду хозяйствовать? – полена дров нету.
Михаил Иваныч оглянул жилье и молчал.
– А Иван Иваныч в том серчают, что я им хочу помочь оказать. Когда у меня женского дела нету, я мужским хочу заняться… Думаю: обучусь я ихнему мастерству. Все что-нибудь добуду для дома… За это они и серчают и бьют, коли увидят, что я на станке занимаюсь. «Не твое дело! Что ты, баба, можешь!..» Только у них и слов: «Не видано этого, чтобы баба…» и бьют… «Дайте мне обучиться!» – а они…
– Ах он, стоеросовая дубина! – озлился Михаил Иваныч и вскочил. – Чучело! – закричал он на Ваню. – Что ты мудруешь? Да что вы? Вы очумели совсем…
Ваня стоял к нему спиной и не отвечал. – Как же ты не понимаешь, что жена хочет тебе пользу делать? Это вот никто-тебе помочи не давал, так ты и не веруешь…
– Не видано! – буркнул Ваня и заворочал мехами.
– Да дай ты ей обучиться-то, дубина!.. Попадись к вам человек с понятием, вы его в гроб вгоните… Вы очумелые…
Михаил Иваныч долго вразумлял Ваню насчет пользы, которую ему хочет оказать жена; но в голову его собеседника решительно не входила мысль о том, что женина затея может иметь благоприятные результаты. Да и, кроме того, ему было обидно за жену – «жена не на это дадена»… Словом, ему было скучно утратить в жене женщину и получить «работницу»… Он молча ворочал мехами и калил свое лицо среди летевших искр. Кроме отрывистого «не видано», Михаил Иваныч не мог добиться ни слова.
– Ну чорт тебя возьми! – взбешенно проговорил он и ушел. – Тут с вами сам пропадешь. Вот сделай, сделай с ними! Ах, убегу, убегу!
3
– Надбавка? – это, брат, верно будет! – донеслось до Михаила Иваныча, когда он старался поскореее выехать из этой ужасной стороны.
Эти слова, произнесенные весьма самодовольным голосом среди стонущего царства прижимки, заставили его остановить лошадь.
– Кто надбавляет? – отрывисто спросил он высокого подгулявшего рабочего.
– Проезжай! – закричал тот.
– Пошел своей дорогой! Допросчик нашелся!.. – прибавил другой спутник.
– Ты не зевай! – оборвал его Михаил Иваныч. – Я, брат, сам зевать-то умею; а коли ежели у тебя спрашивают, отвечай по-человечьи. Что я тебе сделал? Что ты по-собачьи лаешь?.. Кто дает надбавку?
– Хозяин! – тоже отрезал рабочий сердито и пошел в кабак.
Михаил Иваныч не оставил его и отправился вслед. При его входе небольшой котелок, хранившийся под полой одного из рабочих, тем же порядком, как и баут, загремел под стойку. Два друга уселись за выпивкой.
– Кто такой надбавщик явился? – спросил Михаил Иваныч.
– Говорю: хозяин новый… молодой…