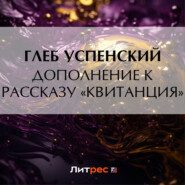По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вольные казаки
Автор
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что такое мучает вас? – как-то неожиданно и резко сорвалось у меня с языка.
Прохожий остановился, вперил в меня свой убийственный взгляд и несколько мгновений стоял молча и неподвижно. Вдруг, как ключ из камня, из его неподвижных темных глаз закапали слезы.
– Я сам мучил людей, – медленно выговорил он. – Я сам душегуб и кровопийца!.. Не меня мучили, я муч-ч-ил люд-дей!..
Последние слова он сопровождал медленными прикосновениями сжатого кулака к сердцу и неожиданно ослабел, не сел, а опустился на лавку, стоявшую в сенях; не будь этой лавки, он непременно бы свалился с ног.
– Я грешник! Я кровопиец!
Прижав к груди сжатый кулак, он замолчал, отвернулся и плакал… Мало-помалу он заговорил и по-прежнему, все с теми же странными оборотами речи, никаким образом, повидимому, не желавшими сделаться ясными, определенными, перемешанными к тому же с текстами священного писания, полными кротости и любви, но всегда дающими возможность подразумевать, что они адресуются к какому-нибудь непременно злому человеку, которому эти тексты придутся очень не по нутру, – все это делало речь прохожего нестерпимо-утомительною и запутанною. Мысль отказывалась следить за этою скрытною, постоянно чем-то заволакиваемою речью, и я начинал уже чувствовать боль в висках, когда прохожий прервал свой запутанный монолог, остановился на минуту, кашлянул и довольно тихо произнес:
– Звали ее Франциска Станиславовна… полька!..
Тут только я начал соображать и понимать кабалистические речи моего собеседника. И вот что оказалось.
Нищий-прохожий весьма недавно занимал довольно значительное, по силе и могуществу власти, место в одном из отдаленнейших и глухих уголков Сибири. Дикая, волчья, необузданная натура, подкрепленная правом не ограниченной никакими пределами власти над местным населением, развернулась в этой глуши до последних пределов широты звериных требований. Глушь, отдаленность административных центров, уловка понимать и провести начальство, звериный опыт предшественников, остававшихся безнаказанными целые десятки лет, – все это сделало из грубой и чувственной натуры нашего героя существо во всех отношениях бесцеремонное и бесчувственное. Разврат, пьянство, хищничество, разбойничьи нападения на глухие деревни инородцев для получения контрибуций всякого сорта и качества, и опять разврат, подкуп, интрига против недруга, и опять пьянство, и опять распутство – вот круг жизни этого человека в течение многих лет. И вот такой-то распутный зверь наметил себе, своим звериным глазом, жертву.
Это была жена одного поляка, сосланного после 1863 года.
Зверь ни перед чем не задумался; два года он убил на то, чтобы слопать лакомый кусок, и, конечно, слопал; муж несчастной женщины был сослан в глубину какой-то непроходимой тундры, а жена, промучившись с тираном полгода, отравилась и умерла… Зверь «замял дело» и притих до новых подвигов, но в один зимний день в его берлогу вошла какая-то женщина и сказала такие слова:
– А как же, господин начальник, с девочками-то быть?
– С какими девочками?
– Да ведь опосля ее две девочки остались… Нешто ты не видал их?
Зверь вспомнил, что «видал» девочек тогда, когда «сокрушал», тогда, когда «торжествовал», но не думал о них и при таких обстоятельствах, а тем более после того, как случилась беда и когда пришлось употребить много средств и много ума на то, чтобы замять дело.
– Где же они? – спросил зверь.
– Да где ж им быть? Куда они денутся?.. Как жили у меня с матерью, так и живут… А воля ваша, мне кормить их нечем!
Женщина, не окончив речи, вышла в сени, но тотчас же воротилась оттуда и привела с собою двух девочек, десяти и восьми лет, одетых в лохмотья, в опорки, иззябших и робких.
– Едва я взглянул на этих малюток, – пристально глядя в пол и точно стараясь лучше рассмотреть какое-то непонятное и странное явление, говорил прохожий, – на их ноги… лица… как они рукавом утирают свои обтаявшие лица… я почувствовал себя в полной их власти… Их положение, участь, будущее – все это сразу овладело мною; я увидел, что я обязан, именно я непременно обязан взять их и посвятить им всю жизнь… Когда случилась беда и мне пришлось отписываться от начальства, я также чувствовал всем моим существом, стремившимся к самосохранению, что мне нужно отписываться. Мой распутный ум указывал мне, что делать, как говорить, что писать… И точь-в-точь то же случилось теперь, только совсем, совсем иначе… Я почувствовал, что именно я должен их вырастить, защитить, укрыть и сохранить от зла, от погибели… Как вторглись в меня такие мысли, не знаю. Но я никогда не жил такими обязанностями, и они проснулись во мне сразу… Я слышал какие-то неслышные голоса их мертвой матери, их мертвого отца, я чувствовал, что где-то в могиле, в мерзлой земле дрогнуло чье-то сердце, что оно стало теплое, – и мое сердце тоже пробудилось… Вот с этой минуты и начинается мое полное разорение, расстройство, моя гибель, мое неумолчное душевное терзание.
Зверь, который целую ночь бьется около овчарни, царапает когтями о ворота, перегрызает плетень, ломает жерди, – делает все это потому, что перед ним овчарня, запах овечьей шерсти, овечьего мяса. Пустой сарай он ломать не будет, его чутью нужен аромат снеди, возбуждающий все его умственные и физические силы. Вот такой-то аромат возбуждал умственные и физические силы и нашего зверя-рассказчика. Но пришли две девочки, с которыми он был связан преступлением, заставили его ощутить некоторую с ними связь, и умственные силы его пробудились в совершенно ином, незнакомом ему направлении. Не подлежащая сомнению связь его с сиротством девочек возбуждала в нем не звериные инстинкты, но чувство сострадания, а потом и сознание виновности, преступности и злодейства, кровопийства и кровопролития. Он пришел в ужас от самого себя. Положение девочек и лежащая на нем нравственная относительно их обязанность охватили все его существо.
Он откопал бумаги, принадлежавшие родителям девочек, и, узнав, что у них был какой-то крошечный фольварк почти на границе Польши, задумал возвратить этот фольварк, попробовал хлопотать, ходатайствовать за детей тех самых людей, которых он погубил, и с каждым мгновением убеждался только в собственном ужасном нравственном падении; он натыкался на собственные свои доносы и понять не мог зверства, которое находил в них. Оно становилось для него невыносимым, и вместе с тем он не мог выносить и тех лиц, с которыми он раньше был в союзе и в дружбе. У него было новое дело, и он отдался ему с тою же зверскою страстью. Грубость, дерзость, обычные ему, перенесены были на другую почву и направлены против того, что было ему опорою. И этот переворот прежде всего отозвался на нем же самом. Прежде его любили, как умного взяточника и плута; теперь стали ненавидеть, как разлюбившего плутовство и взяточничество. Против него сразу было поднято множество замятых дел; вся эта грязь со всех сторон шла на него, расточая его достояние, приводя к нищенству, к полному разорению, грозя судом, тюрьмой, каторгой… Но он уже не мог остановиться: девочки для него с каждой минутой становились единственным лучом света; он с каждым мгновением все больше и больше привязывался к ним; без них вся его жизнь – тьма, разврат, кровь и тюрьма. Нет, ему нельзя расстаться с ними; он спасет их, выхватит их из ужасов жизни, выберется сам с ними на свет, – он найдет!
И вот он со всею энергией устремился к своей цели; он просудил все, что у него было, ожесточился на все прошлое и на все, что помогало ему жить в прошлом такою ужасною жизнью. Страх погибнуть именно за это прошлое доводил его до отчаяния, и в таком состоянии он, распродав все, что у него было, и устроив девочек у той же самой женщины, у которой они жили после смерти матери, уехал в Петербург хлопотать. Здесь он «подавал» во все места, рвался, добивался, выходил из себя и везде только терял от своего грубого, дикого нрава, от своего скверного вида, от своего скверного прошлого, которое раскрывалось, пил с горя, попадал в участки, был бит, выгоняем в шею, опять смирялся, писал прошения с текстами архиереям, опять ожесточался и, в конце концов, полусумасшедший, голодный, рваный опять бежал пешком домой, к девочкам, которые давно уже голодают.
– Грабителя, подлеца, зверя, развратника, попирателя божеских и человеческих законов поддерживали, хвалили, руку жали и угощали!.. А когда меня посетил бог, когда во мне бог, сам бог…
Скуластое лицо его все в слезах, и сжатый кулак глухо колотит в измученную грудь.
Не думаю, чтобы девочки могли погибнуть; некоторая доля благотворительности обязательна в настоящее время почти для каждого русского захолустья. Не думаю также, чтобы могли даром пропасть и монологи зверообразного прохожего: он пройдет (если только пройдет) тысячи верст, и все, что он скажет встречным и поперечным о своем прошлом величии и своем прошлом злодействе, будет поучительно.
Таким образом, в бродячей русской толпе, взращенной обилием возможностей не только поддерживать в человеке, а и развивать в нем до громадных размеров хищные инстинкты, слышатся не одни только воспоминания о лакомых кусках, но иной раз и жестокая критика путей, которыми это лакомство достается человеку.
4
Что касается нашего «истукана», с которого началась наша речь и к которому мы теперь на минуту возвратимся, то он, по-видимому, совершенно далек от самомалейших попыток сомневаться в доброкачественности тех лакомых кусков, которые он уже отведал и которые с непоколебимою уверенностью предвидит в будущем.
– А уж жена у меня, ребята, попалась, так это, кажется, только во французских романах может быть возможно! Как приволок я из Болгарии с собой деньжонки, то и думаю: как бы мне время провести поприличнее?
Нанял себе около Серпухова дачу, мезонин… Купаюсь, хожу на станцию в буфет, покупаю газеты, букеты, завожу знакомства. Сижу однажды в трактире (около станции большая деревня выросла, пять трактиров), пью портер; садится против меня мастеровой; сел, потребовал пива, вынул из кармана целый пучок писем и давай читать вслух.
А уж, надо сказать, пришел он во хмелю, в порядочном заряде. Читает письма и что дальше, то больше, на весь зал:
«Ангел мой прекрасный! Я в тебя влюблена! Я вся пламенная женщина! Отчего ты не можешь соответствовать? Я родителей нисколько не боюсь! Не бойся, не будь глуп. Как ты не можешь понять своего счастия?» И таким родом оказывается, что привлекает она его, а он, балбес, упорствует.
«Чего же ты, дурак, говорю, ломаешься?» – «Боязно; отец у нее – хозяин здешней гостиницы, вон, говорит, за буфетом стоит… Он узнает, сотрет с лица земли. У него урядник знакомый!» – «Да тебе-то какое дело, когда она сама не опасается?» И стал я его подхрабривать, потому что эти дела я очень обожаю… Постановил я ему коньяку с лимонадом, – дай, говорю, письма почитать. Читаю письма, окончательно прихожу в восхищение! Такая непоколебимая девица, вольная, удалая – в жизнь не видывал! Раззадорили меня ее письма, стал я этого фабричного ругать, трусом его, дураком обзывать, да постепенно его и довел.
«Не боюсь, говорит, никого! (Коньячищу он осадил порядочно, пока я чтением-то занимался.) Не боюсь никого!
Экая беда, что хозяйская дочь в меня влюблена… Не боюсь и хозяина! Хозяин, а хозяин! вот твоя дочь мне любовные письма пишет, а я тебя, дурака, не боюсь!» Пошел по зале шум; услыхал хозяин, испугался, выскочил из-за буфета, схватил у мастерового письма, позвал людей, проводили его в шею, а там околодочный на улице подхватил… Хозяин как выхватил письма-то да прогнал любовника, так и ушел куда-то. А мальчишка, который порции подает, бегает по трактиру: «Ну, говорит, будет теперь дело!» А меня очень подмывает узнать, что за девица такая хозяйская дочь. Подозвал мальчишку, стал его допытывать и все как есть узнал. Хозяин женат на второй; от первой жены у него две дочери и сын, но они не живут с ним в доме, потому что от мачехи нет житья никому, потому что это сущая ехидна. Длинная, худая, больная, жадная; думаешь, каждую минуту кончится, умрет, а она все родит, злится и всех поедом ест. Вот отец-то и отделил двух взрослых дочерей, которые тоже очень, вишь, характерные и мачехе спуску не давали. Отец нанял им флигель на другой стороне улицы и поселил их с своею матерью-старухой; обед, чай носят к ним из трактира. А сын-то от первой жены и есть тот самый мальчонка-половой, который мне все это рассказал.
«А что, спрашиваю, хороша твоя сестра, которая письма мастеровому писала?» – «Первая, говорит, красавица!»
Захватило меня что-то за сердце, говорю: «Сделай милость, устрой знакомство!» Вынул ему две золотеньких штучки.
«Вот, говорю, ей-богу, твои будут!» – «Что ж, говорит, могу!» Уговорились, когда прийти, все честь-честью. Прихожу, как сказано, узнаю от мальчонки, что мастерового и след простыл, что сестра его очень рада и чтобы я сейчас шел мимо их флигеля, а она будет смотреть, а потом пришлет записку с ответом. Пошел… Сидит… Ну, одно сказать… ноги у меня подкосились… Развязная, просторная, в блузе… глаза, коса… Н-ну, окончательно нет слов высказать! Еле приплелся в гостиницу, послал мальчишку за ответом, – в то же мгновение возвращается. «Колька вам объяснит, как поступать, а я очень вам обрадовалась!»
Колька мой и отрапортовал. В первом часу ночи прямо в окно. Старухе дадут водки, и дворнику, который в кухне, также водки, другая сестра ляжет в сенях, а я, – братишка-то сам говорит, – дом на замок запру и отцу ключ отдам… Жду, не дождусь ночи. Наконец…
Рассказчик передохнул.
– Н-ну, с этой ночи в аккурат две недели каждый божий день… и все великолепно. Это надобно описать, и то не опишешь всего нашего блаженства. Я свои деньги на водку для матери и дворника давал, не допускал ее до расхода.
Все хорошо – и вдруг, братцы мои, скандал! Прямо, ни свет ни заря, накрыли! Отец, мачеха, мать – все!.. Что тут было, не приведи бог, но моя Шанька и тут меня обворожила. Как начали на нее наступать, так она первым делом в одну руку – стул; ногой дала мачехе прямо в грудь, а рукой здоровую оплеуху залепила отцовой матери… «Я, говорит, его люблю, и я в таком положении, и никто не смей!» – «Нет тебе благословения!» – «И пускай, и так обойдемся; а ежели, говорит, моего жениха тронете, так я всех вас, как клопов, выжму…» Разбросала всю родню, как прах, во все стороны. Ну, этого дела мне не пришлось досмотреть, пришлось убираться подобру-поздорову. Поселился я на другой станции. Пошел орудовать телеграммой; она тоже по телеграфу: «Не тужи, все облажу!» И точно. Не дают ей ни денег, ни приданого. Позовет татарина, наберет на триста целковых: «Приходи, говорит, за расчетом к отцу в воскресенье!» Отца все знали – первый трактир. «Хорошо, приду». А она товар в узел да на станцию, с передачею мне.
«Прими букет!» Получаю телеграмму и бегу на станцию.
Я уж знаю, какой букет. Получишь, спрячешь, даешь ответ:
«Убил зайца» или что-нибудь в этом роде. Так все и оборудовала. Два салопа на лисьем меху заказала, получила и скрыла…
– Ну, а как же отец-то? – в недоумении спросил кто-то из слушателей. – Ведь, чай, догадался, узнал?
– А как же не узнать? Татарин-то ведь скажет, чай.
– Так как же ей-то?
– Ей? Вот ты, следовательно, и не понимаешь, кто она такая. Ей вот что: взяла безмен – и жарь, подошла мачеха, стала ругаться – она в нее утюгом. Пришел отец, она говорит: «Подожгу весь дом!» Стала реветь и ругаться бабка – она ее скалкой. Она вот какая, братец ты мой! Копье стальное, неустрашимое! Вот у нее какая ко мне любовь! Она теперь вот, пока что, в кафешантане в Нижнем действует, сопраной числится. Погляди-кось, как там за ней стали увиваться, а я уж верно знаю, что она меня не променяет. Она только так, между прочим, струю свою ищет, а забота только обо мне… Вот я и не робею. Знаю, что за моею спиной – стена каменная… Теперь я вот в каком состоянии, и то мне покойно, и я не спешу… Сегодня худо, завтра будет хорошо. А выжду время, замечу где-нибудь хороший кусок, свистнул, ан моя Сашка и тут!
– Да теперь-то ты отчего так ослаб?