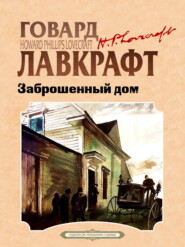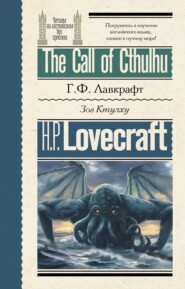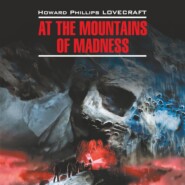По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хребты Безумия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Уоррен! Уоррен! Ты меня слышишь? Где ты?
А потом на меня обрушился тот ужас, что явился апофеозом всего произошедшего – ужас немыслимый, невообразимый и почти невыразимый. Я уже говорил, что как будто вечность миновала с тех пор, как Уоррен прокричал свое последнее отчаянное предупреждение, и что теперь только мои крики нарушали гробовую тишину. Однако через некоторое время в трубке снова раздались щелчки, и я весь превратился в слух.
– Уоррен, ты здесь? – позвал я его снова, и в ответ услышал то, что навлекло на мой рассудок беспроглядную мглу.
Я даже не пытаюсь дать себе отчет в том, что это было – я имею в виду голос, джентльмены, – и не решаюсь описать его подробно, ибо первые же произнесенные им слова заставили меня лишиться чувств и привели к тому провалу в сознании, что продолжался вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Стоит ли говорить, что голос был низким, вязким, глухим, далеким, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Это все, что я могу сказать. На этом кончаются мои отрывочные воспоминания, а с ними и мой рассказ. Я услышал этот голос – и впал в беспамятство. На неведомом кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, среди буйных зарослей и вредоносных испарений я сидел, оцепенело наблюдая за пляской бесформенных, жадных до тлена теней под бледной ущербной луной, когда из самых сокровенных глубин зияющего склепа до меня донесся этот голос.
И вот что он произнес:
– ГЛУПЕЦ! УОРРЕН МЕРТВ!
Неименуемое
Как-то осенью, под вечер, мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века посреди старого кладбища в Аркхеме и рассуждали о неименуемом. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол которой почти целиком вросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней и, вообще, страшно сказать какой пищи, которую извлекают эти гигантские корни из почтенной кладбищенской земли. Приятель мой ворчливо заметил, что все это сущий вздор, так как здесь уже более ста лет никого не хоронят и, стало быть, в почве не может быть ничего такого особенного, чем бы могло питаться это дерево, кроме самых обычных веществ. И вообще, добавил он, моя непрерывная болтовня о «неименуемом» и разном там «страшно сказать каком» – все это пустой детский лепет, вполне под стать моим потугам на литературном поприще. По его мнению, у меня была нездоровая склонность заканчивать свои рассказы описанием всяческих кошмарных видений и звуков, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они даже не могут поведать о случившемся другим людям. Всем, что мы знаем, заявил он, мы обязаны своим пяти органам чувств, а также интуитивным прозрениям; следовательно, не может быть и речи о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо истолкованию в духе канонических богословских доктрин – в качестве же последних предпочтительны догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан Дойлем.
С Джоэлом Мэнтоном (так звали моего приятеля) мы частенько вели долгие и нудные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и вырос в Бостоне, где и приобрел то характерное для жителей Новой Англии самодовольство, что отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Если что-нибудь и имеет подлинную эстетическую ценность, полагал Мэнтон, так это наш обычный, повседневный опыт, и, следовательно, художник призван не возбуждать в нас сильные эмоции посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе умеренный интерес и воспитывать вкус к точным, детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же претила ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом; ибо, несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, он не выносил, когда потустороннее низводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практическому и трезвому уму было не дано понять, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном манипулировании образами и представлениями, обычно подгоняемыми нашей ленью и привычкой под избитые схемы действительной жизни, можно черпать величайшее наслаждение. Все предметы и ощущения имели для него раз и навсегда заданные пропорции, свойства, причины и следствия; и, хотя он смутно осознавал, что мысль человеческая временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь не геометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он все же считал себя вправе проводить условную границу и выдворять за ее пределы все, что не может быть испытано и осмыслено среднестатистическим гражданином. Наконец, он был почти уверен в том, что не может быть ничего по-настоящему «неименуемого». Само это слово казалось ему лишенным смысла.
Пытаясь переубедить этого самодовольного материалиста-ортодокса, я прекрасно сознавал всю тщетность лирических и метафизических аргументов, однако было в обстановке нашего вечернего диалога нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычного спора. Полуразрушенные плиты, патриархальные деревья и обступавшие кладбище со всех сторон остроконечные крыши старинного городка с его колдовскими преданиями – все это вкупе подвигло меня встать на защиту своего творчества, и вскоре я уже разил врага его собственным оружием. Перейти в контратаку, впрочем, не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон весьма чувствителен ко всякого рода поверьям, над которыми в наши дни смеется любой мало-мальски образованный человек. Я говорю о таких представлениях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдаленных местах или что на окнах навеки запечатлеваются предсмертные образы людей, глядевших в них в течение всей жизни. Серьезно относиться к тому, о чем шушукаются деревенские старушки, заявил я для начала, ничуть не лучше, чем верить в посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных двойников, а также в явления, не укладывающиеся в рамки обычных представлений. Ибо если верно, что мертвец способен передавать свой видимый или осязаемый образ в пространстве (на расстояние в полземного шара) и во времени (через века), то так ли уж абсурдно предполагать, будто заброшенные дома населены непонятными тварями, обладающими органами чувств, или что старые кладбища накапливают в себе разум поколений, чудовищный и бесплотный? И если те свойства, что мы приписываем душе, не подчиняются никаким физическим законам, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, принимающая такую форму – или скорее бесформенность, – которая необходимо должна представляться наблюдателю чем-то абсолютно «неименуемым»? И вообще, когда размышляешь о подобных материях, то лучше всего оставить в покое так называемый «здравый смысл», который в данном случае означает не что иное, как элементарное отсутствие воображения и гибкости ума. Последнюю мысль я высказал Мэнтону тоном дружеского сочувствия.
День клонился к закату, но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Мэнтон оставался глух к моим доводам и продолжал оспаривать их с той убежденностью в своей правоте, каковая, вероятно, и принесла ему успех на педагогической ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения. Стемнело, в отдельных окнах замерцали огоньки, но мы не собирались покидать свое удобное место на гробнице. Моего прозаического друга, по-видимому, нисколько не смущала ни глубокая трещина, зиявшая в поросшей мхом кирпичной кладке прямо за нашей спиной, ни окружавший нас кромешный мрак, объяснявшийся тем, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшей освещенной улицей возвышалось полуразрушенное нежилое здание, выстроенное еще в семнадцатом веке. Здесь, в этой непроглядной тьме, на полуразвалившейся гробнице вблизи заброшенного дома, мы вели нескончаемую беседу о «неименуемом», и, когда Мэнтон наконец устал отпускать язвительные замечания, я поведал ему об одном ужасном случае, действительно имевшем место и легшем в основу того из моих рассказов, над которым он более всего смеялся.
Рассказ этот назывался «Чердачное окно». Он был опубликован в январском выпуске «Шепотов» за 1922 год. Во многих городах страны, в особенности на Юге и на Тихоокеанском побережье, номер с этим рассказом даже убирали с прилавков, удовлетворяя жалобам слабонервных нытиков. Одна лишь Новая Англия оставалась невозмутимой и только пожимала плечами в ответ на мою эксцентричность. Прежде всего, утверждали мои критики, пресловутое существо просто биологически невозможно и то, что я о нем сообщаю, представляет собой всего лишь одну из версий расхожей деревенской байки, которую Коттон Мэзер лишь по чрезмерной доверчивости вставил в свой эклектичный опус «Великие деяния Христа в Америке», причем подлинность этой небылицы настолько сомнительна, что сей почтенный автор даже не рискнул назвать место, где произошел ужасный случай. Столь же неприемлемым для них было то, как я развил и разукрасил представленную в вышеупомянутой книге голую сюжетную канву, тем самым окончательно разоблачив себя как легкомысленного и претенциозного графомана. Мэзер и правда писал о появлении на свет некоего существа, но кто, кроме дешевого сенсуалиста, мог бы поверить, что оно выросло и взяло себе за привычку по ночам заглядывать в окна домов, а днем прятаться на чердаке заброшенного дома, и так до тех пор, пока столетие спустя какой-то прохожий не увидал его в чердачном окне, а потом так и не смог объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это было чистой воды вымыслом, притом нелепым, и приятель мой в очередной раз огласил эту точку зрения. Тогда я поведал ему о содержании дневника, обнаруженного среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы находились, и датированного 1706–1723 годами. В дневнике упоминалось о необычных шрамах на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэзера в подлинности этого свидетельства. Я также рассказал ему о страшных историях, имеющих хождение среди местного населения и передаваемых по секрету из поколения в поколение, а также о том, как отнюдь не в переносном смысле сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы взглянуть на некие следы, на которые намекала традиция.
Да, то было время диких суеверий – какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая массачусетские летописи пуританской эпохи? Сколь бы немногочисленными ни были наши сведения о том, что скрывалось за внешней стороной событий, но уже по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной вырывался и бил ключом, можно судить о всей степени разложения. Ужас перед черной магией – одно из объяснений того кошмара, что царил в смятенных умах человеческих, но даже и это не главное. Из жизни изгонялась красота, изгонялась свобода – об этом можно судить по бытовым и архитектурным останкам эпохи, а также по ядовитым проповедям невежественных богословов. Под смирительной рубашкой из ржавого железа таилась дурная злоба, извращенный порок и сатанинская одержимость. Вот в чем заключался подлинный апофеоз Неименуемого!
Ни единого слова не смягчил Коттон Мэзер, когда разразился анафемой в своей демонической шестой книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты. Сурово, словно библейский пророк, в немногословной и бесстрастной манере, в какой не умел выражаться никто после него, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между собою и человеком, нечто, обладающее дурным глазом, и о несчастном пьянчуге, повешенном, несмотря на все его просьбы и вопли, за одно лишь то, что у него на глазу было бельмо якобы столь же дурного свойства. На этом откровенность Мэзера заканчивается, и он не делает ни малейшего намека на то, что произошло в дальнейшем. Возможно, он просто не знал, а может быть, и знал, да не посмел сказать. Потому что все, кто знал, предпочитали молчать, и до сих пор неизвестно, что заставляло их переходить на шепот при упоминании о замке на двери, скрывавшей за собой чердачную лестницу в доме бездетного, убогого и угрюмого старца, установившего на могиле, которую все обходили стороной, плиту без надписи. На этот счет существует достаточное количество уклончивых слухов, от которых стынет самая пылкая кровь.
Все эти сведения я почерпнул из найденной мною семейной хроники; там же содержится множество скрытых намеков и не предназначенных для посторонних ушей историй о существах с дурным глазом, появлявшихся по ночам то в окнах, то на безлюдных лесных опушках. Возможно, что именно одна из таких тварей напала на моего предка ночью на проселочной дороге, оставив следы рогов на его груди и царапины, как от обезьяньих лап, на спине. На самой же дороге были обнаружены четко отпечатавшиеся в пыли отпечатки копыт и чего-то еще, имеющего отдаленное сходство со ступнями человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, как, проезжая верхом по делам службы, он видел вышеупомянутого старика, преследовавшего и окликавшего какое-то гадкое существо, вприпрыжку уносившееся прочь. Дело происходило на Медоу-Хилл незадолго до рассвета при тусклом сиянии луны. Интересно, что многие поверили почтальону. Доподлинно известно также то, что в 1710 году, в ночь после похорон убогого и бездетного старца (тело которого положили в склеп позади его дома, рядом со странной плитой без надписи) на кладбище раздавались какие-то голоса. Дверь на чердак отпирать не решились, и дом был оставлен таким, каким был, – мрачным и заброшенным. Когда из него доносились звуки, все вздрагивали и перешептывались, ободряя себя надеждой на прочность замка на чердачной двери. Надежде этой пришел конец после кошмара, случившегося в доме приходского священника, жильцов которого обнаружили не просто бездыханными, но разодранными на части. С годами легенды все более приобретали характер историй о привидениях – вероятно, по той причине, что если отвратительное существо действительно когда-то жило, то потом оно, как я полагаю, скончалось. Сохранилась лишь память о нем – тем более ужасная оттого, что она держалась в строгой тайне.
За время моего рассказа Мэнтон потерял свою обычную словоохотливость, и я сделал вывод, что слова мои произвели на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, как обычно, но вполне серьезным тоном осведомился у меня о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и явился прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем тому мальчику потребовалось посетить мрачный заброшенный дом, который все обходили стороной. Случай этот не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил в то, что на окнах запечатлеваются лица людей, сидевших перед ними. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах пресловутого чердака, паренек решил сам сходить и поглядеть на них – и вернулся, заходясь в истошном крике.
Пока я говорил, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но, как только я закончил, он сразу вернулся в свое обычное скептическое расположение духа. Допустив, хотя бы в качестве предпосылки для дальнейшей дискуссии, что какой-то противоестественный монстр существовал на самом деле, Мэнтон, однако, посчитал своим долгом напомнить мне, что даже к самому патологическому извращению природы вовсе не обязательно относиться как к «неименуемому» или, скажем, неописуемому средствами современной науки. Признав, что я отдаю должное его здравомыслию и несгибаемости, я привел еще несколько свидетельств, добытых мной у очень пожилых людей. В этих позднейших историях с привидениями, пояснил я, речь шла о фантомах столь ужасных и отвратительных, что никак нельзя предположить, чтобы они имели органическое происхождение. Это были кошмарные призраки гигантских размеров и самых чудовищных очертаний, в одних случаях видимые, в других – только ощутимые; в безлунные ночи они как бы плыли по воздуху, появляясь то в старом доме, то возле склепа позади него, то на могиле, где рядом с безымянной плитой пустило корни молодое деревце. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как то утверждала голословная молва, или нет, я не знаю, но, во всяком случае, призраки эти производили сильное и неизгладимое впечатление. Неспроста старейшие из местных жителей так страшились их еще каких-нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти перестали вспоминать, что, кстати, и могло послужить причиной их ухода в небытие. Наконец, если взглянуть на проблему с эстетической точки зрения и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации, или призраки, человеческих существ, то вряд ли стоит ждать связного и членораздельного описания в тех случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной парообразной мерзостью, как дух злобной, уродливой бестии, само существование которой уже есть страшное кощунство по отношению к природе. Эта чудовищная химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, – не представляет ли она во всей неприглядной наготе все подлинно, вопиюще неименуемое?
Должно быть, час уже был очень поздний. Летучая мышь на удивление бесшумно пролетела мимо; она задела меня крылом, да и Мэнтона, вероятно, тоже – в темноте я не видел его, но мне показалось, что он взмахнул рукой.
– А дом? – заговорил он спустя некоторое время. – Дом с чердачным окном – он сохранился? И там по-прежнему никто не живет?
– Да, я видел его собственными глазами.
– Ну и как? Там что-нибудь было? Я имею в виду, на чердаке или где-нибудь еще…
– Там, в углу на чердаке, лежали кости. Не исключено, что именно их и увидал тот паренек. Слабонервному, чтобы свихнуться, и того достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному и тому же существу, то это было такое кошмарное чудовище, какое может привидеться только в бреду. С моей стороны было бы кощунством не избавить мир от этих костей, поэтому я сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там была щель, в которую я их и свалил. Только не сочти меня за идиота! Видел бы тот череп! У него были рога сантиметров по десять в длину, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас с тобой.
Вот когда я почувствовал, как Мэнтона, который придвинулся почти вплотную ко мне, пробрала настоящая дрожь! Но любопытство его оказалось сильнее страха.
– А окна?
– Окна? Они все были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Представь себе такие небольшие ромбовидные окна с решетками, что вышли из моды еще до тысяча семисотого года. Думаю, что стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. Кто знает, может быть, их выбил тот паренек? Предание молчит на этот счет.
Мэнтон снова затих. Он размышлял.
– Знаешь, Картер, – заговорил он наконец, – мне бы хотелось взглянуть на этот дом. Ты мне его покажешь? Черт с ними, со стеклами, меня интересует сам дом. И та могила, куда ты свалил кости. И другая могила, без надписи. Ты прав, от всего этого веет какой-то жутью.
– Ты уже видел этот дом, Мэнтон. Он торчал у тебя перед глазами весь сегодняшний вечер.
Некоторый налет театральности, с которым я произнес последнюю фразу, подействовал на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать: судорожно отпрянув от меня, он издал оглушительный вопль, сопровождаемый таким призвуком, словно он освобождался от удушья, ибо вопль этот вместил в себя все накопившееся и сдерживаемое дотоле напряжение. Да, надо было слышать этот крик! Но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ! Не успело стихнуть эхо, как из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что открылось одно из решетчатых окон в этом проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все рамы, кроме одной, давным-давно выпали, я понял, что скрип этот издает кошмарная пустая рама пресловутого чердачного окна.
Потом все с той же заклятой стороны дохнуло затхлым воздухом могилы, и сразу вслед за тем, совсем уже близко от меня, раздался пронзительный крик; он исходил из той жуткой гробницы, где покоились человек и монстр. В следующее мгновение удар чудовищной силы, нанесенный мне невидимым объектом громадных размеров и неизвестных свойств, сбросил меня с моего скорбного сиденья, и я растянулся на плененной корнями почве зловещего погоста, в то время как из могилы вырвалась такая адская какофония шумов и сдавленных хрипов, что фантазия моя мгновенно населила окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Поднялся вихрь иссушающе-ледяного ветра, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но, прежде чем понять, что произошло, я милостью божьей лишился чувств.
Не обладая моим крепким телосложением, Мэнтон, однако, оказался более живучим, и, хотя он пострадал сильнее моего, мы очнулись почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд нам стало ясно, что мы находимся в больнице Святой Марии. Персонал сгорал от любопытства; нас обступили со всех сторон и, чтобы освежить нашу память, рассказали нам о том, как мы попали сюда. Оказалось, что какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, в том самом месте, где некогда, по слухам, находилась бойня. У Мэнтона было две глубоких раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался более легкими повреждениями, зато все тело мое было покрыто ссадинами и синяками самого странного характера – один из кровоподтеков, например, напоминал след копыта.
Мэнтон явно знал больше, чем я, однако озадаченные и заинтригованные врачи не смогли добиться от него ни слова до тех пор, пока он не выведал у них все, что касалось наших ран. Только после этого он сообщил, что мы стали жертвами разъяренного быка – выдумка, на мой взгляд, довольно неудачная, ибо откуда было взяться в таком месте быку?
Как только врачи и сиделки удалились, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным благоговейного ужаса, спросил:
– Но, боже правый, Мэнтон, что это было на самом деле? Что-то такое, о чем можно судить по нашим ранам?
И хотя я почти догадывался, каким будет ответ, он ошеломил меня настолько, что я даже не ощутил чувства торжества от одержанной победы.
– Нет, это было нечто совсем другое, – прошептал Мэнтон. – Оно было повсюду… какое-то желе… слизь… И в то же время оно имело очертания, тысячи очертаний, столь кошмарных, что они бегут всякого описания. Я видел там глаза – и в них проклятие! Это была какая-то бездна… пучина… воплощение вселенского ужаса! Картер, это было неименуемое!
Серебряный ключ
В тридцать лет Рэндольф Картер утратил ключ, отмыкавший врата в мир его снов. Прежде он мог компенсировать прозаичность повседневного существования увлекательными ночными странствиями по затерянным древним городам и сказочно прекрасным землям на берегах эфемерных морей, но с годами чудесные сны все реже посещали Картера, и наконец тот мир стал для него недоступным. Его галеры уже не могли подняться к верховьям полноводного Украноса мимо золоченых шпилей Франа, а караваны слонов не брели сквозь напоенные ароматами джунгли Кледа, где в лунном свете сонно белели давно опустевшие, но незатронутые временем колоннады прекрасных дворцов.
Он прочел много книг об окружавшем его реальном мире и много беседовал с различными людьми. Исполненные благих побуждений философы учили его рассуждать логически и анализировать процессы, подспудно формировавшие его желания и фантазии. Так понемногу он утратил способность удивляться и позабыл о том, что вся наша жизнь – это лишь цепь возникающих в сознании образов, а поскольку нет никакой существенной разницы между отражениями объективной реальности и образами, порожденными фантазией, то нет и причин отдавать кому-то из них предпочтение. Вместо этого ему внушали почти суеверное благоговение перед материальными, осязаемыми вещами, заставляя его втайне стыдиться своих странных видений. Умудренные опытом люди называли их детскими глупостями, тем более нелепыми, что эти видения настойчиво претендовали на особую значимость и некий скрытый смысл, тогда как бестолковое вращение вселенной продолжало перемалывать нечто в ничто лишь затем, чтобы из этого ничто вновь сделать нечто, не замечая искорок чьих-то желаний и устремлений, вспыхивающих и тут же гаснущих в беспредельном мраке.
Эти трезвые умы хотели прочно приковать его к незыблемому порядку вещей, разъясняя суть и практическое назначение каждой вещи, дабы изгнать ненужные тайны из мира, где должно властвовать знание. Он инстинктивно сопротивлялся, надеясь вернуться в те сумеречные сферы, где разрозненные фрагменты видений и мимолетные ассоциации волшебным образом сливались в сознании, даря ему трепетное предвкушение чуда; они же в свою очередь обращали его к чудесам современной науки, побуждая искать красоту в схеме строения атома и траекториях движения небесных тел. Когда же ему не удавалось по достоинству оценить все прелести чего-то давно изученного, рассчитанного и измеренного, его называли лишенным воображения, интеллектуально незрелым типом, поскольку он предпочитал зыбкие иллюзии своих снов добротным и очевидным иллюзиям утвержденного миропорядка.
Картер, как мог, старался не выделяться из толпы, на словах признавая превосходство простейших обывательских эмоций над вычурными фантазиями немногих изощренных душ. Он не возражал, когда ему говорили, что реальные физические ощущения – вроде предсмертной боли свиньи под ножом мясника или желудочных колик у какого-нибудь фермера – значат для этого мира куда больше, нежели бесподобная красота Нарафа с его сотней узорчатых ворот и хрустальными куполами, смутные воспоминания о которых сохранились у него от прежних снов. Следуя мудрым советам, он усердно воспитывал в себе общепринятополезную способность к сопереживанию и состраданию.
При всем том он не мог не замечать, какими мелкими, переменчивыми и, по сути, бесцельными являются все наши устремления и как печально контрастируют истинные побудительные мотивы наших действий с высокими идеалами, эти действия якобы направляющими. Для маскировки своих истинных чувств он пользовался легкой иронией – тем самым средством, которое его учили применять в борьбе с абсурдными, напрочь оторванными от реальности видениями. Он ясно сознавал, что наша повседневность насквозь фальшива и ничуть не менее абсурдна, чем его сны, которые еще много выигрывали при сравнении с этим обделенным красотой и упрямо не желающим признавать собственную несостоятельность миром. Как следствие, он превратился в своего рода юмориста, еще не ведая, что юмор тоже бесполезен как прибежище в нашей дремучей вселенной, не способной уловить элементарную связь между причиной и следствием.
С утратой снов оказавшись целиком во власти реального мира, он сначала попытался найти утешение в религии – в той наивной вере отцов, которая предполагала некий мистический путь ухода от обыденности. Однако при ближайшем рассмотрении он обнаружил, что здесь правят бал те же банальность и косность вкупе с чахлым подобием красоты, глупой напыщенностью и смехотворными претензиями на непогрешимость. Его никак не могли впечатлить неуклюжие попытки церкви законсервировать в качестве непреложной истины суеверные страхи и домыслы наших далеких предков, которые таким образом реагировали на что-либо недоступное их пониманию. С возрастающим раздражением наблюдал Картер за тем, как люди всерьез пытаются строить земную жизнь на базе отживших преданий и мифов, убедительно опровергаемых каждым новым открытием их же собственной хваленой науки. Эта неуместная серьезность окончательно убила в Картере интерес, который он вполне мог бы питать к древним верованиям, если бы их эмоциональный заряд и красочные ритуалы представали в своем истинном, сказочно-фантазийном обличье.
Впоследствии Картер свел знакомство с людьми, отвергавшими старые мифы, но те оказались еще безнадежнее религиозных фанатиков. Им было не дано усвоить, что красота неразрывно связана с гармонией и потому в суетливом многообразии космоса возможно только одно приемлемое для всех понятие красоты: это нечто гармонирующее с нашими снами, мечтами и воспоминаниями и позволяющее нам сотворить свой собственный маленький мир, отгороженный от вселенского хаоса. Эти люди не понимали, что добро и зло, красота и уродство являются всего лишь декоративным обрамлением картины мира, а вся их ценность заключается в том, что они дают нам некоторое представление о мыслях и чувствах наших предков, создававших те или иные детали орнамента, сугубо индивидуального для каждой культуры и каждой расы. Вместо этого «вольнодумцы» либо полностью отрицали все эти понятия, либо сводили их к примитивным и грубым инстинктам, тем самым практически не отличаясь от дикарей и животных. В их уродливо искаженном сознании каким-то образом угнездилось чувство гордости за свое «духовное освобождение», при том что они оставались рабами предрассудков ничуть не менее пагубных, нежели те, от которых они якобы освободились. В сущности, они всего-навсего сменили идолов: место слепого страха и бездумного благочестия заняли вседозволенность и анархия.
Картера не прельстили эти новомодные, обретенные по дешевке и дурно пахнущие «свободы»; они оскорбляли его представление о красоте, а его разум восставал против убогих логических потуг, посредством которых доморощенные идеологи пытались облагородить свои изначально ущербные постулаты, навесив на них культовую мишуру, снятую с ими же ниспровергнутых старых идолов. Большинство из них пребывало в заблуждении относительно смысла жизни, полагая его некой самодовлеющей категорией, одинаково применимой ко всем и каждому. При этом они не могли обойтись без привычных понятий морали и долга, никак не соотносимых с понятием красоты, хотя сама Природа в свете их научных открытий подтверждала свою абсолютную независимость от каких-то умозрительных нравственных норм. Приняв за аксиому иллюзии справедливости, свободы и формальной логики, они поспешили отвергнуть прежние знания и верования, даже не дав себе труда подумать о том, что эти же самые знания и верования лежат в основе их нынешних убеждений и являются их единственным ориентиром в бессмысленной и хаотичной вселенной. Лишившись этого ориентира, их жизнь вместе с тем лишилась и конкретной цели, что вынудило их искать спасение от смертной тоски в нарочитой деловитости, в диких буйствах и грубых чувственных наслаждениях. А когда все это приелось до тошноты, они обратились к иронии и сарказму, избрав главным объектом нападок очевидные всем недостатки общественного устройства. Этим несчастным было невдомек, что их сознательно упрощенный и огрубленный подход к действительности покоится на столь же шаткой основе, что и религиозное мировоззрение их предшественников, а сегодняшняя удовлетворенность жизнью может завтра обернуться жестоким разочарованием. По-настоящему насладиться спокойной и неувядающей красотой можно только в счастливых снах, однако наш мир лишил себя такой возможности, в угаре идолопоклонства утратив драгоценный дар детской чистоты и невинности.
Посреди этого хаоса Картер пытался вести образ жизни, подобающий благоразумному и воспитанному человеку своего круга. С годами воспоминания о чудесных снах слабели, а утвердиться в какой-либо новой вере он так и не смог, но стремление сохранить душевную гармонию вынуждало его следовать правилам поведения, обусловленным его расовой принадлежностью и социальным статусом. Бесстрастно проходил он улицами многих городов и только порою вздыхал, когда игры солнечных бликов, золотящих высокие кровли, или мягкий свет вечерних фонарей на окруженной балюстрадами старой площади напоминали о давних снах и пробуждали тоску по сказочным мирам, куда у него уже не было доступа. Путешествия не могли послужить им достойной заменой, и даже мировая война оказалась для Картера лишь слабой встряской – это при том, что он воевал чуть ли не с первых дней, завербовавшись во французский Иностранный легион. На фронте он завел было друзей, но вскоре начал тяготиться их обществом, однообразием и приземленностью их чувств. Отсутствие контактов с родственниками, оставшимися за океаном, его скорее радовало, нежели огорчало, так как среди этой родни он не имел по-настоящему родственных душ, за исключением дедушки да еще двоюродного деда Кристофера, но эти двое уже давно умерли.
По окончании войны он вернулся к сочинительству, которое забросил, когда его перестали посещать сны. Но и это занятие не приносило ему удовлетворения, поскольку теперь он уже не мог оторваться от земной суеты и свободный полет фантазии остался в прошлом. Язвительная ирония без труда разрушала хрупкие минареты, сотворенные его воображением, а боязнь неправдоподобия оказалась губительной для нежных цветов, которые он взращивал в сказочных садах. Попытки сопереживать героям своих книг лишь придавали этим образам слезливо-сентиментальный налет, тогда как стремление к жизненной убедительности низводило повествование до уровня неуклюжей аллегории либо пошлой социальной сатиры. При всем том его новые романы имели куда больший успех, чем прежние. Осознавая, сколь пустым должно быть сочинение, способное угодить вкусам пустоголовой толпы, он сжег свои рукописи и оставил литературное поприще. В тех стилистически изысканных романах он иногда посмеивался над собственными сновидениями, обрисовывая их как бы мимоходом, небрежными штрихами, отчего сны теряли живую энергию, задушенные праздной игрой слов.
Следующей попыткой стало сознательное удаление в мир иллюзий, обращение к загадочному и сверхъестественному как к противоядию от обыденности. Однако и здесь он вскоре столкнулся с идейным убожеством и бесплодием: модные оккультные учения на поверку оказались столь же выхолощенными и закостеневшими, как научные доктрины, с которыми он имел дело прежде, но в отличие от последних не содержали даже слабого намека на истину, способного хоть как-то оправдать их существование. Откровенная глупость, фальшь и бессвязность мыслей не имели ничего общего с его снами; такие учения не могли дать прибежище умам, превосходящим жалкий уровень их адептов. Продолжая поиски в этом направлении, Картер приобретал и штудировал самые невероятные книги и искал общества самых странных людей, чей круг знаний и интересов выходил далеко за обычные рамки. Он проникал в те сферы человеческого сознания, где мало кому доводилось бывать до него, изучал потаенные глубины жизни, легенды и скупые свидетельства, восходящие к незапамятным временам. Его дом в Бостоне был максимально приспособлен к смене настроений владельца: для каждого настроения существовала особая комната, окрашенная в подходящие тона, снабженная подходящими к случаю книгами и предметами, с соответственно подобранными освещением, температурой, звуковым оформлением и запахами.
Как-то раз до него дошли сведения об одном человеке на Юге, который чуждался общества и постоянно пребывал в страхе перед какими-то чудовищными откровениями из древних книг и клинописных глиняных табличек, привезенных из Индии и Аравии. Картер отправился к нему и на протяжении семи лет делил с ним жилище и ученые занятия, но как-то в полночь на старом кладбище неизъяснимый ужас объял обоих – и только один из них вернулся оттуда, куда уходили двое. После этого Картер перебрался в Аркхем, овеянный мрачными колдовскими легендами городок в Новой Англии, с которым была тесно связана история его рода. Кое-что из пережитого им здесь, в ночной тьме среди вековых деревьев и обветшалых домов с островерхими крышами, так напугало исследователя, что он зарекся впредь открывать некоторые страницы в дневнике одного из своих безрассудных предков. Все эти занятия приблизили его к пределам реального мира, но так и не указали путь в заветную страну сновидений. К пятидесяти годам он отчаялся найти душевный покой в мире, слишком суетном, чтобы замечать красоту, и слишком практичном, чтобы дать простор мечтаниям.
Окончательно разуверившись в этой ничтожной реальности, Картер жил отшельником, тоскуя о дивных снах своей юности. Сомневаясь, стоит ли продолжать такое существование, он раздобыл через одного знакомого в Южной Америке особенный эликсир, с помощью которого можно было без мучений и боли кануть в небытие. От этого шага его до поры удерживали только апатия и сила привычки. Мысленно возвращаясь к прошлому, он решил устранить все последние изменения в интерьере дома и постарался вернуть ему тот облик, который помнил с детства, включая оконные витражи и викторианскую мебель.
А потом на меня обрушился тот ужас, что явился апофеозом всего произошедшего – ужас немыслимый, невообразимый и почти невыразимый. Я уже говорил, что как будто вечность миновала с тех пор, как Уоррен прокричал свое последнее отчаянное предупреждение, и что теперь только мои крики нарушали гробовую тишину. Однако через некоторое время в трубке снова раздались щелчки, и я весь превратился в слух.
– Уоррен, ты здесь? – позвал я его снова, и в ответ услышал то, что навлекло на мой рассудок беспроглядную мглу.
Я даже не пытаюсь дать себе отчет в том, что это было – я имею в виду голос, джентльмены, – и не решаюсь описать его подробно, ибо первые же произнесенные им слова заставили меня лишиться чувств и привели к тому провалу в сознании, что продолжался вплоть до момента моего пробуждения в больнице. Стоит ли говорить, что голос был низким, вязким, глухим, далеким, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Это все, что я могу сказать. На этом кончаются мои отрывочные воспоминания, а с ними и мой рассказ. Я услышал этот голос – и впал в беспамятство. На неведомом кладбище в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, среди буйных зарослей и вредоносных испарений я сидел, оцепенело наблюдая за пляской бесформенных, жадных до тлена теней под бледной ущербной луной, когда из самых сокровенных глубин зияющего склепа до меня донесся этот голос.
И вот что он произнес:
– ГЛУПЕЦ! УОРРЕН МЕРТВ!
Неименуемое
Как-то осенью, под вечер, мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века посреди старого кладбища в Аркхеме и рассуждали о неименуемом. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол которой почти целиком вросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней и, вообще, страшно сказать какой пищи, которую извлекают эти гигантские корни из почтенной кладбищенской земли. Приятель мой ворчливо заметил, что все это сущий вздор, так как здесь уже более ста лет никого не хоронят и, стало быть, в почве не может быть ничего такого особенного, чем бы могло питаться это дерево, кроме самых обычных веществ. И вообще, добавил он, моя непрерывная болтовня о «неименуемом» и разном там «страшно сказать каком» – все это пустой детский лепет, вполне под стать моим потугам на литературном поприще. По его мнению, у меня была нездоровая склонность заканчивать свои рассказы описанием всяческих кошмарных видений и звуков, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они даже не могут поведать о случившемся другим людям. Всем, что мы знаем, заявил он, мы обязаны своим пяти органам чувств, а также интуитивным прозрениям; следовательно, не может быть и речи о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо истолкованию в духе канонических богословских доктрин – в качестве же последних предпочтительны догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан Дойлем.
С Джоэлом Мэнтоном (так звали моего приятеля) мы частенько вели долгие и нудные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и вырос в Бостоне, где и приобрел то характерное для жителей Новой Англии самодовольство, что отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Если что-нибудь и имеет подлинную эстетическую ценность, полагал Мэнтон, так это наш обычный, повседневный опыт, и, следовательно, художник призван не возбуждать в нас сильные эмоции посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе умеренный интерес и воспитывать вкус к точным, детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же претила ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом; ибо, несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, он не выносил, когда потустороннее низводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практическому и трезвому уму было не дано понять, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном манипулировании образами и представлениями, обычно подгоняемыми нашей ленью и привычкой под избитые схемы действительной жизни, можно черпать величайшее наслаждение. Все предметы и ощущения имели для него раз и навсегда заданные пропорции, свойства, причины и следствия; и, хотя он смутно осознавал, что мысль человеческая временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь не геометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он все же считал себя вправе проводить условную границу и выдворять за ее пределы все, что не может быть испытано и осмыслено среднестатистическим гражданином. Наконец, он был почти уверен в том, что не может быть ничего по-настоящему «неименуемого». Само это слово казалось ему лишенным смысла.
Пытаясь переубедить этого самодовольного материалиста-ортодокса, я прекрасно сознавал всю тщетность лирических и метафизических аргументов, однако было в обстановке нашего вечернего диалога нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычного спора. Полуразрушенные плиты, патриархальные деревья и обступавшие кладбище со всех сторон остроконечные крыши старинного городка с его колдовскими преданиями – все это вкупе подвигло меня встать на защиту своего творчества, и вскоре я уже разил врага его собственным оружием. Перейти в контратаку, впрочем, не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон весьма чувствителен ко всякого рода поверьям, над которыми в наши дни смеется любой мало-мальски образованный человек. Я говорю о таких представлениях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдаленных местах или что на окнах навеки запечатлеваются предсмертные образы людей, глядевших в них в течение всей жизни. Серьезно относиться к тому, о чем шушукаются деревенские старушки, заявил я для начала, ничуть не лучше, чем верить в посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных двойников, а также в явления, не укладывающиеся в рамки обычных представлений. Ибо если верно, что мертвец способен передавать свой видимый или осязаемый образ в пространстве (на расстояние в полземного шара) и во времени (через века), то так ли уж абсурдно предполагать, будто заброшенные дома населены непонятными тварями, обладающими органами чувств, или что старые кладбища накапливают в себе разум поколений, чудовищный и бесплотный? И если те свойства, что мы приписываем душе, не подчиняются никаким физическим законам, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, принимающая такую форму – или скорее бесформенность, – которая необходимо должна представляться наблюдателю чем-то абсолютно «неименуемым»? И вообще, когда размышляешь о подобных материях, то лучше всего оставить в покое так называемый «здравый смысл», который в данном случае означает не что иное, как элементарное отсутствие воображения и гибкости ума. Последнюю мысль я высказал Мэнтону тоном дружеского сочувствия.
День клонился к закату, но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Мэнтон оставался глух к моим доводам и продолжал оспаривать их с той убежденностью в своей правоте, каковая, вероятно, и принесла ему успех на педагогической ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения. Стемнело, в отдельных окнах замерцали огоньки, но мы не собирались покидать свое удобное место на гробнице. Моего прозаического друга, по-видимому, нисколько не смущала ни глубокая трещина, зиявшая в поросшей мхом кирпичной кладке прямо за нашей спиной, ни окружавший нас кромешный мрак, объяснявшийся тем, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшей освещенной улицей возвышалось полуразрушенное нежилое здание, выстроенное еще в семнадцатом веке. Здесь, в этой непроглядной тьме, на полуразвалившейся гробнице вблизи заброшенного дома, мы вели нескончаемую беседу о «неименуемом», и, когда Мэнтон наконец устал отпускать язвительные замечания, я поведал ему об одном ужасном случае, действительно имевшем место и легшем в основу того из моих рассказов, над которым он более всего смеялся.
Рассказ этот назывался «Чердачное окно». Он был опубликован в январском выпуске «Шепотов» за 1922 год. Во многих городах страны, в особенности на Юге и на Тихоокеанском побережье, номер с этим рассказом даже убирали с прилавков, удовлетворяя жалобам слабонервных нытиков. Одна лишь Новая Англия оставалась невозмутимой и только пожимала плечами в ответ на мою эксцентричность. Прежде всего, утверждали мои критики, пресловутое существо просто биологически невозможно и то, что я о нем сообщаю, представляет собой всего лишь одну из версий расхожей деревенской байки, которую Коттон Мэзер лишь по чрезмерной доверчивости вставил в свой эклектичный опус «Великие деяния Христа в Америке», причем подлинность этой небылицы настолько сомнительна, что сей почтенный автор даже не рискнул назвать место, где произошел ужасный случай. Столь же неприемлемым для них было то, как я развил и разукрасил представленную в вышеупомянутой книге голую сюжетную канву, тем самым окончательно разоблачив себя как легкомысленного и претенциозного графомана. Мэзер и правда писал о появлении на свет некоего существа, но кто, кроме дешевого сенсуалиста, мог бы поверить, что оно выросло и взяло себе за привычку по ночам заглядывать в окна домов, а днем прятаться на чердаке заброшенного дома, и так до тех пор, пока столетие спустя какой-то прохожий не увидал его в чердачном окне, а потом так и не смог объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это было чистой воды вымыслом, притом нелепым, и приятель мой в очередной раз огласил эту точку зрения. Тогда я поведал ему о содержании дневника, обнаруженного среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы находились, и датированного 1706–1723 годами. В дневнике упоминалось о необычных шрамах на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэзера в подлинности этого свидетельства. Я также рассказал ему о страшных историях, имеющих хождение среди местного населения и передаваемых по секрету из поколения в поколение, а также о том, как отнюдь не в переносном смысле сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы взглянуть на некие следы, на которые намекала традиция.
Да, то было время диких суеверий – какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая массачусетские летописи пуританской эпохи? Сколь бы немногочисленными ни были наши сведения о том, что скрывалось за внешней стороной событий, но уже по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной вырывался и бил ключом, можно судить о всей степени разложения. Ужас перед черной магией – одно из объяснений того кошмара, что царил в смятенных умах человеческих, но даже и это не главное. Из жизни изгонялась красота, изгонялась свобода – об этом можно судить по бытовым и архитектурным останкам эпохи, а также по ядовитым проповедям невежественных богословов. Под смирительной рубашкой из ржавого железа таилась дурная злоба, извращенный порок и сатанинская одержимость. Вот в чем заключался подлинный апофеоз Неименуемого!
Ни единого слова не смягчил Коттон Мэзер, когда разразился анафемой в своей демонической шестой книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты. Сурово, словно библейский пророк, в немногословной и бесстрастной манере, в какой не умел выражаться никто после него, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между собою и человеком, нечто, обладающее дурным глазом, и о несчастном пьянчуге, повешенном, несмотря на все его просьбы и вопли, за одно лишь то, что у него на глазу было бельмо якобы столь же дурного свойства. На этом откровенность Мэзера заканчивается, и он не делает ни малейшего намека на то, что произошло в дальнейшем. Возможно, он просто не знал, а может быть, и знал, да не посмел сказать. Потому что все, кто знал, предпочитали молчать, и до сих пор неизвестно, что заставляло их переходить на шепот при упоминании о замке на двери, скрывавшей за собой чердачную лестницу в доме бездетного, убогого и угрюмого старца, установившего на могиле, которую все обходили стороной, плиту без надписи. На этот счет существует достаточное количество уклончивых слухов, от которых стынет самая пылкая кровь.
Все эти сведения я почерпнул из найденной мною семейной хроники; там же содержится множество скрытых намеков и не предназначенных для посторонних ушей историй о существах с дурным глазом, появлявшихся по ночам то в окнах, то на безлюдных лесных опушках. Возможно, что именно одна из таких тварей напала на моего предка ночью на проселочной дороге, оставив следы рогов на его груди и царапины, как от обезьяньих лап, на спине. На самой же дороге были обнаружены четко отпечатавшиеся в пыли отпечатки копыт и чего-то еще, имеющего отдаленное сходство со ступнями человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, как, проезжая верхом по делам службы, он видел вышеупомянутого старика, преследовавшего и окликавшего какое-то гадкое существо, вприпрыжку уносившееся прочь. Дело происходило на Медоу-Хилл незадолго до рассвета при тусклом сиянии луны. Интересно, что многие поверили почтальону. Доподлинно известно также то, что в 1710 году, в ночь после похорон убогого и бездетного старца (тело которого положили в склеп позади его дома, рядом со странной плитой без надписи) на кладбище раздавались какие-то голоса. Дверь на чердак отпирать не решились, и дом был оставлен таким, каким был, – мрачным и заброшенным. Когда из него доносились звуки, все вздрагивали и перешептывались, ободряя себя надеждой на прочность замка на чердачной двери. Надежде этой пришел конец после кошмара, случившегося в доме приходского священника, жильцов которого обнаружили не просто бездыханными, но разодранными на части. С годами легенды все более приобретали характер историй о привидениях – вероятно, по той причине, что если отвратительное существо действительно когда-то жило, то потом оно, как я полагаю, скончалось. Сохранилась лишь память о нем – тем более ужасная оттого, что она держалась в строгой тайне.
За время моего рассказа Мэнтон потерял свою обычную словоохотливость, и я сделал вывод, что слова мои произвели на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, как обычно, но вполне серьезным тоном осведомился у меня о том пареньке, что сошел с ума в 1793 году и явился прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем тому мальчику потребовалось посетить мрачный заброшенный дом, который все обходили стороной. Случай этот не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил в то, что на окнах запечатлеваются лица людей, сидевших перед ними. Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах пресловутого чердака, паренек решил сам сходить и поглядеть на них – и вернулся, заходясь в истошном крике.
Пока я говорил, Мэнтон был погружен в глубокую задумчивость, но, как только я закончил, он сразу вернулся в свое обычное скептическое расположение духа. Допустив, хотя бы в качестве предпосылки для дальнейшей дискуссии, что какой-то противоестественный монстр существовал на самом деле, Мэнтон, однако, посчитал своим долгом напомнить мне, что даже к самому патологическому извращению природы вовсе не обязательно относиться как к «неименуемому» или, скажем, неописуемому средствами современной науки. Признав, что я отдаю должное его здравомыслию и несгибаемости, я привел еще несколько свидетельств, добытых мной у очень пожилых людей. В этих позднейших историях с привидениями, пояснил я, речь шла о фантомах столь ужасных и отвратительных, что никак нельзя предположить, чтобы они имели органическое происхождение. Это были кошмарные призраки гигантских размеров и самых чудовищных очертаний, в одних случаях видимые, в других – только ощутимые; в безлунные ночи они как бы плыли по воздуху, появляясь то в старом доме, то возле склепа позади него, то на могиле, где рядом с безымянной плитой пустило корни молодое деревце. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как то утверждала голословная молва, или нет, я не знаю, но, во всяком случае, призраки эти производили сильное и неизгладимое впечатление. Неспроста старейшие из местных жителей так страшились их еще каких-нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти перестали вспоминать, что, кстати, и могло послужить причиной их ухода в небытие. Наконец, если взглянуть на проблему с эстетической точки зрения и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации, или призраки, человеческих существ, то вряд ли стоит ждать связного и членораздельного описания в тех случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной парообразной мерзостью, как дух злобной, уродливой бестии, само существование которой уже есть страшное кощунство по отношению к природе. Эта чудовищная химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, – не представляет ли она во всей неприглядной наготе все подлинно, вопиюще неименуемое?
Должно быть, час уже был очень поздний. Летучая мышь на удивление бесшумно пролетела мимо; она задела меня крылом, да и Мэнтона, вероятно, тоже – в темноте я не видел его, но мне показалось, что он взмахнул рукой.
– А дом? – заговорил он спустя некоторое время. – Дом с чердачным окном – он сохранился? И там по-прежнему никто не живет?
– Да, я видел его собственными глазами.
– Ну и как? Там что-нибудь было? Я имею в виду, на чердаке или где-нибудь еще…
– Там, в углу на чердаке, лежали кости. Не исключено, что именно их и увидал тот паренек. Слабонервному, чтобы свихнуться, и того достаточно, ибо если все эти кости принадлежали одному и тому же существу, то это было такое кошмарное чудовище, какое может привидеться только в бреду. С моей стороны было бы кощунством не избавить мир от этих костей, поэтому я сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там была щель, в которую я их и свалил. Только не сочти меня за идиота! Видел бы тот череп! У него были рога сантиметров по десять в длину, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас с тобой.
Вот когда я почувствовал, как Мэнтона, который придвинулся почти вплотную ко мне, пробрала настоящая дрожь! Но любопытство его оказалось сильнее страха.
– А окна?
– Окна? Они все были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Представь себе такие небольшие ромбовидные окна с решетками, что вышли из моды еще до тысяча семисотого года. Думаю, что стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. Кто знает, может быть, их выбил тот паренек? Предание молчит на этот счет.
Мэнтон снова затих. Он размышлял.
– Знаешь, Картер, – заговорил он наконец, – мне бы хотелось взглянуть на этот дом. Ты мне его покажешь? Черт с ними, со стеклами, меня интересует сам дом. И та могила, куда ты свалил кости. И другая могила, без надписи. Ты прав, от всего этого веет какой-то жутью.
– Ты уже видел этот дом, Мэнтон. Он торчал у тебя перед глазами весь сегодняшний вечер.
Некоторый налет театральности, с которым я произнес последнюю фразу, подействовал на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать: судорожно отпрянув от меня, он издал оглушительный вопль, сопровождаемый таким призвуком, словно он освобождался от удушья, ибо вопль этот вместил в себя все накопившееся и сдерживаемое дотоле напряжение. Да, надо было слышать этот крик! Но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ! Не успело стихнуть эхо, как из кромешной тьмы донесся скрип, и я догадался, что открылось одно из решетчатых окон в этом проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все рамы, кроме одной, давным-давно выпали, я понял, что скрип этот издает кошмарная пустая рама пресловутого чердачного окна.
Потом все с той же заклятой стороны дохнуло затхлым воздухом могилы, и сразу вслед за тем, совсем уже близко от меня, раздался пронзительный крик; он исходил из той жуткой гробницы, где покоились человек и монстр. В следующее мгновение удар чудовищной силы, нанесенный мне невидимым объектом громадных размеров и неизвестных свойств, сбросил меня с моего скорбного сиденья, и я растянулся на плененной корнями почве зловещего погоста, в то время как из могилы вырвалась такая адская какофония шумов и сдавленных хрипов, что фантазия моя мгновенно населила окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Поднялся вихрь иссушающе-ледяного ветра, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки, но, прежде чем понять, что произошло, я милостью божьей лишился чувств.
Не обладая моим крепким телосложением, Мэнтон, однако, оказался более живучим, и, хотя он пострадал сильнее моего, мы очнулись почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд нам стало ясно, что мы находимся в больнице Святой Марии. Персонал сгорал от любопытства; нас обступили со всех сторон и, чтобы освежить нашу память, рассказали нам о том, как мы попали сюда. Оказалось, что какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Медоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, в том самом месте, где некогда, по слухам, находилась бойня. У Мэнтона было две глубоких раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине. Я отделался более легкими повреждениями, зато все тело мое было покрыто ссадинами и синяками самого странного характера – один из кровоподтеков, например, напоминал след копыта.
Мэнтон явно знал больше, чем я, однако озадаченные и заинтригованные врачи не смогли добиться от него ни слова до тех пор, пока он не выведал у них все, что касалось наших ран. Только после этого он сообщил, что мы стали жертвами разъяренного быка – выдумка, на мой взгляд, довольно неудачная, ибо откуда было взяться в таком месте быку?
Как только врачи и сиделки удалились, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным благоговейного ужаса, спросил:
– Но, боже правый, Мэнтон, что это было на самом деле? Что-то такое, о чем можно судить по нашим ранам?
И хотя я почти догадывался, каким будет ответ, он ошеломил меня настолько, что я даже не ощутил чувства торжества от одержанной победы.
– Нет, это было нечто совсем другое, – прошептал Мэнтон. – Оно было повсюду… какое-то желе… слизь… И в то же время оно имело очертания, тысячи очертаний, столь кошмарных, что они бегут всякого описания. Я видел там глаза – и в них проклятие! Это была какая-то бездна… пучина… воплощение вселенского ужаса! Картер, это было неименуемое!
Серебряный ключ
В тридцать лет Рэндольф Картер утратил ключ, отмыкавший врата в мир его снов. Прежде он мог компенсировать прозаичность повседневного существования увлекательными ночными странствиями по затерянным древним городам и сказочно прекрасным землям на берегах эфемерных морей, но с годами чудесные сны все реже посещали Картера, и наконец тот мир стал для него недоступным. Его галеры уже не могли подняться к верховьям полноводного Украноса мимо золоченых шпилей Франа, а караваны слонов не брели сквозь напоенные ароматами джунгли Кледа, где в лунном свете сонно белели давно опустевшие, но незатронутые временем колоннады прекрасных дворцов.
Он прочел много книг об окружавшем его реальном мире и много беседовал с различными людьми. Исполненные благих побуждений философы учили его рассуждать логически и анализировать процессы, подспудно формировавшие его желания и фантазии. Так понемногу он утратил способность удивляться и позабыл о том, что вся наша жизнь – это лишь цепь возникающих в сознании образов, а поскольку нет никакой существенной разницы между отражениями объективной реальности и образами, порожденными фантазией, то нет и причин отдавать кому-то из них предпочтение. Вместо этого ему внушали почти суеверное благоговение перед материальными, осязаемыми вещами, заставляя его втайне стыдиться своих странных видений. Умудренные опытом люди называли их детскими глупостями, тем более нелепыми, что эти видения настойчиво претендовали на особую значимость и некий скрытый смысл, тогда как бестолковое вращение вселенной продолжало перемалывать нечто в ничто лишь затем, чтобы из этого ничто вновь сделать нечто, не замечая искорок чьих-то желаний и устремлений, вспыхивающих и тут же гаснущих в беспредельном мраке.
Эти трезвые умы хотели прочно приковать его к незыблемому порядку вещей, разъясняя суть и практическое назначение каждой вещи, дабы изгнать ненужные тайны из мира, где должно властвовать знание. Он инстинктивно сопротивлялся, надеясь вернуться в те сумеречные сферы, где разрозненные фрагменты видений и мимолетные ассоциации волшебным образом сливались в сознании, даря ему трепетное предвкушение чуда; они же в свою очередь обращали его к чудесам современной науки, побуждая искать красоту в схеме строения атома и траекториях движения небесных тел. Когда же ему не удавалось по достоинству оценить все прелести чего-то давно изученного, рассчитанного и измеренного, его называли лишенным воображения, интеллектуально незрелым типом, поскольку он предпочитал зыбкие иллюзии своих снов добротным и очевидным иллюзиям утвержденного миропорядка.
Картер, как мог, старался не выделяться из толпы, на словах признавая превосходство простейших обывательских эмоций над вычурными фантазиями немногих изощренных душ. Он не возражал, когда ему говорили, что реальные физические ощущения – вроде предсмертной боли свиньи под ножом мясника или желудочных колик у какого-нибудь фермера – значат для этого мира куда больше, нежели бесподобная красота Нарафа с его сотней узорчатых ворот и хрустальными куполами, смутные воспоминания о которых сохранились у него от прежних снов. Следуя мудрым советам, он усердно воспитывал в себе общепринятополезную способность к сопереживанию и состраданию.
При всем том он не мог не замечать, какими мелкими, переменчивыми и, по сути, бесцельными являются все наши устремления и как печально контрастируют истинные побудительные мотивы наших действий с высокими идеалами, эти действия якобы направляющими. Для маскировки своих истинных чувств он пользовался легкой иронией – тем самым средством, которое его учили применять в борьбе с абсурдными, напрочь оторванными от реальности видениями. Он ясно сознавал, что наша повседневность насквозь фальшива и ничуть не менее абсурдна, чем его сны, которые еще много выигрывали при сравнении с этим обделенным красотой и упрямо не желающим признавать собственную несостоятельность миром. Как следствие, он превратился в своего рода юмориста, еще не ведая, что юмор тоже бесполезен как прибежище в нашей дремучей вселенной, не способной уловить элементарную связь между причиной и следствием.
С утратой снов оказавшись целиком во власти реального мира, он сначала попытался найти утешение в религии – в той наивной вере отцов, которая предполагала некий мистический путь ухода от обыденности. Однако при ближайшем рассмотрении он обнаружил, что здесь правят бал те же банальность и косность вкупе с чахлым подобием красоты, глупой напыщенностью и смехотворными претензиями на непогрешимость. Его никак не могли впечатлить неуклюжие попытки церкви законсервировать в качестве непреложной истины суеверные страхи и домыслы наших далеких предков, которые таким образом реагировали на что-либо недоступное их пониманию. С возрастающим раздражением наблюдал Картер за тем, как люди всерьез пытаются строить земную жизнь на базе отживших преданий и мифов, убедительно опровергаемых каждым новым открытием их же собственной хваленой науки. Эта неуместная серьезность окончательно убила в Картере интерес, который он вполне мог бы питать к древним верованиям, если бы их эмоциональный заряд и красочные ритуалы представали в своем истинном, сказочно-фантазийном обличье.
Впоследствии Картер свел знакомство с людьми, отвергавшими старые мифы, но те оказались еще безнадежнее религиозных фанатиков. Им было не дано усвоить, что красота неразрывно связана с гармонией и потому в суетливом многообразии космоса возможно только одно приемлемое для всех понятие красоты: это нечто гармонирующее с нашими снами, мечтами и воспоминаниями и позволяющее нам сотворить свой собственный маленький мир, отгороженный от вселенского хаоса. Эти люди не понимали, что добро и зло, красота и уродство являются всего лишь декоративным обрамлением картины мира, а вся их ценность заключается в том, что они дают нам некоторое представление о мыслях и чувствах наших предков, создававших те или иные детали орнамента, сугубо индивидуального для каждой культуры и каждой расы. Вместо этого «вольнодумцы» либо полностью отрицали все эти понятия, либо сводили их к примитивным и грубым инстинктам, тем самым практически не отличаясь от дикарей и животных. В их уродливо искаженном сознании каким-то образом угнездилось чувство гордости за свое «духовное освобождение», при том что они оставались рабами предрассудков ничуть не менее пагубных, нежели те, от которых они якобы освободились. В сущности, они всего-навсего сменили идолов: место слепого страха и бездумного благочестия заняли вседозволенность и анархия.
Картера не прельстили эти новомодные, обретенные по дешевке и дурно пахнущие «свободы»; они оскорбляли его представление о красоте, а его разум восставал против убогих логических потуг, посредством которых доморощенные идеологи пытались облагородить свои изначально ущербные постулаты, навесив на них культовую мишуру, снятую с ими же ниспровергнутых старых идолов. Большинство из них пребывало в заблуждении относительно смысла жизни, полагая его некой самодовлеющей категорией, одинаково применимой ко всем и каждому. При этом они не могли обойтись без привычных понятий морали и долга, никак не соотносимых с понятием красоты, хотя сама Природа в свете их научных открытий подтверждала свою абсолютную независимость от каких-то умозрительных нравственных норм. Приняв за аксиому иллюзии справедливости, свободы и формальной логики, они поспешили отвергнуть прежние знания и верования, даже не дав себе труда подумать о том, что эти же самые знания и верования лежат в основе их нынешних убеждений и являются их единственным ориентиром в бессмысленной и хаотичной вселенной. Лишившись этого ориентира, их жизнь вместе с тем лишилась и конкретной цели, что вынудило их искать спасение от смертной тоски в нарочитой деловитости, в диких буйствах и грубых чувственных наслаждениях. А когда все это приелось до тошноты, они обратились к иронии и сарказму, избрав главным объектом нападок очевидные всем недостатки общественного устройства. Этим несчастным было невдомек, что их сознательно упрощенный и огрубленный подход к действительности покоится на столь же шаткой основе, что и религиозное мировоззрение их предшественников, а сегодняшняя удовлетворенность жизнью может завтра обернуться жестоким разочарованием. По-настоящему насладиться спокойной и неувядающей красотой можно только в счастливых снах, однако наш мир лишил себя такой возможности, в угаре идолопоклонства утратив драгоценный дар детской чистоты и невинности.
Посреди этого хаоса Картер пытался вести образ жизни, подобающий благоразумному и воспитанному человеку своего круга. С годами воспоминания о чудесных снах слабели, а утвердиться в какой-либо новой вере он так и не смог, но стремление сохранить душевную гармонию вынуждало его следовать правилам поведения, обусловленным его расовой принадлежностью и социальным статусом. Бесстрастно проходил он улицами многих городов и только порою вздыхал, когда игры солнечных бликов, золотящих высокие кровли, или мягкий свет вечерних фонарей на окруженной балюстрадами старой площади напоминали о давних снах и пробуждали тоску по сказочным мирам, куда у него уже не было доступа. Путешествия не могли послужить им достойной заменой, и даже мировая война оказалась для Картера лишь слабой встряской – это при том, что он воевал чуть ли не с первых дней, завербовавшись во французский Иностранный легион. На фронте он завел было друзей, но вскоре начал тяготиться их обществом, однообразием и приземленностью их чувств. Отсутствие контактов с родственниками, оставшимися за океаном, его скорее радовало, нежели огорчало, так как среди этой родни он не имел по-настоящему родственных душ, за исключением дедушки да еще двоюродного деда Кристофера, но эти двое уже давно умерли.
По окончании войны он вернулся к сочинительству, которое забросил, когда его перестали посещать сны. Но и это занятие не приносило ему удовлетворения, поскольку теперь он уже не мог оторваться от земной суеты и свободный полет фантазии остался в прошлом. Язвительная ирония без труда разрушала хрупкие минареты, сотворенные его воображением, а боязнь неправдоподобия оказалась губительной для нежных цветов, которые он взращивал в сказочных садах. Попытки сопереживать героям своих книг лишь придавали этим образам слезливо-сентиментальный налет, тогда как стремление к жизненной убедительности низводило повествование до уровня неуклюжей аллегории либо пошлой социальной сатиры. При всем том его новые романы имели куда больший успех, чем прежние. Осознавая, сколь пустым должно быть сочинение, способное угодить вкусам пустоголовой толпы, он сжег свои рукописи и оставил литературное поприще. В тех стилистически изысканных романах он иногда посмеивался над собственными сновидениями, обрисовывая их как бы мимоходом, небрежными штрихами, отчего сны теряли живую энергию, задушенные праздной игрой слов.
Следующей попыткой стало сознательное удаление в мир иллюзий, обращение к загадочному и сверхъестественному как к противоядию от обыденности. Однако и здесь он вскоре столкнулся с идейным убожеством и бесплодием: модные оккультные учения на поверку оказались столь же выхолощенными и закостеневшими, как научные доктрины, с которыми он имел дело прежде, но в отличие от последних не содержали даже слабого намека на истину, способного хоть как-то оправдать их существование. Откровенная глупость, фальшь и бессвязность мыслей не имели ничего общего с его снами; такие учения не могли дать прибежище умам, превосходящим жалкий уровень их адептов. Продолжая поиски в этом направлении, Картер приобретал и штудировал самые невероятные книги и искал общества самых странных людей, чей круг знаний и интересов выходил далеко за обычные рамки. Он проникал в те сферы человеческого сознания, где мало кому доводилось бывать до него, изучал потаенные глубины жизни, легенды и скупые свидетельства, восходящие к незапамятным временам. Его дом в Бостоне был максимально приспособлен к смене настроений владельца: для каждого настроения существовала особая комната, окрашенная в подходящие тона, снабженная подходящими к случаю книгами и предметами, с соответственно подобранными освещением, температурой, звуковым оформлением и запахами.
Как-то раз до него дошли сведения об одном человеке на Юге, который чуждался общества и постоянно пребывал в страхе перед какими-то чудовищными откровениями из древних книг и клинописных глиняных табличек, привезенных из Индии и Аравии. Картер отправился к нему и на протяжении семи лет делил с ним жилище и ученые занятия, но как-то в полночь на старом кладбище неизъяснимый ужас объял обоих – и только один из них вернулся оттуда, куда уходили двое. После этого Картер перебрался в Аркхем, овеянный мрачными колдовскими легендами городок в Новой Англии, с которым была тесно связана история его рода. Кое-что из пережитого им здесь, в ночной тьме среди вековых деревьев и обветшалых домов с островерхими крышами, так напугало исследователя, что он зарекся впредь открывать некоторые страницы в дневнике одного из своих безрассудных предков. Все эти занятия приблизили его к пределам реального мира, но так и не указали путь в заветную страну сновидений. К пятидесяти годам он отчаялся найти душевный покой в мире, слишком суетном, чтобы замечать красоту, и слишком практичном, чтобы дать простор мечтаниям.
Окончательно разуверившись в этой ничтожной реальности, Картер жил отшельником, тоскуя о дивных снах своей юности. Сомневаясь, стоит ли продолжать такое существование, он раздобыл через одного знакомого в Южной Америке особенный эликсир, с помощью которого можно было без мучений и боли кануть в небытие. От этого шага его до поры удерживали только апатия и сила привычки. Мысленно возвращаясь к прошлому, он решил устранить все последние изменения в интерьере дома и постарался вернуть ему тот облик, который помнил с детства, включая оконные витражи и викторианскую мебель.