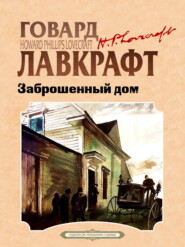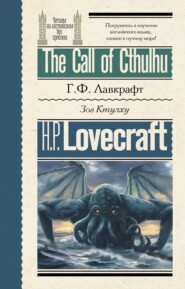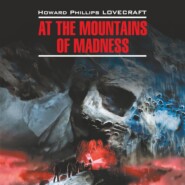По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крадущийся хаос
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все сцены отличались отсутствием переходных объектов и неопределенно-двусмысленным видом таких полупереходных объектов, как мебель или растительность. Освещение каждой сцены было рассеянным и сбивало с толку, и, конечно же, сочетание противоположностей цветового спектра – ярко-алый оттенок травы, желтизна неба с черными и серыми облаками, бледность древесных стволов и зелень кирпичных стен – придавало невероятно гротескный вид даже самым обычным пейзажам. Смена дня и ночи – привычное донельзя явление – в соответствии с обратным действием физических законов представляла чередование дневного мрака со светом ночи.
Скудное однообразие локаций Зазеркалья озадачивало Роберта поначалу – потом же он сообразил, что состояли они всего лишь из тех мест, которые длительное время отражались в зеркале. Так объяснялось и странное отсутствие переходов, довольно произвольный характер связи локаций между собой и, наконец, неизменное окаймление видов контурами оконных рам и дверных проемов. Несомненным было для меня то, что зеркало обладало способностью запечатлевать те неосязаемые сейчас картины, что были некогда отражены его поверхностью. Неосязаемыми они были потому, что зеркало поглощало внутрь своего пространства не сами объекты в их материальном качестве, а только их эфемерные образы. Роберт был захвачен им во плоти и крови, но в этом случае имел место другой, особенный процесс.
Однако самой невероятной чертой этого феномена – по крайней мере, для меня, – было то чудовищное низложение известных законов пространства, проявлявшееся при сравнении иллюзорных сцен зеркального мира с их реальными земными аналогами. Говоря о том, что магическое стекло хранит внутри себя образы земных пейзажей, я позволяю себе некоторое упрощение истинного положения вещей – на деле каждая из декораций зеркала представляла собой неискаженную квазиперманентную проекцию четвертого измерения соответствующего земного участка. Поэтому, когда я наблюдал Роберта в пределах той или иной декорации – к примеру, в рамках образа моей комнаты, где он неизменно оказывался в ходе наших сеансов телепатической связи, – он действительно пребывал именно в этом месте реального земного мира, хотя и в условиях, исключающих возможность всяческого сенсорного контакта между ним и аспектами обычного трехмерного пространства.
Теоретически заключенный в зеркале мог за несколько мгновений перенестись в любую точку нашей планеты – то есть, в любое место, которое когда-либо отражалось в зеркале. Это, вероятно, относилось даже к тем местам, где зеркало провисело недостаточно долго, чтобы создать ясную иллюзорную картину; они были представлены нечетко оформленными зонами темноты. За пределами определенных сцен простиралась кажущаяся безграничной область нейтрально-серых сумерек, в которой Роберт никогда не был уверен, не осмеливаясь далеко заходить в нее из страха безнадежно потеряться как в реальном, так и в зеркальном мирах.
Среди первых подробностей, которые сообщил Роберт, было то, что он не один в своем заключении. Вместе с ним там были и другие люди, все – в старинных одеждах: дородный джентльмен средних лет в парике и бархатных бриджах до колен, говорящий по-английски бегло, хотя и с заметным скандинавским акцентом; довольно красивая маленькая девочка с очень светлыми волосами, которые в мире зеркала выглядели влажно-синими; два немых, по всей видимости, негра, чьи крупные черты гротескно контрастировали с бледностью кожи; одна молодая женщина; очень маленький ребенок, почти младенец; и, наконец, худощавый пожилой датчанин экстравагантного облика с умным лицом – человек явно образованный, но похоже ни капли не сострадательный, а возможно, и лукавый.
Датчанина звали Аксель Холм, и по моде более чем двухсотлетней давности наряд его состоял из расклешенного сюртука, атласных панталон и пышного парика. Среди небольшой группы пленников зеркала он выделялся тем, что был ответственен за присутствие остальных – ведь именно он, одинаково искусный в чернокнижии и стеклоделии, давным-давно создал эту странную пространственную тюрьму, в которой он сам, его рабы и те, кого он пригласил или заманил туда, были замурованы навсегда – ну или по меньшей мере на тот срок, пока сохранно было зеркало.
Холм родился в самом начале семнадцатого века и с огромным знанием дела и успехом занимался ремеслом стеклодува и формовщика в Копенгагене. Изготовляемые им большие зеркала, настоящие произведения искусства, всегда были в большом почете. Но тот же самый смелый ум, который сделал Холма первым стекольщиком Европы, помог ему перенести свои интересы и амбиции далеко за пределы сугубо материального мастерства. Окружающий мир раздражал его ограниченностью человеческих знаний и возможностей. В конце концов Холм стал искать темные пути преодоления этих ограничений и достиг гораздо большего, чем дозволительно любому смертному, успеха в своих поисках.
Он стремился вкусить истинной вечности – и зеркало было его средством достижения цели. Серьезному изучению четвертого измерения положил начало далеко не Эйнштейн в нашем веке, а Холм – в семнадцатом, и именно Холм в ходе своих изысканий открыл, что в случае физического вхождения в скрытую фазу пространства можно предотвратить смерть в принципе. Заключив, что явление оптического отражения открывает универсальный вход во все измерения пространства, помимо наших обычных трех, Холм приложил нечеловеческие усилия к розыску очень редкого и древнего артефакта – хроматического отражающего стекла, или, скорее, стекольного фрагмента, в определенных трудах означенного как «Око Локи[8 - Бог хитрости и обмана в скандинавско-германской мифологии.]». И удача, как очевидно, улыбнулась ему. Исследовав Око в соответствии с предусмотренным им методом, Холм проникся осознанием того, что жизнь в смысле сохранения формы и сознания будет продолжаться практически вечно в открывшемся ему Зазеркалье – при условии, что сам рефлектор будет бесконечно долго предохранен от поломки или порчи.
И Холм сделал великолепное зеркало, высоко оцененное и бережно хранимое, и в него ловко вплавил добытое алхимическое Око Локи. Подготовив таким образом свое убежище – и свою западню, – он начал планировать способ перехода и условия проживания. Он хотел иметь при себе как слуг, так и товарищей, и в качестве начала эксперимента послал вперед себя двух надежных негритянских рабов, привезенных из Вест-Индии. Какими должны были быть его ощущения при виде этой первой конкретной демонстрации правоты его теорий? Я могу лишь гадать.
Несомненно, человек его знаний понимал, что отсутствие во внешнем мире, если оно откладывается за предел естественной продолжительности жизни тех, кто находится внутри, должно означать мгновенный телесный распад при первой же попытке вернуться в наш мир. Но если зеркало останется целым, его пленники пребудут навсегда такими, какими они были во время входа. Они никогда не состарятся и не будут нуждаться ни в пище, ни в питье.
Чтобы сделать свою западню более сносной, Холм переправил в Зазеркалье библиотеку и письменные принадлежности, прочно сработанную мебель и другие предметы привычной ему обстановки. Он знал, что образы, которые отразит стекло, не будут осязаемыми, а просто будут простираться вокруг него, как фон сна, поэтому и провел подобную подготовку. Его собственный переход в 1687 году был знаменательным событием и сопровождался чувством триумфа, смешанного с ужасом. Если бы в планы вмешалось что-то непредвиденное, Холм мог навеки затеряться в темных и непостижимых множественных измерениях.
В течение более чем полувека ему не удавалось пополнить свою скудную компанию рабов, но позже он усовершенствовал свой телепатический метод визуализации небольших участков внешнего мира вблизи зеркала – и привлечения определенных людей в эти области посредством Ока Локи. Таким образом Роберт, под влиянием желания надавить на «проход» рукой, был заманен внутрь. Такие визуализации полностью зависели от телепатии, поскольку никто внутри зеркала не мог видеть того, что происходило за его пределами.
По правде говоря, Холм и его компания вели странную жизнь за стеклом. Поскольку зеркало простояло целое столетие, обращенное лицевой стороной к пыльной каменной стене сарая, где я его нашел, Роберт был первым существом, вошедшим в этот Лимб за предолгие годы. Его прибытие было торжественным событием, так как он принес известия из внешнего мира, которые, должно быть, произвели самое поразительное впечатление на слушателей. Да и самому мальчишке было не по себе от знакомства с людьми, жившими в семнадцатом и восемнадцатом веках.
Можно лишь весьма смутно представить себе ту убийственную монотонность, которой характеризовалась жизнь этих заключенных. Как уже упоминалось, все окружавшие их виды сводились к довольно ограниченному числу пейзажей и интерьеров, которые были когда-либо отражены старинным зеркалом за весь период его существования; многие из них из-за пагубного воздействия тропического климата на зеркальную поверхность стали размытыми и непонятными. Некоторые, однако, сохранили яркость и красоту; именно на их фоне компания любила собираться вместе. Но все же ни один из тех видов нельзя было назвать безупречным, ибо даже хорошо видимые предметы отличались безжизненной неосязаемостью и неприятно озадачивали своими подчас приводящими в недоумение свойствами. И когда мир зеркальной западни погружался в тягостный мрак, его обитатели, за неимением лучшей доли, терзались зацикленной ностальгией, предавались думам и беседам – неизменным с того самого дня, как стали невосприимчивы к влиянию хода времени во внешнем мире сами пленники.
Неодушевленные предметы в Зазеркалье можно было перечесть по пальцам – по факту, их число ограничивалось вещами, которые Холм заготовил для себя, да еще той одеждой, что была на узниках. За исключением датчанина, все они обходились без кроватей; впрочем, те не были им нужны, ибо сон и усталость были им точно так же неведомы, как голод или жажда. Неорганические вещества и изготовленные из них вещи были в одной степени с органикой предохранены от распада. Низшие формы животной жизни полностью отсутствовали.
Большинство сведений Роберт почерпнул у герра Тиле, того самого господина, который говорил по-английски со скандинавским акцентом. Дородный датчанин быстро привязался к мальчику и все свое время проводил в беседах с ним; да и другие узники полюбили Роберта всей душой, и даже сам Аксель Холм благоволил ему – именно от него мальчик узнал многое о природе западни и о способе входа в нее. И все же Роберт благоразумно не вступал со мною в телепатическую связь, если Холм находился неподалеку. Дважды во время нашего общения в поле зрения возникала фигура датчанина – и Роберт, не колеблясь, тут же замолкал.
Общаясь с Робертом, я не видел того мира, в который он попал. Его зримый образ был соткан из контуров телесной оболочки и облегавшей ее одежды и представлял, подобно акустическому рисунку его прерывистого голоса для меня и моему зрительному образу для него, типичный пример телепатической передачи информации, иного процесса в сравнении с обычным зрительным восприятием трехмерных физических тел. Если бы Роберт был таким же сильным телепатом, как Холм, он наверняка мог бы передать несколько сильных образов в отдельности от образа своей непосредственной персоны.
В течение всего этого периода откровений я отчаянно пытался найти способ спасения Роберта. На четвертый день – девятый после исчезновения мальчика – решение нашлось. С учетом всех обстоятельств разработанный мною план отличался простотой, несопоставимой с затраченными на него усилиями… и полной непредсказуемостью последствий, которые – в случае неудачи – могли быть совершенно непоправимыми. План зиждился в основном на том знании, что выхода из Зазеркалья как такового не существует. Если Холм и его пленники были навсегда запечатаны, то освобождение должно было прийти полностью извне. Другие соображения затрагивали судьбу остальных заключенных, если таковые оставались в живых при переходе, и особенно – судьбу Акселя Холма. То, что Роберт рассказал мне о нем, было далеко не обнадеживающим, и я, конечно же, не желал, чтобы он свободно разгуливал по моим покоям, вновь обретя свободу изъявлять свою волю миру. Телепатические послания не вполне прояснили эффект освобождения для тех, кто вошел в зеркало целые века назад.
Кроме того, существовала еще одна, хотя и незначительная, проблема в случае успеха – как вернуть Роберта в рутину школьной жизни без сумасбродных объяснений? Даже мне правда казалась безумной всякий раз, когда я позволял своему разуму отвлечься от картины, столь убедительно обрисованной в нескольких насыщенных сновидениях.
Обдумав план и решив, что игра всяко стоит свеч, я принес из школьной лаборатории большое увеличительное стекло и тщательно изучил каждый квадратный миллиметр центра зеркала, ответственного за вихреобразную иллюзию. По всей вероятности, центр этот и был фрагментом старинного стекла, что использовал Холм для перехода в свою западню. Но даже так я не мог поначалу выявить границу между старым и новым зеркалами. У меня ушли часы на то, чтобы отметить границу оправы Холма и обвести мягким синим карандашом – фигура, получившаяся в итоге, представляла собой почти правильный овал. После этого я съездил в Стэмфорд, где приобрел стеклорез. С его помощью я намерен был изъять колдовской участок стекла из его более позднего обрамления.
Вслед за тем я выбрал оптимальное время суток для проведения эксперимента, исход которого должен был решить судьбу Роберта, остановившись на половине третьего ночи.
Во-первых, столь поздний час был надежной гарантией моего полного уединения, а во-вторых, время это выступало «зеркальным» по отношению к половине третьего пополудни, времени предполагаемого перехода Роберта. Противоположность такого рода, вполне возможно, и не имела никакого значения, но чутье подсказывало мне, что я на верном пути.
Наконец, на одиннадцатый день после исчезновения, рано утром, задернув все шторы в гостиной и заперев дверь в прихожую, я принялся за работу. Затаив дыхание, я установил на синей карандашной отметке резец и провел пробную линию. Старое зеркало полудюймовой толщины хрустело под твердым равномерным давлением, и, завершив круг, я обошел его во второй раз, еще глубже вдавливая резец в стекло.
Затем, соблюдая предельную осторожность, я снял тяжелое зеркало со столика, где оно стояло все это время, и прислонил его лицевой стороной к стене, отодрав пару тонких узких полосок, прибитых к задней стенке. Аккуратно стукнул ручкой стеклореза по прорезанному участку – и первого же удара оказалось достаточно, чтобы овальный фрагмент вывалился из оправы на застилавший пол бухарский ковер.
Признаться, столь скорый успех застал меня врасплох. Я не знал, что может случиться, но был готов ко всему и невольно сделал глубокий вдох. В эту минуту я удобства ради стоял на коленях, приблизив лицо к только что проделанному отверстию, – и в ноздри мне ударил сильный затхлый смрад, не сравнимый ни с каким другим из всех изведанных. В глазах тут же посерело; я почувствовал, что меня подавляет невидимая сила, лишающая мои мышцы способности функционировать. Помню, как слабо и тщетно ухватился за край ближайшей оконной драпировки – та сорвалась с крючка, и я распластался на полу без сознания.
Очнувшись, я обнаружил, что лежу на бухарском ковре, а мои ноги кем-то задраны вверх. Комната была полна того отвратительного и необъяснимого запаха, и когда мои глаза начали воспринимать определенные образы, я увидел, что передо мной – Роберт Грандисон собственной персоной. Именно он – во плоти, с нормальным цветом кожи – держал меня за ноги, чтобы кровь прилила к голове, как учили его на курсах оказания первой медицинской помощи людям, потерявшим сознание. На мгновение я лишился дара речи – как от стоящего зловония, так и от растерянности, которая быстро переросла в чувство торжества; затем я обнаружил, что могу шевелиться и даже говорить.
Подняв руку, я дал Роберту слабую отмашку.
– Довольно, старина… бросай меня. Большое спасибо. Кажется, я снова в порядке. Этот запах… думаю, он меня и свалил. Открой самое дальнее окно – пошире, да, вот так. Шторы не отодвигай. Спасибо тебе.
Я тяжко поднялся на ноги, чувствуя, как мое нарушенное кровообращение понемногу восстанавливается, и выпрямился, опершись на спинку ближайшего стула. Я все еще был не в себе, но дуновение свежего, пронизывающе холодного воздуха из окна быстро привело меня в чувство. Сев в большое кресло, я посмотрел на Роберта.
– А где остальные? – спросил я. – Где сам Холм? Что с ними стало?
Роберт замер и очень серьезно посмотрел на меня.
– Их нет, мистер Каневин. Я видел, как они все исчезли. Там, в этом зеркале… ничего не осталось больше. – Поддавшись нахлынувшим чувствам, мальчишка зашмыгал носом. Тут я нашел в себе силы принести ему плед, сел рядом, успокаивающе положил руку ему на плечо.
– Все в порядке, старина, – заверил я его.
Внезапный и вполне естественный срыв миновал так же быстро, как начался, когда я заговорил с ним о своих планах относительно его спокойного возвращения в школу. Интерес к ситуации и необходимость скрыть невероятную правду под рациональным объяснением завладели его воображением, как я и ожидал, и наконец он стал поспешно пересказывать все подробности своего освобождения. Когда я ломал стекло, он находился в «проекции» моей спальни, и в тот самый момент, когда западня была разъята, оказался в реальной трехмерной комнате – не успев до конца осознать собственное освобождение. Услышав, как я падаю в гостиной, он вбежал туда – и нашел меня на коврике в обмороке.
Я не стану слишком подробно останавливаться на той инсценировке, которую устроили мы с Робертом, чтобы скрыть от общественности истинную картину его исчезновения. Скажу только, что ранним утром усадил мальчика в машину, отъехал на порядочное расстояние от школы и, повторив по пути выдуманную мною легенду, вернулся обратно, чтобы разбудить Брауна новостью о находке. Я объяснил ему, что в день исчезновения Роберт гулял один, и двое молодых людей предложили ему прокатиться на автомобиле, а потом, несмотря на все протесты и заверения в том, что он не может ехать дальше Стэмфорда, повезли его дальше. Роберту все же удалось ускользнуть от них, когда машина остановилась из-за какой-то поломки; скрывшись от похитителей, он стал ловить на дороге попутку, надеясь поспеть к вечерней перекличке, и по неосторожности попал под автомобиль. Ясный ум вернулся к нему лишь десять дней спустя – в доме того водителя, под колесами чьей машины он оказался. Тут же, посреди ночи, мальчик сделал звонок в школу, и я, будучи единственным, кто не спал в столь поздний час, не тратя время на извещения третьих лиц, приехал и забрал его.
Браун, тотчас же позвонивший родителям Роберта, принял рассказ без всяких вопросов и не стал расспрашивать мальчика из-за явного истощения последнего. Было решено, что он останется в школе на некоторое время; жена Брауна, в прошлом сестра милосердия, взялась ухаживать за ним до приезда родителей. Естественно, я часто виделся с ним во время рождественских каникул и таким образом смог заполнить некоторые пробелы в отрывочной истории, изложенной им телепатически.
Время от времени мы почти сомневались в реальности того, что произошло, задаваясь вопросом, не были ли мы оба охвачены каким-то чудовищным заблуждением, порожденным оптико-гипнотическим качеством зеркала, не была ли история о поездке и несчастном случае, в конце концов, настоящей правдой? Но всякий раз от сомнений одно чудовищно-навязчивое воспоминание возвращало нас к вере: меня – образ Роберта во сне, его хриплый голос и цвет кожи, обращенный в негатив; его – фантастическое великолепие жителей прошлых веков и безжизненных сцен, свидетелем коих он был. Ну и сверх всего – наше общее воспоминание о мертвецком смраде, хлынувшем из прореза в зеркале, сопровождавшем мгновенный распад тех, кто вошел в иное измерение столетие и более назад.
Есть, кроме того, по крайней мере две линии более убедительных свидетельств; одна из них приходит через мои исследования в датских анналах, касающихся Акселя Холма. Такой человек действительно оставил много следов в фольклоре и письменных свидетельствах; и усердные библиотечные поиски вкупе с письмами, написанными мною нескольким датским краеведам, пролили гораздо больше света на его дурную славу. Копенгагенский мастер дел стекольных, родившийся в 1612 году, слыл известным чернокнижником, чье исчезновение с лица земли служило предметом благоговейных дебатов более двух столетий назад. Он горел желанием познать все сущее и преодолеть все ограничения человечества – и с этой целью с самого детства углублялся в оккультные и запретные учения. У него были довольно странные интересы и цели, неизвестные досконально, но общепризнанные недобрыми. Известно, что два его негритянских помощника, первоначально рабы из датской Вест-Индии, стали немыми вскоре после того, как он их приобрел, и что они исчезли незадолго до того, как он сам канул незнамо куда.
К концу и без того предолгой жизни ему, видимо, пришла в голову идея о достижении «зеркального бессмертия». Откуда к нему попал ключевой компонент задуманного проекта, ходили самые разные слухи. Утверждалось даже, что он выкрал его из иностранного музея под предлогом проведения полировки и реставрации. Артефакт, согласно народному эпосу, столь же могущественный в своем роде, как более известные Эгида Минервы и Молот Тора, представлял собой овальный лист из отполированного легкоплавкого минерала и назывался Оком Локи. Ему приписывали «стандартные» магические свойства вроде способности видеть врагов владельца или предсказывать ближнее будущее, но в том, что свойства его могут быть гораздо более невероятными, не сомневался почти никто из оккультных знатоков, многих из которых всполошила весть о попытках Холма создать на основе Ока Локи зеркало большого размера. Но Холм исчез в 1687 году, и все его наследство – то, что удалось найти, ведь какая-то его часть тоже исчезла, – было распродано по всему свету. История, казалось бы, из числа небылиц, но для меня она – прямое подтверждение всех ошеломляющих чудес, что испытали на себе я и Роберт Грандисон.
Но, как я уже упомянул, в моем распоряжении имеется еще одно доказательство нашей правоты, доказательство совершенно иного характера. Через два дня, когда Роберт, заметно окрепший, сидел в моей гостиной и бросал поленца в камин, я приметил некую неловкость в его движениях – и был поражен одной догадкой. Подозвав его к своему столу, я попросил его взять чернильницу – и почти не удивился, заметив, что, несмотря на праворукость, он сделал это левой рукой. При помощи стетоскопа мисс Браун я установил, что и сердце бьется у него с правой стороны, – и некоторое время не говорил ему об этом открытии.
Он вошел в зеркало праворуким, с обычным расположением внутренних органов – но возвратился уже левшой, с «отзеркаленным» строением, и таким, думаю, и останется на всю жизнь. Очевидно, переход в другое измерение не был иллюзией – ибо физические изменения Роберта были ощутимы и безошибочны. Если бы существовал естественный выход из чрева зеркала, Роберт, вероятно, подвергся бы тщательному обратному обращению и появился бы в совершенной нормальности. Насильственный характер его освобождения сотворил парадокс своего рода, и если обратные частоты спектральных волн успели смениться на изначальные, вернув цвет кожи и одежды, то с пространственным расположением предметов этого, увы, не произошло.
Я не просто открыл западню Холма – я разрушил ее, и на какой-то определенной стадии ее краха, совпавшей с моментом выхода Роберта наружу, часть свойств инвертированного мира утратилась. Замечу, что во время выхода из зеркала Роберт не испытал тех болезненных ощущений, что сопровождали вход в Зазеркалье. Будь раскрытие западни еще более резким – меня невольно коробит мысль о том, каково было бы мальчику жить со столь жутким цветом кожи, ведь инвертированная цветовая гамма не успела бы обратиться в нормальную. Кстати, не только сердце и другие внутренние органы у Роберта сместились в противоположную сторону – то же коснулось и деталей его одежды, таких как карманы или пуговицы.
Ныне Око Локи хранится у меня дома, ибо я не стал вправлять его обратно в старинное зеркало, от которого я избавился. Оно покоится на моем письменном столе, выполняя роль пресс-папье – здесь, в Сент-Томасе, почтенной столице датской Вест-Индии, которую сейчас величают Американскими Виргинскими островами. Различные ценители старины ошибочно принимают его за причудливый образец американского стекольного антиквариата примерно вековой давности. Но мне-то известно, что Око Локи – плод искусства несоизмеримо более древнего и высокого, но не вижу абсолютно никаких причин разубеждать мою энтузиастично настроенную публику.
Йигов сглаз
В одна тысяча девятьсот двадцать пятом году я прибыл в штат Оклахома в качестве этнографа, воодушевленного культом змей; покинул же я эту местность, питая к ползучим рептилиям страх, что будет со мной до конца дней. Вся безосновательность фобии предельно ясна мне, ведь наверняка существуют разумные логические объяснения всему услышанному и увиденному мною, но даже им не под силу ее, эту фобию, устранить хотя бы частично.
Возможно, история Йигова сглаза не наложила бы на меня столь сильный отпечаток, не будь у нее определенных этнографических оснований. По природе своей работы я привык относиться к причудливым поверьям американских индейцев скептически – чего не скажешь о простых людях, куда более легковерных, чем их краснокожие собратья, в тех областях, что принято называть непознанными. Но до сих пор перед глазами у меня стоит то последнее видение – существо, запертое в палате психиатрической лечебницы в Гатри.
Стоит сказать, лечебница сразу привлекла мое внимание, так как о ней и ее обитателях ходили прелюбопытнейшие слухи у местных старожилов. Ни белые, ни индейцы ни разу не упоминали Великого Змея Йига напрямую, а ведь именно этого персонажа легенд я начал вплотную изучать. Новые поселенцы, приехавшие сюда в период нефтедобычи, разумеется, ничего не знали об этом мифе, а краснокожие и старые первопроходцы были явно напуганы моими попытками разговорить их. Но несколько человек все же упомянули лечебницу – да и то снизойдя до боязливого шепота. До моего сведения довели, что некий доктор Макнил мог бы удовлетворить мое любопытство; более того, кое-кто из пациентов представляет из себя нагляднейшее подтверждение истинности всего того, что доктор мог бы мне рассказать. По итогу двух знакомств я бы мигом понял, почему же к Йигу, Змею-и-Человеку, питают столь сложную смесь боязни и почитания в самом сердце Оклахомы, и почему первопоселенцев ввергают в дрожь традиционные индейские ритуалы, полнящие осенние дни и ночи угрюмым неумолчным барабанным боем, раскатывающимся над пустошами и полями.
Я прибыл в Гатри в приподнятом расположении духа, словно взявшая след гончая, – ибо не один трудный год ушел у меня на картографирование и прослеживание эволюционной динамики культа Великого Змея среди индейских племен. Моя теория заключалась в том, что великий и могучий Кетцалькоатль мексиканцев имеет гораздо более древнюю и не столь милостивую предтечу. В течение последних месяцев я был весьма близок к ее доказательству – тому способствовали результаты исследований, охватывавших пространство от Гватемалы до оклахомских равнин. Но чем дальше я продвигался в познании тайны, тем больше мешала мне липкая и беспросветная завесь страха и секретности. Теперь же мне намекали на новый, обнадеживающий источник информации, и я, подстегиваемый азартом и простым природным любопытством, отправился к загадочной лечебнице.
Доктор Макнил оказался обладателем почтенной лысины и невысокого роста; его речь и манеры выдавали в нем человека благородного происхождения и энциклопедического ума. Когда я сообщил о цели своего визита, на серьезном лице доктора отразилось сомнение. Но постепенно ему на смену пришло выражение задумчивости. Он изучил мое удостоверение Королевского этнографического общества и верительное письмо, любезно предоставленное одним отставным военным интендантом.
– Значит, вы исследуете легенду о Йиге? – спросил он, закончив с просмотром бумаг. – Многие этнологи-любители Оклахомы пытались породнить его с Кетцалькоатлем, да только не думаю я, что удача подбросила им все звенья связующей цепи. Вы провели солидную работу для столь молодого исследователя. Вы не похожи на простого любопытствующего, и, похоже, все эти рекомендации – не пустой звук.
Скудное однообразие локаций Зазеркалья озадачивало Роберта поначалу – потом же он сообразил, что состояли они всего лишь из тех мест, которые длительное время отражались в зеркале. Так объяснялось и странное отсутствие переходов, довольно произвольный характер связи локаций между собой и, наконец, неизменное окаймление видов контурами оконных рам и дверных проемов. Несомненным было для меня то, что зеркало обладало способностью запечатлевать те неосязаемые сейчас картины, что были некогда отражены его поверхностью. Неосязаемыми они были потому, что зеркало поглощало внутрь своего пространства не сами объекты в их материальном качестве, а только их эфемерные образы. Роберт был захвачен им во плоти и крови, но в этом случае имел место другой, особенный процесс.
Однако самой невероятной чертой этого феномена – по крайней мере, для меня, – было то чудовищное низложение известных законов пространства, проявлявшееся при сравнении иллюзорных сцен зеркального мира с их реальными земными аналогами. Говоря о том, что магическое стекло хранит внутри себя образы земных пейзажей, я позволяю себе некоторое упрощение истинного положения вещей – на деле каждая из декораций зеркала представляла собой неискаженную квазиперманентную проекцию четвертого измерения соответствующего земного участка. Поэтому, когда я наблюдал Роберта в пределах той или иной декорации – к примеру, в рамках образа моей комнаты, где он неизменно оказывался в ходе наших сеансов телепатической связи, – он действительно пребывал именно в этом месте реального земного мира, хотя и в условиях, исключающих возможность всяческого сенсорного контакта между ним и аспектами обычного трехмерного пространства.
Теоретически заключенный в зеркале мог за несколько мгновений перенестись в любую точку нашей планеты – то есть, в любое место, которое когда-либо отражалось в зеркале. Это, вероятно, относилось даже к тем местам, где зеркало провисело недостаточно долго, чтобы создать ясную иллюзорную картину; они были представлены нечетко оформленными зонами темноты. За пределами определенных сцен простиралась кажущаяся безграничной область нейтрально-серых сумерек, в которой Роберт никогда не был уверен, не осмеливаясь далеко заходить в нее из страха безнадежно потеряться как в реальном, так и в зеркальном мирах.
Среди первых подробностей, которые сообщил Роберт, было то, что он не один в своем заключении. Вместе с ним там были и другие люди, все – в старинных одеждах: дородный джентльмен средних лет в парике и бархатных бриджах до колен, говорящий по-английски бегло, хотя и с заметным скандинавским акцентом; довольно красивая маленькая девочка с очень светлыми волосами, которые в мире зеркала выглядели влажно-синими; два немых, по всей видимости, негра, чьи крупные черты гротескно контрастировали с бледностью кожи; одна молодая женщина; очень маленький ребенок, почти младенец; и, наконец, худощавый пожилой датчанин экстравагантного облика с умным лицом – человек явно образованный, но похоже ни капли не сострадательный, а возможно, и лукавый.
Датчанина звали Аксель Холм, и по моде более чем двухсотлетней давности наряд его состоял из расклешенного сюртука, атласных панталон и пышного парика. Среди небольшой группы пленников зеркала он выделялся тем, что был ответственен за присутствие остальных – ведь именно он, одинаково искусный в чернокнижии и стеклоделии, давным-давно создал эту странную пространственную тюрьму, в которой он сам, его рабы и те, кого он пригласил или заманил туда, были замурованы навсегда – ну или по меньшей мере на тот срок, пока сохранно было зеркало.
Холм родился в самом начале семнадцатого века и с огромным знанием дела и успехом занимался ремеслом стеклодува и формовщика в Копенгагене. Изготовляемые им большие зеркала, настоящие произведения искусства, всегда были в большом почете. Но тот же самый смелый ум, который сделал Холма первым стекольщиком Европы, помог ему перенести свои интересы и амбиции далеко за пределы сугубо материального мастерства. Окружающий мир раздражал его ограниченностью человеческих знаний и возможностей. В конце концов Холм стал искать темные пути преодоления этих ограничений и достиг гораздо большего, чем дозволительно любому смертному, успеха в своих поисках.
Он стремился вкусить истинной вечности – и зеркало было его средством достижения цели. Серьезному изучению четвертого измерения положил начало далеко не Эйнштейн в нашем веке, а Холм – в семнадцатом, и именно Холм в ходе своих изысканий открыл, что в случае физического вхождения в скрытую фазу пространства можно предотвратить смерть в принципе. Заключив, что явление оптического отражения открывает универсальный вход во все измерения пространства, помимо наших обычных трех, Холм приложил нечеловеческие усилия к розыску очень редкого и древнего артефакта – хроматического отражающего стекла, или, скорее, стекольного фрагмента, в определенных трудах означенного как «Око Локи[8 - Бог хитрости и обмана в скандинавско-германской мифологии.]». И удача, как очевидно, улыбнулась ему. Исследовав Око в соответствии с предусмотренным им методом, Холм проникся осознанием того, что жизнь в смысле сохранения формы и сознания будет продолжаться практически вечно в открывшемся ему Зазеркалье – при условии, что сам рефлектор будет бесконечно долго предохранен от поломки или порчи.
И Холм сделал великолепное зеркало, высоко оцененное и бережно хранимое, и в него ловко вплавил добытое алхимическое Око Локи. Подготовив таким образом свое убежище – и свою западню, – он начал планировать способ перехода и условия проживания. Он хотел иметь при себе как слуг, так и товарищей, и в качестве начала эксперимента послал вперед себя двух надежных негритянских рабов, привезенных из Вест-Индии. Какими должны были быть его ощущения при виде этой первой конкретной демонстрации правоты его теорий? Я могу лишь гадать.
Несомненно, человек его знаний понимал, что отсутствие во внешнем мире, если оно откладывается за предел естественной продолжительности жизни тех, кто находится внутри, должно означать мгновенный телесный распад при первой же попытке вернуться в наш мир. Но если зеркало останется целым, его пленники пребудут навсегда такими, какими они были во время входа. Они никогда не состарятся и не будут нуждаться ни в пище, ни в питье.
Чтобы сделать свою западню более сносной, Холм переправил в Зазеркалье библиотеку и письменные принадлежности, прочно сработанную мебель и другие предметы привычной ему обстановки. Он знал, что образы, которые отразит стекло, не будут осязаемыми, а просто будут простираться вокруг него, как фон сна, поэтому и провел подобную подготовку. Его собственный переход в 1687 году был знаменательным событием и сопровождался чувством триумфа, смешанного с ужасом. Если бы в планы вмешалось что-то непредвиденное, Холм мог навеки затеряться в темных и непостижимых множественных измерениях.
В течение более чем полувека ему не удавалось пополнить свою скудную компанию рабов, но позже он усовершенствовал свой телепатический метод визуализации небольших участков внешнего мира вблизи зеркала – и привлечения определенных людей в эти области посредством Ока Локи. Таким образом Роберт, под влиянием желания надавить на «проход» рукой, был заманен внутрь. Такие визуализации полностью зависели от телепатии, поскольку никто внутри зеркала не мог видеть того, что происходило за его пределами.
По правде говоря, Холм и его компания вели странную жизнь за стеклом. Поскольку зеркало простояло целое столетие, обращенное лицевой стороной к пыльной каменной стене сарая, где я его нашел, Роберт был первым существом, вошедшим в этот Лимб за предолгие годы. Его прибытие было торжественным событием, так как он принес известия из внешнего мира, которые, должно быть, произвели самое поразительное впечатление на слушателей. Да и самому мальчишке было не по себе от знакомства с людьми, жившими в семнадцатом и восемнадцатом веках.
Можно лишь весьма смутно представить себе ту убийственную монотонность, которой характеризовалась жизнь этих заключенных. Как уже упоминалось, все окружавшие их виды сводились к довольно ограниченному числу пейзажей и интерьеров, которые были когда-либо отражены старинным зеркалом за весь период его существования; многие из них из-за пагубного воздействия тропического климата на зеркальную поверхность стали размытыми и непонятными. Некоторые, однако, сохранили яркость и красоту; именно на их фоне компания любила собираться вместе. Но все же ни один из тех видов нельзя было назвать безупречным, ибо даже хорошо видимые предметы отличались безжизненной неосязаемостью и неприятно озадачивали своими подчас приводящими в недоумение свойствами. И когда мир зеркальной западни погружался в тягостный мрак, его обитатели, за неимением лучшей доли, терзались зацикленной ностальгией, предавались думам и беседам – неизменным с того самого дня, как стали невосприимчивы к влиянию хода времени во внешнем мире сами пленники.
Неодушевленные предметы в Зазеркалье можно было перечесть по пальцам – по факту, их число ограничивалось вещами, которые Холм заготовил для себя, да еще той одеждой, что была на узниках. За исключением датчанина, все они обходились без кроватей; впрочем, те не были им нужны, ибо сон и усталость были им точно так же неведомы, как голод или жажда. Неорганические вещества и изготовленные из них вещи были в одной степени с органикой предохранены от распада. Низшие формы животной жизни полностью отсутствовали.
Большинство сведений Роберт почерпнул у герра Тиле, того самого господина, который говорил по-английски со скандинавским акцентом. Дородный датчанин быстро привязался к мальчику и все свое время проводил в беседах с ним; да и другие узники полюбили Роберта всей душой, и даже сам Аксель Холм благоволил ему – именно от него мальчик узнал многое о природе западни и о способе входа в нее. И все же Роберт благоразумно не вступал со мною в телепатическую связь, если Холм находился неподалеку. Дважды во время нашего общения в поле зрения возникала фигура датчанина – и Роберт, не колеблясь, тут же замолкал.
Общаясь с Робертом, я не видел того мира, в который он попал. Его зримый образ был соткан из контуров телесной оболочки и облегавшей ее одежды и представлял, подобно акустическому рисунку его прерывистого голоса для меня и моему зрительному образу для него, типичный пример телепатической передачи информации, иного процесса в сравнении с обычным зрительным восприятием трехмерных физических тел. Если бы Роберт был таким же сильным телепатом, как Холм, он наверняка мог бы передать несколько сильных образов в отдельности от образа своей непосредственной персоны.
В течение всего этого периода откровений я отчаянно пытался найти способ спасения Роберта. На четвертый день – девятый после исчезновения мальчика – решение нашлось. С учетом всех обстоятельств разработанный мною план отличался простотой, несопоставимой с затраченными на него усилиями… и полной непредсказуемостью последствий, которые – в случае неудачи – могли быть совершенно непоправимыми. План зиждился в основном на том знании, что выхода из Зазеркалья как такового не существует. Если Холм и его пленники были навсегда запечатаны, то освобождение должно было прийти полностью извне. Другие соображения затрагивали судьбу остальных заключенных, если таковые оставались в живых при переходе, и особенно – судьбу Акселя Холма. То, что Роберт рассказал мне о нем, было далеко не обнадеживающим, и я, конечно же, не желал, чтобы он свободно разгуливал по моим покоям, вновь обретя свободу изъявлять свою волю миру. Телепатические послания не вполне прояснили эффект освобождения для тех, кто вошел в зеркало целые века назад.
Кроме того, существовала еще одна, хотя и незначительная, проблема в случае успеха – как вернуть Роберта в рутину школьной жизни без сумасбродных объяснений? Даже мне правда казалась безумной всякий раз, когда я позволял своему разуму отвлечься от картины, столь убедительно обрисованной в нескольких насыщенных сновидениях.
Обдумав план и решив, что игра всяко стоит свеч, я принес из школьной лаборатории большое увеличительное стекло и тщательно изучил каждый квадратный миллиметр центра зеркала, ответственного за вихреобразную иллюзию. По всей вероятности, центр этот и был фрагментом старинного стекла, что использовал Холм для перехода в свою западню. Но даже так я не мог поначалу выявить границу между старым и новым зеркалами. У меня ушли часы на то, чтобы отметить границу оправы Холма и обвести мягким синим карандашом – фигура, получившаяся в итоге, представляла собой почти правильный овал. После этого я съездил в Стэмфорд, где приобрел стеклорез. С его помощью я намерен был изъять колдовской участок стекла из его более позднего обрамления.
Вслед за тем я выбрал оптимальное время суток для проведения эксперимента, исход которого должен был решить судьбу Роберта, остановившись на половине третьего ночи.
Во-первых, столь поздний час был надежной гарантией моего полного уединения, а во-вторых, время это выступало «зеркальным» по отношению к половине третьего пополудни, времени предполагаемого перехода Роберта. Противоположность такого рода, вполне возможно, и не имела никакого значения, но чутье подсказывало мне, что я на верном пути.
Наконец, на одиннадцатый день после исчезновения, рано утром, задернув все шторы в гостиной и заперев дверь в прихожую, я принялся за работу. Затаив дыхание, я установил на синей карандашной отметке резец и провел пробную линию. Старое зеркало полудюймовой толщины хрустело под твердым равномерным давлением, и, завершив круг, я обошел его во второй раз, еще глубже вдавливая резец в стекло.
Затем, соблюдая предельную осторожность, я снял тяжелое зеркало со столика, где оно стояло все это время, и прислонил его лицевой стороной к стене, отодрав пару тонких узких полосок, прибитых к задней стенке. Аккуратно стукнул ручкой стеклореза по прорезанному участку – и первого же удара оказалось достаточно, чтобы овальный фрагмент вывалился из оправы на застилавший пол бухарский ковер.
Признаться, столь скорый успех застал меня врасплох. Я не знал, что может случиться, но был готов ко всему и невольно сделал глубокий вдох. В эту минуту я удобства ради стоял на коленях, приблизив лицо к только что проделанному отверстию, – и в ноздри мне ударил сильный затхлый смрад, не сравнимый ни с каким другим из всех изведанных. В глазах тут же посерело; я почувствовал, что меня подавляет невидимая сила, лишающая мои мышцы способности функционировать. Помню, как слабо и тщетно ухватился за край ближайшей оконной драпировки – та сорвалась с крючка, и я распластался на полу без сознания.
Очнувшись, я обнаружил, что лежу на бухарском ковре, а мои ноги кем-то задраны вверх. Комната была полна того отвратительного и необъяснимого запаха, и когда мои глаза начали воспринимать определенные образы, я увидел, что передо мной – Роберт Грандисон собственной персоной. Именно он – во плоти, с нормальным цветом кожи – держал меня за ноги, чтобы кровь прилила к голове, как учили его на курсах оказания первой медицинской помощи людям, потерявшим сознание. На мгновение я лишился дара речи – как от стоящего зловония, так и от растерянности, которая быстро переросла в чувство торжества; затем я обнаружил, что могу шевелиться и даже говорить.
Подняв руку, я дал Роберту слабую отмашку.
– Довольно, старина… бросай меня. Большое спасибо. Кажется, я снова в порядке. Этот запах… думаю, он меня и свалил. Открой самое дальнее окно – пошире, да, вот так. Шторы не отодвигай. Спасибо тебе.
Я тяжко поднялся на ноги, чувствуя, как мое нарушенное кровообращение понемногу восстанавливается, и выпрямился, опершись на спинку ближайшего стула. Я все еще был не в себе, но дуновение свежего, пронизывающе холодного воздуха из окна быстро привело меня в чувство. Сев в большое кресло, я посмотрел на Роберта.
– А где остальные? – спросил я. – Где сам Холм? Что с ними стало?
Роберт замер и очень серьезно посмотрел на меня.
– Их нет, мистер Каневин. Я видел, как они все исчезли. Там, в этом зеркале… ничего не осталось больше. – Поддавшись нахлынувшим чувствам, мальчишка зашмыгал носом. Тут я нашел в себе силы принести ему плед, сел рядом, успокаивающе положил руку ему на плечо.
– Все в порядке, старина, – заверил я его.
Внезапный и вполне естественный срыв миновал так же быстро, как начался, когда я заговорил с ним о своих планах относительно его спокойного возвращения в школу. Интерес к ситуации и необходимость скрыть невероятную правду под рациональным объяснением завладели его воображением, как я и ожидал, и наконец он стал поспешно пересказывать все подробности своего освобождения. Когда я ломал стекло, он находился в «проекции» моей спальни, и в тот самый момент, когда западня была разъята, оказался в реальной трехмерной комнате – не успев до конца осознать собственное освобождение. Услышав, как я падаю в гостиной, он вбежал туда – и нашел меня на коврике в обмороке.
Я не стану слишком подробно останавливаться на той инсценировке, которую устроили мы с Робертом, чтобы скрыть от общественности истинную картину его исчезновения. Скажу только, что ранним утром усадил мальчика в машину, отъехал на порядочное расстояние от школы и, повторив по пути выдуманную мною легенду, вернулся обратно, чтобы разбудить Брауна новостью о находке. Я объяснил ему, что в день исчезновения Роберт гулял один, и двое молодых людей предложили ему прокатиться на автомобиле, а потом, несмотря на все протесты и заверения в том, что он не может ехать дальше Стэмфорда, повезли его дальше. Роберту все же удалось ускользнуть от них, когда машина остановилась из-за какой-то поломки; скрывшись от похитителей, он стал ловить на дороге попутку, надеясь поспеть к вечерней перекличке, и по неосторожности попал под автомобиль. Ясный ум вернулся к нему лишь десять дней спустя – в доме того водителя, под колесами чьей машины он оказался. Тут же, посреди ночи, мальчик сделал звонок в школу, и я, будучи единственным, кто не спал в столь поздний час, не тратя время на извещения третьих лиц, приехал и забрал его.
Браун, тотчас же позвонивший родителям Роберта, принял рассказ без всяких вопросов и не стал расспрашивать мальчика из-за явного истощения последнего. Было решено, что он останется в школе на некоторое время; жена Брауна, в прошлом сестра милосердия, взялась ухаживать за ним до приезда родителей. Естественно, я часто виделся с ним во время рождественских каникул и таким образом смог заполнить некоторые пробелы в отрывочной истории, изложенной им телепатически.
Время от времени мы почти сомневались в реальности того, что произошло, задаваясь вопросом, не были ли мы оба охвачены каким-то чудовищным заблуждением, порожденным оптико-гипнотическим качеством зеркала, не была ли история о поездке и несчастном случае, в конце концов, настоящей правдой? Но всякий раз от сомнений одно чудовищно-навязчивое воспоминание возвращало нас к вере: меня – образ Роберта во сне, его хриплый голос и цвет кожи, обращенный в негатив; его – фантастическое великолепие жителей прошлых веков и безжизненных сцен, свидетелем коих он был. Ну и сверх всего – наше общее воспоминание о мертвецком смраде, хлынувшем из прореза в зеркале, сопровождавшем мгновенный распад тех, кто вошел в иное измерение столетие и более назад.
Есть, кроме того, по крайней мере две линии более убедительных свидетельств; одна из них приходит через мои исследования в датских анналах, касающихся Акселя Холма. Такой человек действительно оставил много следов в фольклоре и письменных свидетельствах; и усердные библиотечные поиски вкупе с письмами, написанными мною нескольким датским краеведам, пролили гораздо больше света на его дурную славу. Копенгагенский мастер дел стекольных, родившийся в 1612 году, слыл известным чернокнижником, чье исчезновение с лица земли служило предметом благоговейных дебатов более двух столетий назад. Он горел желанием познать все сущее и преодолеть все ограничения человечества – и с этой целью с самого детства углублялся в оккультные и запретные учения. У него были довольно странные интересы и цели, неизвестные досконально, но общепризнанные недобрыми. Известно, что два его негритянских помощника, первоначально рабы из датской Вест-Индии, стали немыми вскоре после того, как он их приобрел, и что они исчезли незадолго до того, как он сам канул незнамо куда.
К концу и без того предолгой жизни ему, видимо, пришла в голову идея о достижении «зеркального бессмертия». Откуда к нему попал ключевой компонент задуманного проекта, ходили самые разные слухи. Утверждалось даже, что он выкрал его из иностранного музея под предлогом проведения полировки и реставрации. Артефакт, согласно народному эпосу, столь же могущественный в своем роде, как более известные Эгида Минервы и Молот Тора, представлял собой овальный лист из отполированного легкоплавкого минерала и назывался Оком Локи. Ему приписывали «стандартные» магические свойства вроде способности видеть врагов владельца или предсказывать ближнее будущее, но в том, что свойства его могут быть гораздо более невероятными, не сомневался почти никто из оккультных знатоков, многих из которых всполошила весть о попытках Холма создать на основе Ока Локи зеркало большого размера. Но Холм исчез в 1687 году, и все его наследство – то, что удалось найти, ведь какая-то его часть тоже исчезла, – было распродано по всему свету. История, казалось бы, из числа небылиц, но для меня она – прямое подтверждение всех ошеломляющих чудес, что испытали на себе я и Роберт Грандисон.
Но, как я уже упомянул, в моем распоряжении имеется еще одно доказательство нашей правоты, доказательство совершенно иного характера. Через два дня, когда Роберт, заметно окрепший, сидел в моей гостиной и бросал поленца в камин, я приметил некую неловкость в его движениях – и был поражен одной догадкой. Подозвав его к своему столу, я попросил его взять чернильницу – и почти не удивился, заметив, что, несмотря на праворукость, он сделал это левой рукой. При помощи стетоскопа мисс Браун я установил, что и сердце бьется у него с правой стороны, – и некоторое время не говорил ему об этом открытии.
Он вошел в зеркало праворуким, с обычным расположением внутренних органов – но возвратился уже левшой, с «отзеркаленным» строением, и таким, думаю, и останется на всю жизнь. Очевидно, переход в другое измерение не был иллюзией – ибо физические изменения Роберта были ощутимы и безошибочны. Если бы существовал естественный выход из чрева зеркала, Роберт, вероятно, подвергся бы тщательному обратному обращению и появился бы в совершенной нормальности. Насильственный характер его освобождения сотворил парадокс своего рода, и если обратные частоты спектральных волн успели смениться на изначальные, вернув цвет кожи и одежды, то с пространственным расположением предметов этого, увы, не произошло.
Я не просто открыл западню Холма – я разрушил ее, и на какой-то определенной стадии ее краха, совпавшей с моментом выхода Роберта наружу, часть свойств инвертированного мира утратилась. Замечу, что во время выхода из зеркала Роберт не испытал тех болезненных ощущений, что сопровождали вход в Зазеркалье. Будь раскрытие западни еще более резким – меня невольно коробит мысль о том, каково было бы мальчику жить со столь жутким цветом кожи, ведь инвертированная цветовая гамма не успела бы обратиться в нормальную. Кстати, не только сердце и другие внутренние органы у Роберта сместились в противоположную сторону – то же коснулось и деталей его одежды, таких как карманы или пуговицы.
Ныне Око Локи хранится у меня дома, ибо я не стал вправлять его обратно в старинное зеркало, от которого я избавился. Оно покоится на моем письменном столе, выполняя роль пресс-папье – здесь, в Сент-Томасе, почтенной столице датской Вест-Индии, которую сейчас величают Американскими Виргинскими островами. Различные ценители старины ошибочно принимают его за причудливый образец американского стекольного антиквариата примерно вековой давности. Но мне-то известно, что Око Локи – плод искусства несоизмеримо более древнего и высокого, но не вижу абсолютно никаких причин разубеждать мою энтузиастично настроенную публику.
Йигов сглаз
В одна тысяча девятьсот двадцать пятом году я прибыл в штат Оклахома в качестве этнографа, воодушевленного культом змей; покинул же я эту местность, питая к ползучим рептилиям страх, что будет со мной до конца дней. Вся безосновательность фобии предельно ясна мне, ведь наверняка существуют разумные логические объяснения всему услышанному и увиденному мною, но даже им не под силу ее, эту фобию, устранить хотя бы частично.
Возможно, история Йигова сглаза не наложила бы на меня столь сильный отпечаток, не будь у нее определенных этнографических оснований. По природе своей работы я привык относиться к причудливым поверьям американских индейцев скептически – чего не скажешь о простых людях, куда более легковерных, чем их краснокожие собратья, в тех областях, что принято называть непознанными. Но до сих пор перед глазами у меня стоит то последнее видение – существо, запертое в палате психиатрической лечебницы в Гатри.
Стоит сказать, лечебница сразу привлекла мое внимание, так как о ней и ее обитателях ходили прелюбопытнейшие слухи у местных старожилов. Ни белые, ни индейцы ни разу не упоминали Великого Змея Йига напрямую, а ведь именно этого персонажа легенд я начал вплотную изучать. Новые поселенцы, приехавшие сюда в период нефтедобычи, разумеется, ничего не знали об этом мифе, а краснокожие и старые первопроходцы были явно напуганы моими попытками разговорить их. Но несколько человек все же упомянули лечебницу – да и то снизойдя до боязливого шепота. До моего сведения довели, что некий доктор Макнил мог бы удовлетворить мое любопытство; более того, кое-кто из пациентов представляет из себя нагляднейшее подтверждение истинности всего того, что доктор мог бы мне рассказать. По итогу двух знакомств я бы мигом понял, почему же к Йигу, Змею-и-Человеку, питают столь сложную смесь боязни и почитания в самом сердце Оклахомы, и почему первопоселенцев ввергают в дрожь традиционные индейские ритуалы, полнящие осенние дни и ночи угрюмым неумолчным барабанным боем, раскатывающимся над пустошами и полями.
Я прибыл в Гатри в приподнятом расположении духа, словно взявшая след гончая, – ибо не один трудный год ушел у меня на картографирование и прослеживание эволюционной динамики культа Великого Змея среди индейских племен. Моя теория заключалась в том, что великий и могучий Кетцалькоатль мексиканцев имеет гораздо более древнюю и не столь милостивую предтечу. В течение последних месяцев я был весьма близок к ее доказательству – тому способствовали результаты исследований, охватывавших пространство от Гватемалы до оклахомских равнин. Но чем дальше я продвигался в познании тайны, тем больше мешала мне липкая и беспросветная завесь страха и секретности. Теперь же мне намекали на новый, обнадеживающий источник информации, и я, подстегиваемый азартом и простым природным любопытством, отправился к загадочной лечебнице.
Доктор Макнил оказался обладателем почтенной лысины и невысокого роста; его речь и манеры выдавали в нем человека благородного происхождения и энциклопедического ума. Когда я сообщил о цели своего визита, на серьезном лице доктора отразилось сомнение. Но постепенно ему на смену пришло выражение задумчивости. Он изучил мое удостоверение Королевского этнографического общества и верительное письмо, любезно предоставленное одним отставным военным интендантом.
– Значит, вы исследуете легенду о Йиге? – спросил он, закончив с просмотром бумаг. – Многие этнологи-любители Оклахомы пытались породнить его с Кетцалькоатлем, да только не думаю я, что удача подбросила им все звенья связующей цепи. Вы провели солидную работу для столь молодого исследователя. Вы не похожи на простого любопытствующего, и, похоже, все эти рекомендации – не пустой звук.