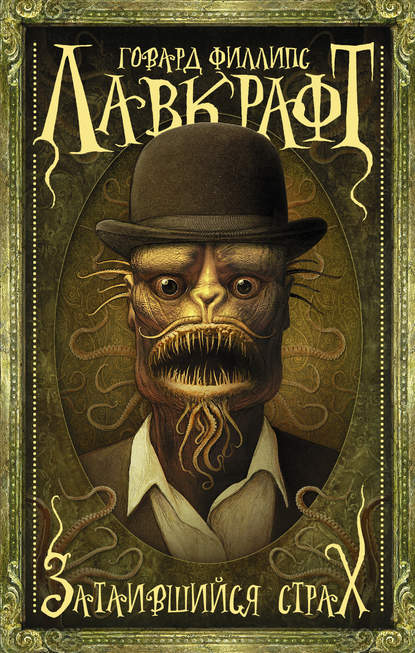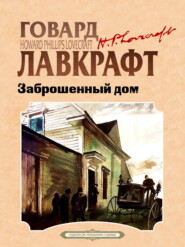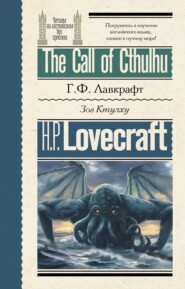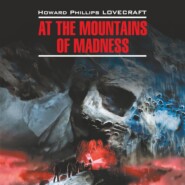По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Затаившийся страх (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Именно в огромном привратном храме была обнаружена диоритовая статуя Хефрена в полный рост, находящаяся теперь в Каирском музее; впервые узрев ее, я застыл перед нею в трепете. Не знаю, раскопано ли к настоящему времени все сооружение, но в 1910 году большая часть его еще была укрыта землей, а на ночь вход надежно запирался. Работой ведали немцы, и, возможно, их остановила война или нечто другое. С учетом пережитого мной, а также ходящих среди бедуинов слухов, не встречающих доверия или неизвестных в Каире, мне хотелось бы узнать, что было обнаружено в связи с неким колодцем в поперечной галерее, где были найдены статуи фараонов, любопытным образом противопоставленные изваяниям павианов.
Дорога, по которой несли нас верблюды, резко огибала расположенные слева деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и уходила на юг и восток полным поворотом, обращая нас лицом к пустыне с подветренной стороны Великой Пирамиды. Мимо циклопической кладки ехали мы, огибая восточный фас над долиной малых пирамид, за которой на востоке поблескивал вечный Нил, а на западе жаром мерцала столь же вечная пустыня. Над нами возвышались три великие пирамиды, самая крупная из которых давно была лишена внешней облицовки и являла ряды огромных камней кладки, однако на остальных облицовка кое-где сохранилась, напоминая о том законченном виде, который она имела в свой день.
Наконец мы спустились к Сфинксу и сели в безмолвии под жутким взглядом его незрячих глаз. На громадной каменной груди мы едва различили эмблему Ра-Хорахти, за изображение которого Сфинкса ошибочно принимали в позднее династическое время; и хотя песок засыпал плиту, находящуюся между огромными лапами, мы вспомнили, что начертал на ней Тутмос IV, и о сне, который он видел еще до восшествия на престол. Именно в этот момент улыбка Сфинкса начала смутно раздражать нас, напоминая про легенды о подземных переходах под чудовищным изваянием, уводящих вниз, вниз, вниз, в глубины непостижимые, намекающие на тайны куда более древние, чем раскопанный нами династический Египет, связанные с доселе влачащимся бытием необычайных обладателей звериных голов – богов древнего египетского пантеона. Тут я и задал себе праздный вопрос, точному значению которого предстояло проявиться лишь по прошествии многих часов.
Нас уже догоняли другие туристы, и потому нам пришлось перейти к находившемуся в пяти десятках ярдов к юго-востоку от нас засыпанному песком храму Сфинкса, который я выше назвал великими вратами дороги к погребальному храму Второй пирамиды. Большая часть его по-прежнему находилась под землей, и хотя мы спешились и спустились по современному ходу в ее алебастровый коридор и многостолпный зал, я почувствовал, что Абдул и местный немец-служитель не показали нам всего, что можно было увидеть.
После этого мы, как положено, совершили обход плато, осмотрев Вторую пирамиду и расположенные к востоку замечательные руины ее погребального храма, Третью пирамиду вместе с ее миниатюрными спутниками, разрушенный восточный храм, щербатые сооружения Четвертой и Пятой династий и знаменитую гробницу Кэмпбелла, чья темная шахта опускается отвесно на пятьдесят три фута к зловещему саркофагу, который один из наших верблюжьих погонщиков очистил от лишнего песка, ловко спустившись к нему по веревке.
Теперь до нашего слуха донеслись вопли от Великой Пирамиды, где бедуины осаждали группу туристов предложениями ускорить индивидуальный подъем и спуск обратно. Говорят, что подобное мероприятие можно проделать за семь минут, однако многочисленные алчные шейхи и сыновья шейхов уверяли нас в том, что они могут урезать это время до пяти минут, если посодействовать для этой цели щедрым бакшишем. Стимула этого они не получили, но Абдул повел нас наверх, таким образом открывая перед нами полный беспрецедентного великолепия вид, одаривший нас не только зрелищем далекого сверкающего Каира с венчающей его цитаделью на фоне золотисто-фиолетовых холмов, но и на все пирамиды мемфисского района, от Абу Роаш на севере до Дашура на юге. Очертания ступенчатой пирамиды Саккары, отмечающей собой этап эволюции невысокой мастабы к подлинной пирамиде, заманчиво маячили в песчаной дали. Знаменитая гробница Пернеба была обнаружена ближе к этому этапному сооружению – более чем в четырех сотнях миль к северу от фиванской скалистой долины, в которой почивает Тутанхамон. И вновь благоговейный трепет заставил меня замолчать. Перспектива подобной древности и тайны, которыми был полон каждый задумчивый монумент, наполнили меня почтением и таким ощущением величия, как ничто другое.
Утомленные подъемом и назойливыми бедуинами, поступки которых во всем противоречили правилам хорошего тона, мы отказались от тяжелого и многотрудного дела посещения внутренностей пирамид, хотя успели заметить нескольких среди самых закаленных туристов, готовящихся к удушливому путешествию по недрам великого мемориала Хеопса. Переплатив нашему местному телохранителю и отпустив его, мы возвращались в Каир под вечерним солнцем в обществе Абдула Реиса, уже едва не сожалея о своем отказе – такие удивительные слухи ходили о коридорах под пирамидами, не обозначенных в путеводителях, – ходах, спешно заложенных и сокрытых неразговорчивыми археологами, обнаружившими и эксплуатировавшими их.
Конечно, по правде говоря, шепотки эти были во многом безосновательными; однако любопытство вызывал уже тот факт, что туристам настойчиво запрещалось посещать пирамиды по ночам, а также спускаться в нижние ходы и крипту Великой Пирамиды. В последнем случае власти, быть может, опасались психологического эффекта – когда человек мог почувствовать себя раздавленным целым миром твердого камня, оставаясь соединенным с известным ему миром узким ходом, по которому можно только ползти и который легко может перекрыть несчастный случай или злой умысел.
Вопрос этот показался нам настолько интересным, что мы решили нанести еще один визит к пирамидам при первой же возможности. И возможность эта посетила меня много раньше, чем я ожидал.
В тот вечер члены нашей группы ощутили утомление после напряженной дневной программы, а я в компании Абдула Реиса отправился на прогулку по живописному арабскому кварталу. Хотя я успел повидать его днем, мне было интересно познакомиться с переулками и базарами в сумерках, когда густые тени и сочные проблески света добавляют очарования фантастической иллюзии. Туземная толпа редела, однако по-прежнему оставалась очень шумной и многочисленной, когда мы наткнулись на кучку веселящихся бедуинов, расположившихся на Сукен-Наххасин, или базаре медников. Явный глава этой группы, высокомерный юноша с тяжелыми чертами лица и в дерзко сдвинутой феске, обратив на нас некоторое внимание, без особой приязни узнал моего компетентного, но явно надменного и склонного к насмешке проводника.
Быть может, подумал я, ему не понравилась странная копия почиющей на лице Сфинкса полуулыбки, которую я частенько отмечал с удивлением и некоторым раздражением; или же ему не понравились отголоски гулкого и замогильного голоса Абдула. Во всяком случае оскорбительный обмен словами быстро обретал ярость; и как только Али-Зиз, так мой проводник называл незнакомца в промежутке между оскорбительными эпитетами, яростно вцепился в одеяние Абдула, тот немедленно последовал данному примеру, и в результате начавшейся стычки оба соперника потеряли свои освященные обычаем головные уборы и, наверно, перешли бы к еще более жесткому противостоянию, если бы я не вмешался и не разделил их с помощью силы.
Мое вмешательство, поначалу воспринятое как нежелательное обеими сторонами, тем не менее привело к заключению перемирия. Оба угрюмых воителя сдержали свой гнев, поправили одеяния и с выражением достоинства столь же глубокого, сколь и внезапного, заключили любопытный и полный высшей достоинства пакт, который, как я скоро узнал, уходит своими корнями в весьма древние времена и требует улаживания разногласий ночным кулачным поединком на вершине Великой Пирамиды после того, как окрестности ее покинет последний любитель лунного света. Каждый дуэлянт имел право привести с собой отряд секундантов, и самым цивилизованным образом предусматривавшее несколько раундов действо должно было начаться в полночь. Во всем предстоящем событии было нечто, весьма заинтересовавшее меня. Уникальный характер предстоящей драки сулил зрелищность; в то же время мысль, что все это будет происходить под бледной убывающей луной на седой глыбе, возвышающейся над допотопным плато Гизе, будила в моей душе все фибры воображения. Высказанная мной просьба позволила установить, что Абдул просто мечтал включить меня в свой отряд секундантов; так что все начало вечера я сопровождал его по различным притонам в самой беззаконной части города – по большей части к северо-востоку Езбекие, – где он собрал по одному внушительную шайку избранных и родственных ему головорезов, готовых послужить фоном для кулачного поединка.
Сразу же после девяти наш отряд, водрузившись на ослов с такими царственными или значимыми для туристов именами как Рамзес, Марк Твен, Джи-Пи Морган и Миннегага, протиснулся по узким уличным лабиринтам как восточного, так и западного образца, пересек мутный Нил, над которым поднимался лес мачт, и философической рысью между рядами леббакхов потрусил по дороге к Гизе. На путешествие ушло чуть более двух часов, и, завершая его, мы наткнулись на последнюю группу возвращавшихся от пирамид туристов, отсалютовали последнему трамваю и остались наедине с ночью, прошлым и призрачной луной.
Тут наконец в конце дороги показались гигантские пирамиды, призрачные, чреватые некоей неявной атавистической угрозой, которой в дневное время я не заметил. Даже в самой малой из них угадывался намек на нечто жуткое – ибо разве не в ней заживо похоронили царицу Нитокрис во времена Шестой династии… хитроумную царицу Нитокрис, пригласившую однажды всех своих врагов на пиршество в подземный, расположенный под Нилом храм и утопившую их, открыв водяные затворы? Я вспомнил, что арабы разное рассказывали о Нитокрис и при некоторых фазах луны избегали посещать Третью пирамиду. Должно быть, о ней размышлял Томас Мур, записавший предание мемфисских лодочников: «Подземная нимфа, чей дом в славе и злате сокрыт, не ведающая солнца госпожа Пирамид!»
При всем том, что мы не медлили, Али-Зиз и его спутники опередили нас; и мы увидели очертания их ослов на фоне пустынного плато у Кафрель-Харам, нищего, соседствующего со Сфинксом арабского поселения, к которому мы отклонились вместо традиционного маршрута, следующего к дому Мины, около которого сонные и бездеятельные полицейские могли бы заметить и остановить нас. Здесь, пока грязные бедуины размещали своих верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных Хефрена, нас повели вверх по скалам и по песку к Великой пирамиде, на истертых временем сторонах которой уже копошились арабы, и Абдул Реис предложил мне помощь, в которой я не нуждался.
Как известно большинству путешественников, подлинную вершину этого сооружения давно уже съело время, оставив относительно плоскую платформу в виде квадрата со стороною двенадцать ярдов. На этой жуткой площадке образовался кружок, и через несколько мгновений ехидная пустынная луна с усмешкой уставилась на баталию, которая, если не считать качества воплей «секундантов», вполне могла бы происходить в одном из мелких американских атлетических кружков. И наблюдая за ней, я ощутил, что в происходящем присутствуют и некоторые из наших наименее желанных институций; ибо каждый удар, выпад и защита казались ошеломляющими для моего неопытного взгляда. Поединок завершился с достаточной быстротой, и, невзирая на известную неприязнь к методам, я ощутил некую гордость собственника, когда Абдула Реиса провозгласили победителем.
Примирение оказалось феноменально быстрым, и посреди пения, братания и общей выпивки мне было трудно даже вспомнить о том, что все началось с ссоры. Как ни странно, я в большей степени ощущал себя центром внимания, чем былые бойцы; и если доверять моему знанию арабского, они обсуждали мои профессиональные выступления и умение избавляться от всякого рода оков и выбираться из тесных помещений в манере, не только обнаруживавшей удивительное знание моих достижений, но и заметную враждебность и сомнение в моих талаантах. И мне постепенно стало понятно, что древняя магия Египта исчезла не без следа и что обрывки неведомых и тайных познаний и жреческих культовых практик таинственным образом сохранились в среде феллахов в такой степени, которая позволяла им сомневаться в способностях странного волшебника-хахви и оспаривать их. И я припомнил, что мой гулкоголосый Абдул Реис похож на древнеегипетского жреца, а может быть, на фараона или улыбающегося Сфинкса… и крепко задумался.
И тут произошло нечто такое, что в мановение ока доказало правильность моих подозрений и заставило обругать себя за тупость, с которой я позволил себе воспринимать события этой ночи не как злоумышленный спектакль, которым они на деле являлись. Без всякого предупреждения и, вне сомнения, по тайному знаку, данному Абдулом, вся банда бедуинов набросилась на меня; после чего, достав из-под одеяний крепкие веревки, они связали меня настолько надежно и прочно, как мне никогда не случалось быть связанным во всей своей жизни – как на сцене, так и вне ее.
Сперва я сопротивлялся, однако скоро понял, что один человек не в состоянии противостоять банде более чем из двадцати жилистых варваров. Руки мои оказались связанными за спиной, колени прижали к груди, a запястья и лодыжки скрутили неподатливыми веревками. В рот мой втиснули удушающий кляп, a на глазах затянули плотную повязку. После этого арабы взвалили меня на плечи и начали неловкий спуск с пирамиды, и я услышал полные ехидства словеса моего так называемого проводника Абдула, с насмешкой и явным довольством в голосе уверявшего меня в том, что мои «магические» способности скоро будут подвергнуты высшему испытанию, которое собьет с меня всю спесь, накопившуюся за время триумфальных выступлений в Европе и в Америке.
Египет, напомнил он мне, очень стар и полон глубинных мистерий и древних сил, непостижимых даже для знатоков века сего, чьи ухищрения так и не смогли уловить меня.
В каком направлении и долго ли меня несли, сказать не могу, ибо мое положение никак не способствовало формированию сколь-нибудь точного суждения. Понятно мне только то, что далеко унести меня не могли, поскольку несшие меня люди ни разу не ускорили шаг, и все же держали меня на руках совсем недолго. И эта возмутительная краткость смущает меня более всего, когда я думаю о Гизе и этом плато – ибо мороз пробирает по коже при мысли о том, насколько близко находится то, что могло существовать и поныне существует, от повседневных туристических маршрутов…
Чудовищная аномалия, о которой я говорю, проявила себя не сразу.
Опустив меня на поверхность, в которой я признал скорее песок, чем камень, похитители обхватили мою грудь веревкой и проволокли несколько футов до неровного отверстия в земле, в которое меня и спустили без особого почтения к моей персоне. Целую вечность бока мои ударялись о неровные камни узкого колодца, который я принял за одну из многочисленных погребальных шахт плато, пока наконец невероятная, почти невозможная глубина его не лишила меня любых оснований для сравнения.
Ужас происходящего с каждой секундой приобретал новую силу. Представление о том, что спуск в недра прочной скалы может длиться очень долго, но так и не достичь центра самой планеты Земля, или что сделанная человеком веревка может казаться настолько длинной, чтобы опустить меня в нечестивые и бездонные недра нечистой земли, казалось настолько гротесковым, что легче было усомниться в свидетельствах моих возбужденных чувств, чем признать его. Даже теперь я не испытываю уверенности, ибо знаю, насколько искажается восприятие времени, когда ты находишься в столь затруднительном положении. Однако я уверен лишь в том, что в то время еще сохранял логическое сознание и не добавил к и без того жуткой реальной картине призраков, рожденных разгулявшимся воображением и объясняющихся мозговой иллюзией, граничащей с подлинной галлюцинацией.
Однако не это стало причиной моего первого обморока. Жуткое испытание только начиналось, и предчувствие грядущих ужасов становилось все более четким по мере спуска. Невероятно длинную веревку, на которой я висел, разматывали теперь очень быстро, и при движении вниз я жестоко ссаживал кожу об узкие и неровные стены шахты в своем стремлении вниз. Одежда моя порвалась, во многих местах я ощущал кровь на теле, а кроме того, острую и все возраставшую боль. Ноздрям моим докучала тем временем непонятная угроза: ползучий запах, сырой и затхлый, странным образом не похожий на все, которые мне приводилось ощущать прежде, но несущий в себе обертоны специй и благовоний, отдававших явной насмешкой.
И тут произошел умственный катаклизм. Жуткий, ужасный, неописуемый, ибо он целиком совершался в душе, не допускавший малейших деталей экстаз кошмарного призыва к бесам. Внезапность его была сразу апокалиптичной и демоничной – только что я несся вниз по узкому каменному жерлу, словно терзавшему меня миллионом зубов, а в следующий миг уже парил на перепончатых крыльях над безднами ада, свободно переносясь сквозь беспредельные мили безграничного и затхлого пространства, взмывая к не знающим измерения башням леденящего эфира, а затем обрушиваясь к вязким топям надиров жадного и тошнотворного нижнего вакуума… Благодарю Бога за милосердие, с которым Он отослал меня в забвение, избавившее меня от этих фурий сознания, едва не повредивших мой рассудок и подобно гарпиям терзавших мой дух!
Забвение это, при всей его краткости, вернуло мне силы и здравый смысл, позволившие выдержать те еще большие приступы космической паники, уже таившиеся и несшие свою околесицу впереди.
II
После бесовского полета через стигийское пространство сознание возвращалось ко мне очень постепенно. Процесс этот оказался бесконечно болезненным и раскрашенным фантастическими видениями, которым особо способствовало состояние моего тела – связанного и лишенного голоса. Точная натура этих видений была очень очевидной в момент переживания их, однако почти сразу после этого затуманилась в моей памяти, a вскоре от нее вообще осталось только воспоминание цепочки ужасных событий, воображаемых или реальных. Мне казалось, будто я побывал в жуткой огромной лапе; желтой, пятипалой и волосатой, высунувшейся из земли, чтобы захватить и раздавить меня. A когда я остановился, чтобы понять, что представляет собой эта лапа, мне показалось, что это Египет. В забвении я перенесся к событиям предшествовавших недель, и увидел, как меня понемногу обольщает тонкими и коварными кознями некий адский упырь, дух древнего египетского колдовства, дух, пребывавший в Египте до появления на земле человека и который останется здесь, когда человека не будет более.
Я увидел весь ужас и нечестивую древность Египта, тот грязный союз, в котором он пребывал всегда с гробницами и храмами мертвых. Я увидел призрачные процессии жрецов с головами быков, соколов, котов и ибисов, беспрепятственно проходящие по подземным лабиринтам и перспективам титанических пропилей, рядом с которыми человек уподобляется мошке; фантомные шествия, возносящие неназываемые приношения неописуемым богам. Каменные колоссы шествовали посреди бесконечной ночи, гоня перед собой стада ухмыляющихся человекосфинксов вниз, к берегам беспредельных рек стоячего дегтя. И за всем этим угадывалась несказуемая скверна первобытной некромантии, черной, аморфной, жадно шарящей по тьме за моей спиной в стремлении удушить дух, посмевший подразнить ее подражанием.
В спящем мозгу моем сложилась мелодрама злобной ненависти и погони, и я увидел черную душу Египта, выделившую меня среди прочих и зовущую к себе неслышными шепотами; призывающую и завлекающую меня, проводящую меня по блеску и великолепию сарацинской поверхности, но неизменно увлекающую вниз – в безумной древности катакомбы, к ужасам его мертвого, канувшего в бездну фараонического сердца.
Затем лики видения приняли человеческий облик, и я увидел своего проводника Абдула Реиса в царственном облачении и с насмешкой Сфинкса на лице. Тут я понял, что черты его были чертами самого Великого Хефрена, придавшего лику Сфинкса черты собственного лица и построившего Вторую пирамиду и тот титанический храм с мириадами коридоров, которые археологи якобы выкопали из таинственного песка и неразговорчивой скалы. И я посмотрел на длинную и худую, сухую руку Хефрена; длинную, тонкую и сухую руку диоритовой статуи, которую видел в Каирском музее, – статуи, которую нашли в том жутком привратном храме, – и удивился тому, что не закричал, увидев ее у Абдула Реиса… Эта рука! Жутко холодная, она давила меня; в ней ощущался хлад и тяжесть саркофага, весь холод и утеснение незапамятного Египта… Это был сам ночной, кладбищенский Египет… та желтая лапа… о Хефрене поговаривают такое…
Однако в данном месте я начал пробуждаться – или хотя бы входить в состояние менее сонное, чем то, что предшествовало ему. Я вспомнил поединок наверху пирамиды, коварных бедуинов и их нападение, жуткий спуск на веревке в недра бесконечной скалы и безумное погружение в хладную пустоту, благоухающую ароматичным тленом. Я ощутил, что лежу теперь на сыром каменном дне и что оковы мои, как и прежде, врезаются в мою плоть с неслабеющей силой. Было очень холодно, и я как будто бы почувствовал слабый ток докучливого ветерка, коснувшегося моего тела. Ссадины и ушибы, заработанные во время спуска по неровному жерлу, болели неимоверно, ощущение это усиливалось некоей колкой или жгучей ноткой в слабом сквозняке, и одного стремления просто перекатиться на другой бок было достаточно, чтобы тело мое пронзила невероятная боль.
Поворачиваясь, я ощутил сопротивление сверху, и заключил, что веревка, на которой меня спустили вниз, по-прежнему связывает меня с поверхностью. Не знаю, держали ли ее арабы в своих руках или нет; не имею и малейшего представления о том, насколько глубоко в недра земли меня опустили. Я ощущал, что меня окружала полная или почти полная тьма, поскольку повязку на глазах моих не пронзал ни единый лучик лунного света; однако я недостаточно доверял своим чувствам, чтобы без сомнений принять их свидетельство в том, что нахожусь на чрезвычайной глубине, как и в том, что спуск мой имел огромную длительность.
Во всяком случае, зная, что я нахожусь в пространстве, значительно удаленном от отверстия в поверхности земли наверху, я с некоторым сомнением пришел к выводу о том, что тюрьмой моей, должно быть, явился подземный храм старого Хефрена – Храм Сфинкса – или, быть может, какие-то внутренние коридоры его, которые мои проводники не показывали мне во время утреннего посещения и откуда я мог бы отыскать путь к спасению и выбраться на поверхность. Итак, меня ожидало скитание по лабиринту, впрочем, не более сложному, чем те, из которых мне уже случалось находить выход.
Первым делом следовало освободиться от веревок, кляпа и повязки на глазах; что, как я уже знал заранее, не должно было составить для меня особенного труда, поскольку более искусные знатоки, чем эти арабы, успели опробовать на мне всякие путы в течение моей долгой и разнообразной карьеры эскаписта, но так и не смогли преуспеть в опровержении моих методов.
Затем мне пришло в голову, что арабы могли приготовиться к новому нападению возле выхода из подземелья в случае моего вероятного избавления из пут, если его засвидетельствует веревка, которую они, вероятно, не выпускали из рук. Конечно же, при условии, что местом моего заточения и в самом деле был созданный Хефреном Храм Сфинкса. Прямое отверстие в своде пещеры, в каком бы укромном месте оно ни располагалось, не могло далеко отстоять от современного входа, находящегося вблизи Сфинкса; ни о каких существенных расстояниях не могло быть и речи, поскольку полную поверхность доступного посетителям участка трудно назвать колоссальной. Во время дневной экскурсии я не заметил ничего подобного, однако в сыпучих песках проглядеть такое нетрудно.
Обдумывая эти материи, оставаясь скрюченным и связанным на каменном полу, я почти забыл об ужасном спуске в преисподнюю, который недавно чуть не поверг меня в кому. Я думал только о том, чтобы перехитрить арабов и соответствующим образом освободиться, по возможности быстро, стараясь не потянуть за спущенную сверху веревку, способную засвидетельствовать об успешной или напрасной попытке освобождения.
Однако составить план действий оказалось много легче, чем освободиться. Несколько предварительных попыток показали, что без сильных движений не обойдешься; и после одной особенно энергичной из них я почувствовал, что вокруг меня и на меня начали падать сверху кольца веревки. Очевидным образом я решил, что бедуины заметили мои движения и сбросили вниз свой конец веревки, заторопившись, конечно, к подлинному входу в храм, чтобы залечь возле него с кровожадными намерениями в отношении меня.
Перспектива особой радости не сулила – однако в свое время мне приходилось без трепета встречать и худшие ситуации, и потому я не дрогнул. Сперва следовало выбраться из пут, а затем довериться собственной изобретательности, чтобы невредимым ускользнуть из храма. Забавно, как мне удалось убедить себя в том, что я пребываю в старом храме Хефрена, что находится возле Сфинкса не столь уж глубоко под землей.
Вера в это была разбита обстоятельством, ужас и значительность которого возрастали уже тогда, когда я составлял свой философический план, заново рождая все явные предчувствия противоестественной смерти и демонической тайны. Я уже говорил о том, что падающая веревка громоздилась на мне и вокруг меня. Теперь я увидел, что веревочная груда продолжала расти со скоростью, недоступной любой обыкновенной веревке. Падение ее ускорялось, превращаясь в пеньковую лавину, и скоро я оказался почти погребенным под быстро умножающимися и грудящимися все выше и выше кольцами. Вскоре я уже полностью утопал под ними и только пытался восстановить дыхание под новыми и новыми валящимися сверху петлями, погребавшими и удушавшими меня.
Тут чувства мои вновь пошатнулись, и я попытался отразить сразу и опасную и неизбежную угрозу. Дело было не просто в том, что меня мучили за пределами всякой человеческой меры, не в том, что из меня медленно выдавливали жизнь и дыхание, но в понимании того, что именно подразумевала эта сверхъестественная длина веревки, в осознании того, какие неведомые и неизмеримые земные бездны в данный момент окружают меня. Итак, мой бесконечный спуск и полет через это гоблинское пространство оказались реальными, и значит, в сей миг я лежал беспомощным в безымянной каверне, в глубинах мира. Столь внезапное подтверждение предельного сего ужаса было непереносимым, и я во второй раз погрузился в милосердное забвение.
Впрочем, забвение это не означало отсутствия сновидений. Напротив, исход мой из мира сознания сопровождался видениями, полными самой несокрушимой жути. Бог мой!.. Если бы только я не был настолько начитан в египтологии, прежде чем прибыть в эту землю, являющуюся источником всякой тьмы и ужаса! Этот второй обморок заново наполнил мое спящее сознание трепетным пониманием этой страны и ее древних секретов, и посредством некоего проклятого обстоятельства видения мои обратились к древним представлениям об усопших и их пребывании в душе и теле за пределами тех таинственных гробниц, которые являются скорее домами, чем могилами. Я вспомнил во всех подробностях видения, которые, к счастью, с тех пор забыл, причудливые особенности гробниц Египта и чрезвычайно тонкие и жуткие учения, определившие их конструкцию.
Все эти люди думали только о смерти и об усопших. Они верили в буквальное воскресение тела, что заставляло их мумифицировать плоть усопших со всей возможной осторожностью и сохранять их жизненно важные органы в кувшинах-канопах, находящихся возле тела, помимо которого, по их мнению, сохранялись два других элемента: душа, которая после взвешивания и одобрения Осирисом обитала в блаженном краю, и таинственный и удивительный жизненный принцип ка, жутким образом скитающийся между верхним и нижним мирами, требуя иногда доступа к сохраняемому телу, потребляя жертвенную пищу, приносимую жрецами и благочестивыми родственниками в погребальный храм, a иногда – как шептали люди – овладевая телом покойного или его деревянным двойником, которого всегда хоронили рядом, чтобы зловещим образом скитаться по делам особенно отвратительным.
Тысячи лет тела эти пребывали в великолепном покое своих гробов, обратив незрячий взор к небу, когда их не посещал ка, ожидая того дня, когда Осирис заново соединит ка и душу и изведет окоченевшие легионы усопших из подземных домов сна. Ожидалось славное возрождение – однако одобрения удостаивались не все души, не оставались в целостности и все гробницы, а посему следовало ожидать неких гротескных ошибок и адских аномалий. Даже в наши дни арабы шепчутся о неосвященных сборищах и святотатственном поклонении, творящихся в забытых потусторонних безднах, которые невозбранно могут посещать только незримые крылатые ка и бездушные мумии.
Должно быть, самые зловещие, самые створаживающие кровь легенды связаны с некоторыми извращенными продуктами впадшего в упадок жречества – составными мумиями, произведенными посредством искусственного соединения человеческих тел с головами животных в подобии древних богов. Священных животных мумифицировали на всех стадиях истории, и посему освященные быки, коты, ибисы, крокодилы и подобные им могли возвратиться однажды в великой славе. Но только в период упадка смели жрецы смешивать в одной мумии человеческое и животное – только в период упадка, когда перестали они понимать права и обязанности ка и души.
О том, что случилось с этими составными мумиями, не рассказывают – по крайней мере на людях – и не стоит удивляться тому, что пока ни один египтолог никогда не находил таковых. Впрочем, среди арабов ходят дикие шепотки, которым не следует доверять. Они даже намекают на то, что старый Хефрен – создатель Сфинкса, Второй пирамиды и зияющего подземного храма – живет в недрах земли в браке с упыркой-царицей Нитокрис и правит мумиями, которые не являются ни людьми, ни животными.
И именно их – Хефрена, его супругу и его странное войско составных мертвецов – видел я в своем видении, и вот почему я рад тому, что точные очертания их исчезли из моей памяти. Но самое жуткое видение было связано с праздным вопросом, который я задал себе вчера, когда рассматривал великую загадку пустыни и гадал, с какими неведомыми глубинами может быть тайно связан соседствующий с ней храм. Этот вопрос тогда, настолько невинный и причудливый, принял в моем видении облик френетического и истерического безумия: чьим огромным и скверным подобием первоначально являлся Сфинкс?
Второе мое пробуждение – если только можно назвать его таковым – явило мне картину откровеннейшей жути, с которой мне просто нечего сравнить за исключением той, другой, увиденной мною позже; a ведь жизнь моя была полна приключений, недоступных большинству мужчин. Вспомните, что я потерял сознание, ощутив себя погребенным под каскадом свалившейся сверху веревки, своим долгим падением открывшей мне катаклизмические глубины моего тогдашнего положения. Однако, когда восприятие вернулось ко мне, я ощутил, что тяжесть исчезла, а перекатившись на бок, оставаясь связанным, с кляпом во рту и повязкой на глазах, понял, что некая сила полностью удалила почти удушившую меня пеньковую груду. Значение этого факта, конечно, дошло до меня лишь постепенно; но даже при этом мне кажется, что я мог бы снова лишиться сознания, если бы к этому времени не достиг такого уровня эмоционального истощения, что новые ужасы стали для меня попросту безразличны. Я оставался в одиночестве… но перед чем?
Однако прежде чем мне представилась возможность извести себя новыми размышлениями или приступить к новой попытке избавления от уз, обнаружилось дополнительное обстоятельство. Неизведанная прежде боль сотрясала мои руки и ноги, и я как бы ощутил на себе коросту засохшей крови, которая просто не могла вытечь из всех моих ссадин и ран. Казалось также, что грудь моя пронзена сотней ударов, – как если бы ее клевал злобный титанический ибис. Бесспорно, тот, кто удалил веревку, был враждебно настроен ко мне и, обнаружив сопротивление, начал наводить на меня жуткие мучения. Тем не менее ощущения мои были прямо противоположны тому, что можно было бы ожидать. Вместо того чтобы погрузиться в бездонную яму отчаяния, я был готов к новой отваге и действию; ибо теперь я ощущал, что злые силы имеют физическую природу, с которой бесстрашный человек может сражаться на равных.
Дорога, по которой несли нас верблюды, резко огибала расположенные слева деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и уходила на юг и восток полным поворотом, обращая нас лицом к пустыне с подветренной стороны Великой Пирамиды. Мимо циклопической кладки ехали мы, огибая восточный фас над долиной малых пирамид, за которой на востоке поблескивал вечный Нил, а на западе жаром мерцала столь же вечная пустыня. Над нами возвышались три великие пирамиды, самая крупная из которых давно была лишена внешней облицовки и являла ряды огромных камней кладки, однако на остальных облицовка кое-где сохранилась, напоминая о том законченном виде, который она имела в свой день.
Наконец мы спустились к Сфинксу и сели в безмолвии под жутким взглядом его незрячих глаз. На громадной каменной груди мы едва различили эмблему Ра-Хорахти, за изображение которого Сфинкса ошибочно принимали в позднее династическое время; и хотя песок засыпал плиту, находящуюся между огромными лапами, мы вспомнили, что начертал на ней Тутмос IV, и о сне, который он видел еще до восшествия на престол. Именно в этот момент улыбка Сфинкса начала смутно раздражать нас, напоминая про легенды о подземных переходах под чудовищным изваянием, уводящих вниз, вниз, вниз, в глубины непостижимые, намекающие на тайны куда более древние, чем раскопанный нами династический Египет, связанные с доселе влачащимся бытием необычайных обладателей звериных голов – богов древнего египетского пантеона. Тут я и задал себе праздный вопрос, точному значению которого предстояло проявиться лишь по прошествии многих часов.
Нас уже догоняли другие туристы, и потому нам пришлось перейти к находившемуся в пяти десятках ярдов к юго-востоку от нас засыпанному песком храму Сфинкса, который я выше назвал великими вратами дороги к погребальному храму Второй пирамиды. Большая часть его по-прежнему находилась под землей, и хотя мы спешились и спустились по современному ходу в ее алебастровый коридор и многостолпный зал, я почувствовал, что Абдул и местный немец-служитель не показали нам всего, что можно было увидеть.
После этого мы, как положено, совершили обход плато, осмотрев Вторую пирамиду и расположенные к востоку замечательные руины ее погребального храма, Третью пирамиду вместе с ее миниатюрными спутниками, разрушенный восточный храм, щербатые сооружения Четвертой и Пятой династий и знаменитую гробницу Кэмпбелла, чья темная шахта опускается отвесно на пятьдесят три фута к зловещему саркофагу, который один из наших верблюжьих погонщиков очистил от лишнего песка, ловко спустившись к нему по веревке.
Теперь до нашего слуха донеслись вопли от Великой Пирамиды, где бедуины осаждали группу туристов предложениями ускорить индивидуальный подъем и спуск обратно. Говорят, что подобное мероприятие можно проделать за семь минут, однако многочисленные алчные шейхи и сыновья шейхов уверяли нас в том, что они могут урезать это время до пяти минут, если посодействовать для этой цели щедрым бакшишем. Стимула этого они не получили, но Абдул повел нас наверх, таким образом открывая перед нами полный беспрецедентного великолепия вид, одаривший нас не только зрелищем далекого сверкающего Каира с венчающей его цитаделью на фоне золотисто-фиолетовых холмов, но и на все пирамиды мемфисского района, от Абу Роаш на севере до Дашура на юге. Очертания ступенчатой пирамиды Саккары, отмечающей собой этап эволюции невысокой мастабы к подлинной пирамиде, заманчиво маячили в песчаной дали. Знаменитая гробница Пернеба была обнаружена ближе к этому этапному сооружению – более чем в четырех сотнях миль к северу от фиванской скалистой долины, в которой почивает Тутанхамон. И вновь благоговейный трепет заставил меня замолчать. Перспектива подобной древности и тайны, которыми был полон каждый задумчивый монумент, наполнили меня почтением и таким ощущением величия, как ничто другое.
Утомленные подъемом и назойливыми бедуинами, поступки которых во всем противоречили правилам хорошего тона, мы отказались от тяжелого и многотрудного дела посещения внутренностей пирамид, хотя успели заметить нескольких среди самых закаленных туристов, готовящихся к удушливому путешествию по недрам великого мемориала Хеопса. Переплатив нашему местному телохранителю и отпустив его, мы возвращались в Каир под вечерним солнцем в обществе Абдула Реиса, уже едва не сожалея о своем отказе – такие удивительные слухи ходили о коридорах под пирамидами, не обозначенных в путеводителях, – ходах, спешно заложенных и сокрытых неразговорчивыми археологами, обнаружившими и эксплуатировавшими их.
Конечно, по правде говоря, шепотки эти были во многом безосновательными; однако любопытство вызывал уже тот факт, что туристам настойчиво запрещалось посещать пирамиды по ночам, а также спускаться в нижние ходы и крипту Великой Пирамиды. В последнем случае власти, быть может, опасались психологического эффекта – когда человек мог почувствовать себя раздавленным целым миром твердого камня, оставаясь соединенным с известным ему миром узким ходом, по которому можно только ползти и который легко может перекрыть несчастный случай или злой умысел.
Вопрос этот показался нам настолько интересным, что мы решили нанести еще один визит к пирамидам при первой же возможности. И возможность эта посетила меня много раньше, чем я ожидал.
В тот вечер члены нашей группы ощутили утомление после напряженной дневной программы, а я в компании Абдула Реиса отправился на прогулку по живописному арабскому кварталу. Хотя я успел повидать его днем, мне было интересно познакомиться с переулками и базарами в сумерках, когда густые тени и сочные проблески света добавляют очарования фантастической иллюзии. Туземная толпа редела, однако по-прежнему оставалась очень шумной и многочисленной, когда мы наткнулись на кучку веселящихся бедуинов, расположившихся на Сукен-Наххасин, или базаре медников. Явный глава этой группы, высокомерный юноша с тяжелыми чертами лица и в дерзко сдвинутой феске, обратив на нас некоторое внимание, без особой приязни узнал моего компетентного, но явно надменного и склонного к насмешке проводника.
Быть может, подумал я, ему не понравилась странная копия почиющей на лице Сфинкса полуулыбки, которую я частенько отмечал с удивлением и некоторым раздражением; или же ему не понравились отголоски гулкого и замогильного голоса Абдула. Во всяком случае оскорбительный обмен словами быстро обретал ярость; и как только Али-Зиз, так мой проводник называл незнакомца в промежутке между оскорбительными эпитетами, яростно вцепился в одеяние Абдула, тот немедленно последовал данному примеру, и в результате начавшейся стычки оба соперника потеряли свои освященные обычаем головные уборы и, наверно, перешли бы к еще более жесткому противостоянию, если бы я не вмешался и не разделил их с помощью силы.
Мое вмешательство, поначалу воспринятое как нежелательное обеими сторонами, тем не менее привело к заключению перемирия. Оба угрюмых воителя сдержали свой гнев, поправили одеяния и с выражением достоинства столь же глубокого, сколь и внезапного, заключили любопытный и полный высшей достоинства пакт, который, как я скоро узнал, уходит своими корнями в весьма древние времена и требует улаживания разногласий ночным кулачным поединком на вершине Великой Пирамиды после того, как окрестности ее покинет последний любитель лунного света. Каждый дуэлянт имел право привести с собой отряд секундантов, и самым цивилизованным образом предусматривавшее несколько раундов действо должно было начаться в полночь. Во всем предстоящем событии было нечто, весьма заинтересовавшее меня. Уникальный характер предстоящей драки сулил зрелищность; в то же время мысль, что все это будет происходить под бледной убывающей луной на седой глыбе, возвышающейся над допотопным плато Гизе, будила в моей душе все фибры воображения. Высказанная мной просьба позволила установить, что Абдул просто мечтал включить меня в свой отряд секундантов; так что все начало вечера я сопровождал его по различным притонам в самой беззаконной части города – по большей части к северо-востоку Езбекие, – где он собрал по одному внушительную шайку избранных и родственных ему головорезов, готовых послужить фоном для кулачного поединка.
Сразу же после девяти наш отряд, водрузившись на ослов с такими царственными или значимыми для туристов именами как Рамзес, Марк Твен, Джи-Пи Морган и Миннегага, протиснулся по узким уличным лабиринтам как восточного, так и западного образца, пересек мутный Нил, над которым поднимался лес мачт, и философической рысью между рядами леббакхов потрусил по дороге к Гизе. На путешествие ушло чуть более двух часов, и, завершая его, мы наткнулись на последнюю группу возвращавшихся от пирамид туристов, отсалютовали последнему трамваю и остались наедине с ночью, прошлым и призрачной луной.
Тут наконец в конце дороги показались гигантские пирамиды, призрачные, чреватые некоей неявной атавистической угрозой, которой в дневное время я не заметил. Даже в самой малой из них угадывался намек на нечто жуткое – ибо разве не в ней заживо похоронили царицу Нитокрис во времена Шестой династии… хитроумную царицу Нитокрис, пригласившую однажды всех своих врагов на пиршество в подземный, расположенный под Нилом храм и утопившую их, открыв водяные затворы? Я вспомнил, что арабы разное рассказывали о Нитокрис и при некоторых фазах луны избегали посещать Третью пирамиду. Должно быть, о ней размышлял Томас Мур, записавший предание мемфисских лодочников: «Подземная нимфа, чей дом в славе и злате сокрыт, не ведающая солнца госпожа Пирамид!»
При всем том, что мы не медлили, Али-Зиз и его спутники опередили нас; и мы увидели очертания их ослов на фоне пустынного плато у Кафрель-Харам, нищего, соседствующего со Сфинксом арабского поселения, к которому мы отклонились вместо традиционного маршрута, следующего к дому Мины, около которого сонные и бездеятельные полицейские могли бы заметить и остановить нас. Здесь, пока грязные бедуины размещали своих верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных Хефрена, нас повели вверх по скалам и по песку к Великой пирамиде, на истертых временем сторонах которой уже копошились арабы, и Абдул Реис предложил мне помощь, в которой я не нуждался.
Как известно большинству путешественников, подлинную вершину этого сооружения давно уже съело время, оставив относительно плоскую платформу в виде квадрата со стороною двенадцать ярдов. На этой жуткой площадке образовался кружок, и через несколько мгновений ехидная пустынная луна с усмешкой уставилась на баталию, которая, если не считать качества воплей «секундантов», вполне могла бы происходить в одном из мелких американских атлетических кружков. И наблюдая за ней, я ощутил, что в происходящем присутствуют и некоторые из наших наименее желанных институций; ибо каждый удар, выпад и защита казались ошеломляющими для моего неопытного взгляда. Поединок завершился с достаточной быстротой, и, невзирая на известную неприязнь к методам, я ощутил некую гордость собственника, когда Абдула Реиса провозгласили победителем.
Примирение оказалось феноменально быстрым, и посреди пения, братания и общей выпивки мне было трудно даже вспомнить о том, что все началось с ссоры. Как ни странно, я в большей степени ощущал себя центром внимания, чем былые бойцы; и если доверять моему знанию арабского, они обсуждали мои профессиональные выступления и умение избавляться от всякого рода оков и выбираться из тесных помещений в манере, не только обнаруживавшей удивительное знание моих достижений, но и заметную враждебность и сомнение в моих талаантах. И мне постепенно стало понятно, что древняя магия Египта исчезла не без следа и что обрывки неведомых и тайных познаний и жреческих культовых практик таинственным образом сохранились в среде феллахов в такой степени, которая позволяла им сомневаться в способностях странного волшебника-хахви и оспаривать их. И я припомнил, что мой гулкоголосый Абдул Реис похож на древнеегипетского жреца, а может быть, на фараона или улыбающегося Сфинкса… и крепко задумался.
И тут произошло нечто такое, что в мановение ока доказало правильность моих подозрений и заставило обругать себя за тупость, с которой я позволил себе воспринимать события этой ночи не как злоумышленный спектакль, которым они на деле являлись. Без всякого предупреждения и, вне сомнения, по тайному знаку, данному Абдулом, вся банда бедуинов набросилась на меня; после чего, достав из-под одеяний крепкие веревки, они связали меня настолько надежно и прочно, как мне никогда не случалось быть связанным во всей своей жизни – как на сцене, так и вне ее.
Сперва я сопротивлялся, однако скоро понял, что один человек не в состоянии противостоять банде более чем из двадцати жилистых варваров. Руки мои оказались связанными за спиной, колени прижали к груди, a запястья и лодыжки скрутили неподатливыми веревками. В рот мой втиснули удушающий кляп, a на глазах затянули плотную повязку. После этого арабы взвалили меня на плечи и начали неловкий спуск с пирамиды, и я услышал полные ехидства словеса моего так называемого проводника Абдула, с насмешкой и явным довольством в голосе уверявшего меня в том, что мои «магические» способности скоро будут подвергнуты высшему испытанию, которое собьет с меня всю спесь, накопившуюся за время триумфальных выступлений в Европе и в Америке.
Египет, напомнил он мне, очень стар и полон глубинных мистерий и древних сил, непостижимых даже для знатоков века сего, чьи ухищрения так и не смогли уловить меня.
В каком направлении и долго ли меня несли, сказать не могу, ибо мое положение никак не способствовало формированию сколь-нибудь точного суждения. Понятно мне только то, что далеко унести меня не могли, поскольку несшие меня люди ни разу не ускорили шаг, и все же держали меня на руках совсем недолго. И эта возмутительная краткость смущает меня более всего, когда я думаю о Гизе и этом плато – ибо мороз пробирает по коже при мысли о том, насколько близко находится то, что могло существовать и поныне существует, от повседневных туристических маршрутов…
Чудовищная аномалия, о которой я говорю, проявила себя не сразу.
Опустив меня на поверхность, в которой я признал скорее песок, чем камень, похитители обхватили мою грудь веревкой и проволокли несколько футов до неровного отверстия в земле, в которое меня и спустили без особого почтения к моей персоне. Целую вечность бока мои ударялись о неровные камни узкого колодца, который я принял за одну из многочисленных погребальных шахт плато, пока наконец невероятная, почти невозможная глубина его не лишила меня любых оснований для сравнения.
Ужас происходящего с каждой секундой приобретал новую силу. Представление о том, что спуск в недра прочной скалы может длиться очень долго, но так и не достичь центра самой планеты Земля, или что сделанная человеком веревка может казаться настолько длинной, чтобы опустить меня в нечестивые и бездонные недра нечистой земли, казалось настолько гротесковым, что легче было усомниться в свидетельствах моих возбужденных чувств, чем признать его. Даже теперь я не испытываю уверенности, ибо знаю, насколько искажается восприятие времени, когда ты находишься в столь затруднительном положении. Однако я уверен лишь в том, что в то время еще сохранял логическое сознание и не добавил к и без того жуткой реальной картине призраков, рожденных разгулявшимся воображением и объясняющихся мозговой иллюзией, граничащей с подлинной галлюцинацией.
Однако не это стало причиной моего первого обморока. Жуткое испытание только начиналось, и предчувствие грядущих ужасов становилось все более четким по мере спуска. Невероятно длинную веревку, на которой я висел, разматывали теперь очень быстро, и при движении вниз я жестоко ссаживал кожу об узкие и неровные стены шахты в своем стремлении вниз. Одежда моя порвалась, во многих местах я ощущал кровь на теле, а кроме того, острую и все возраставшую боль. Ноздрям моим докучала тем временем непонятная угроза: ползучий запах, сырой и затхлый, странным образом не похожий на все, которые мне приводилось ощущать прежде, но несущий в себе обертоны специй и благовоний, отдававших явной насмешкой.
И тут произошел умственный катаклизм. Жуткий, ужасный, неописуемый, ибо он целиком совершался в душе, не допускавший малейших деталей экстаз кошмарного призыва к бесам. Внезапность его была сразу апокалиптичной и демоничной – только что я несся вниз по узкому каменному жерлу, словно терзавшему меня миллионом зубов, а в следующий миг уже парил на перепончатых крыльях над безднами ада, свободно переносясь сквозь беспредельные мили безграничного и затхлого пространства, взмывая к не знающим измерения башням леденящего эфира, а затем обрушиваясь к вязким топям надиров жадного и тошнотворного нижнего вакуума… Благодарю Бога за милосердие, с которым Он отослал меня в забвение, избавившее меня от этих фурий сознания, едва не повредивших мой рассудок и подобно гарпиям терзавших мой дух!
Забвение это, при всей его краткости, вернуло мне силы и здравый смысл, позволившие выдержать те еще большие приступы космической паники, уже таившиеся и несшие свою околесицу впереди.
II
После бесовского полета через стигийское пространство сознание возвращалось ко мне очень постепенно. Процесс этот оказался бесконечно болезненным и раскрашенным фантастическими видениями, которым особо способствовало состояние моего тела – связанного и лишенного голоса. Точная натура этих видений была очень очевидной в момент переживания их, однако почти сразу после этого затуманилась в моей памяти, a вскоре от нее вообще осталось только воспоминание цепочки ужасных событий, воображаемых или реальных. Мне казалось, будто я побывал в жуткой огромной лапе; желтой, пятипалой и волосатой, высунувшейся из земли, чтобы захватить и раздавить меня. A когда я остановился, чтобы понять, что представляет собой эта лапа, мне показалось, что это Египет. В забвении я перенесся к событиям предшествовавших недель, и увидел, как меня понемногу обольщает тонкими и коварными кознями некий адский упырь, дух древнего египетского колдовства, дух, пребывавший в Египте до появления на земле человека и который останется здесь, когда человека не будет более.
Я увидел весь ужас и нечестивую древность Египта, тот грязный союз, в котором он пребывал всегда с гробницами и храмами мертвых. Я увидел призрачные процессии жрецов с головами быков, соколов, котов и ибисов, беспрепятственно проходящие по подземным лабиринтам и перспективам титанических пропилей, рядом с которыми человек уподобляется мошке; фантомные шествия, возносящие неназываемые приношения неописуемым богам. Каменные колоссы шествовали посреди бесконечной ночи, гоня перед собой стада ухмыляющихся человекосфинксов вниз, к берегам беспредельных рек стоячего дегтя. И за всем этим угадывалась несказуемая скверна первобытной некромантии, черной, аморфной, жадно шарящей по тьме за моей спиной в стремлении удушить дух, посмевший подразнить ее подражанием.
В спящем мозгу моем сложилась мелодрама злобной ненависти и погони, и я увидел черную душу Египта, выделившую меня среди прочих и зовущую к себе неслышными шепотами; призывающую и завлекающую меня, проводящую меня по блеску и великолепию сарацинской поверхности, но неизменно увлекающую вниз – в безумной древности катакомбы, к ужасам его мертвого, канувшего в бездну фараонического сердца.
Затем лики видения приняли человеческий облик, и я увидел своего проводника Абдула Реиса в царственном облачении и с насмешкой Сфинкса на лице. Тут я понял, что черты его были чертами самого Великого Хефрена, придавшего лику Сфинкса черты собственного лица и построившего Вторую пирамиду и тот титанический храм с мириадами коридоров, которые археологи якобы выкопали из таинственного песка и неразговорчивой скалы. И я посмотрел на длинную и худую, сухую руку Хефрена; длинную, тонкую и сухую руку диоритовой статуи, которую видел в Каирском музее, – статуи, которую нашли в том жутком привратном храме, – и удивился тому, что не закричал, увидев ее у Абдула Реиса… Эта рука! Жутко холодная, она давила меня; в ней ощущался хлад и тяжесть саркофага, весь холод и утеснение незапамятного Египта… Это был сам ночной, кладбищенский Египет… та желтая лапа… о Хефрене поговаривают такое…
Однако в данном месте я начал пробуждаться – или хотя бы входить в состояние менее сонное, чем то, что предшествовало ему. Я вспомнил поединок наверху пирамиды, коварных бедуинов и их нападение, жуткий спуск на веревке в недра бесконечной скалы и безумное погружение в хладную пустоту, благоухающую ароматичным тленом. Я ощутил, что лежу теперь на сыром каменном дне и что оковы мои, как и прежде, врезаются в мою плоть с неслабеющей силой. Было очень холодно, и я как будто бы почувствовал слабый ток докучливого ветерка, коснувшегося моего тела. Ссадины и ушибы, заработанные во время спуска по неровному жерлу, болели неимоверно, ощущение это усиливалось некоей колкой или жгучей ноткой в слабом сквозняке, и одного стремления просто перекатиться на другой бок было достаточно, чтобы тело мое пронзила невероятная боль.
Поворачиваясь, я ощутил сопротивление сверху, и заключил, что веревка, на которой меня спустили вниз, по-прежнему связывает меня с поверхностью. Не знаю, держали ли ее арабы в своих руках или нет; не имею и малейшего представления о том, насколько глубоко в недра земли меня опустили. Я ощущал, что меня окружала полная или почти полная тьма, поскольку повязку на глазах моих не пронзал ни единый лучик лунного света; однако я недостаточно доверял своим чувствам, чтобы без сомнений принять их свидетельство в том, что нахожусь на чрезвычайной глубине, как и в том, что спуск мой имел огромную длительность.
Во всяком случае, зная, что я нахожусь в пространстве, значительно удаленном от отверстия в поверхности земли наверху, я с некоторым сомнением пришел к выводу о том, что тюрьмой моей, должно быть, явился подземный храм старого Хефрена – Храм Сфинкса – или, быть может, какие-то внутренние коридоры его, которые мои проводники не показывали мне во время утреннего посещения и откуда я мог бы отыскать путь к спасению и выбраться на поверхность. Итак, меня ожидало скитание по лабиринту, впрочем, не более сложному, чем те, из которых мне уже случалось находить выход.
Первым делом следовало освободиться от веревок, кляпа и повязки на глазах; что, как я уже знал заранее, не должно было составить для меня особенного труда, поскольку более искусные знатоки, чем эти арабы, успели опробовать на мне всякие путы в течение моей долгой и разнообразной карьеры эскаписта, но так и не смогли преуспеть в опровержении моих методов.
Затем мне пришло в голову, что арабы могли приготовиться к новому нападению возле выхода из подземелья в случае моего вероятного избавления из пут, если его засвидетельствует веревка, которую они, вероятно, не выпускали из рук. Конечно же, при условии, что местом моего заточения и в самом деле был созданный Хефреном Храм Сфинкса. Прямое отверстие в своде пещеры, в каком бы укромном месте оно ни располагалось, не могло далеко отстоять от современного входа, находящегося вблизи Сфинкса; ни о каких существенных расстояниях не могло быть и речи, поскольку полную поверхность доступного посетителям участка трудно назвать колоссальной. Во время дневной экскурсии я не заметил ничего подобного, однако в сыпучих песках проглядеть такое нетрудно.
Обдумывая эти материи, оставаясь скрюченным и связанным на каменном полу, я почти забыл об ужасном спуске в преисподнюю, который недавно чуть не поверг меня в кому. Я думал только о том, чтобы перехитрить арабов и соответствующим образом освободиться, по возможности быстро, стараясь не потянуть за спущенную сверху веревку, способную засвидетельствовать об успешной или напрасной попытке освобождения.
Однако составить план действий оказалось много легче, чем освободиться. Несколько предварительных попыток показали, что без сильных движений не обойдешься; и после одной особенно энергичной из них я почувствовал, что вокруг меня и на меня начали падать сверху кольца веревки. Очевидным образом я решил, что бедуины заметили мои движения и сбросили вниз свой конец веревки, заторопившись, конечно, к подлинному входу в храм, чтобы залечь возле него с кровожадными намерениями в отношении меня.
Перспектива особой радости не сулила – однако в свое время мне приходилось без трепета встречать и худшие ситуации, и потому я не дрогнул. Сперва следовало выбраться из пут, а затем довериться собственной изобретательности, чтобы невредимым ускользнуть из храма. Забавно, как мне удалось убедить себя в том, что я пребываю в старом храме Хефрена, что находится возле Сфинкса не столь уж глубоко под землей.
Вера в это была разбита обстоятельством, ужас и значительность которого возрастали уже тогда, когда я составлял свой философический план, заново рождая все явные предчувствия противоестественной смерти и демонической тайны. Я уже говорил о том, что падающая веревка громоздилась на мне и вокруг меня. Теперь я увидел, что веревочная груда продолжала расти со скоростью, недоступной любой обыкновенной веревке. Падение ее ускорялось, превращаясь в пеньковую лавину, и скоро я оказался почти погребенным под быстро умножающимися и грудящимися все выше и выше кольцами. Вскоре я уже полностью утопал под ними и только пытался восстановить дыхание под новыми и новыми валящимися сверху петлями, погребавшими и удушавшими меня.
Тут чувства мои вновь пошатнулись, и я попытался отразить сразу и опасную и неизбежную угрозу. Дело было не просто в том, что меня мучили за пределами всякой человеческой меры, не в том, что из меня медленно выдавливали жизнь и дыхание, но в понимании того, что именно подразумевала эта сверхъестественная длина веревки, в осознании того, какие неведомые и неизмеримые земные бездны в данный момент окружают меня. Итак, мой бесконечный спуск и полет через это гоблинское пространство оказались реальными, и значит, в сей миг я лежал беспомощным в безымянной каверне, в глубинах мира. Столь внезапное подтверждение предельного сего ужаса было непереносимым, и я во второй раз погрузился в милосердное забвение.
Впрочем, забвение это не означало отсутствия сновидений. Напротив, исход мой из мира сознания сопровождался видениями, полными самой несокрушимой жути. Бог мой!.. Если бы только я не был настолько начитан в египтологии, прежде чем прибыть в эту землю, являющуюся источником всякой тьмы и ужаса! Этот второй обморок заново наполнил мое спящее сознание трепетным пониманием этой страны и ее древних секретов, и посредством некоего проклятого обстоятельства видения мои обратились к древним представлениям об усопших и их пребывании в душе и теле за пределами тех таинственных гробниц, которые являются скорее домами, чем могилами. Я вспомнил во всех подробностях видения, которые, к счастью, с тех пор забыл, причудливые особенности гробниц Египта и чрезвычайно тонкие и жуткие учения, определившие их конструкцию.
Все эти люди думали только о смерти и об усопших. Они верили в буквальное воскресение тела, что заставляло их мумифицировать плоть усопших со всей возможной осторожностью и сохранять их жизненно важные органы в кувшинах-канопах, находящихся возле тела, помимо которого, по их мнению, сохранялись два других элемента: душа, которая после взвешивания и одобрения Осирисом обитала в блаженном краю, и таинственный и удивительный жизненный принцип ка, жутким образом скитающийся между верхним и нижним мирами, требуя иногда доступа к сохраняемому телу, потребляя жертвенную пищу, приносимую жрецами и благочестивыми родственниками в погребальный храм, a иногда – как шептали люди – овладевая телом покойного или его деревянным двойником, которого всегда хоронили рядом, чтобы зловещим образом скитаться по делам особенно отвратительным.
Тысячи лет тела эти пребывали в великолепном покое своих гробов, обратив незрячий взор к небу, когда их не посещал ка, ожидая того дня, когда Осирис заново соединит ка и душу и изведет окоченевшие легионы усопших из подземных домов сна. Ожидалось славное возрождение – однако одобрения удостаивались не все души, не оставались в целостности и все гробницы, а посему следовало ожидать неких гротескных ошибок и адских аномалий. Даже в наши дни арабы шепчутся о неосвященных сборищах и святотатственном поклонении, творящихся в забытых потусторонних безднах, которые невозбранно могут посещать только незримые крылатые ка и бездушные мумии.
Должно быть, самые зловещие, самые створаживающие кровь легенды связаны с некоторыми извращенными продуктами впадшего в упадок жречества – составными мумиями, произведенными посредством искусственного соединения человеческих тел с головами животных в подобии древних богов. Священных животных мумифицировали на всех стадиях истории, и посему освященные быки, коты, ибисы, крокодилы и подобные им могли возвратиться однажды в великой славе. Но только в период упадка смели жрецы смешивать в одной мумии человеческое и животное – только в период упадка, когда перестали они понимать права и обязанности ка и души.
О том, что случилось с этими составными мумиями, не рассказывают – по крайней мере на людях – и не стоит удивляться тому, что пока ни один египтолог никогда не находил таковых. Впрочем, среди арабов ходят дикие шепотки, которым не следует доверять. Они даже намекают на то, что старый Хефрен – создатель Сфинкса, Второй пирамиды и зияющего подземного храма – живет в недрах земли в браке с упыркой-царицей Нитокрис и правит мумиями, которые не являются ни людьми, ни животными.
И именно их – Хефрена, его супругу и его странное войско составных мертвецов – видел я в своем видении, и вот почему я рад тому, что точные очертания их исчезли из моей памяти. Но самое жуткое видение было связано с праздным вопросом, который я задал себе вчера, когда рассматривал великую загадку пустыни и гадал, с какими неведомыми глубинами может быть тайно связан соседствующий с ней храм. Этот вопрос тогда, настолько невинный и причудливый, принял в моем видении облик френетического и истерического безумия: чьим огромным и скверным подобием первоначально являлся Сфинкс?
Второе мое пробуждение – если только можно назвать его таковым – явило мне картину откровеннейшей жути, с которой мне просто нечего сравнить за исключением той, другой, увиденной мною позже; a ведь жизнь моя была полна приключений, недоступных большинству мужчин. Вспомните, что я потерял сознание, ощутив себя погребенным под каскадом свалившейся сверху веревки, своим долгим падением открывшей мне катаклизмические глубины моего тогдашнего положения. Однако, когда восприятие вернулось ко мне, я ощутил, что тяжесть исчезла, а перекатившись на бок, оставаясь связанным, с кляпом во рту и повязкой на глазах, понял, что некая сила полностью удалила почти удушившую меня пеньковую груду. Значение этого факта, конечно, дошло до меня лишь постепенно; но даже при этом мне кажется, что я мог бы снова лишиться сознания, если бы к этому времени не достиг такого уровня эмоционального истощения, что новые ужасы стали для меня попросту безразличны. Я оставался в одиночестве… но перед чем?
Однако прежде чем мне представилась возможность извести себя новыми размышлениями или приступить к новой попытке избавления от уз, обнаружилось дополнительное обстоятельство. Неизведанная прежде боль сотрясала мои руки и ноги, и я как бы ощутил на себе коросту засохшей крови, которая просто не могла вытечь из всех моих ссадин и ран. Казалось также, что грудь моя пронзена сотней ударов, – как если бы ее клевал злобный титанический ибис. Бесспорно, тот, кто удалил веревку, был враждебно настроен ко мне и, обнаружив сопротивление, начал наводить на меня жуткие мучения. Тем не менее ощущения мои были прямо противоположны тому, что можно было бы ожидать. Вместо того чтобы погрузиться в бездонную яму отчаяния, я был готов к новой отваге и действию; ибо теперь я ощущал, что злые силы имеют физическую природу, с которой бесстрашный человек может сражаться на равных.