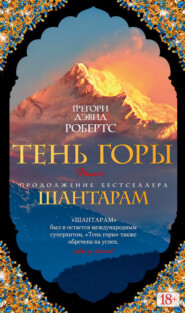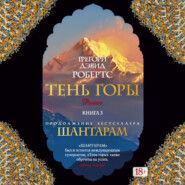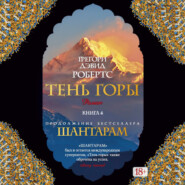По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шантарам
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он взял в рот кусочек сахара, зажав его между передними зубами, и стал цедить чай сквозь этот кусочек. Я вслед за ним сделал то же самое, и, хотя из-за растаявшего сахара чай стал более сладким, чем я любил, я был доволен, что познакомился еще с одним народным обычаем.
Кадербхай тоже пил чай сквозь кусочек сахара, отдав дань этой традиции с достоинством и торжественностью, с какими он делал и говорил практически все. Я никогда не встречал человека более величественного, чем он. Глядя, как он слушает Абдуллу, склонив голову, я подумал, что он занял бы главенствующее положение в любом обществе и в любую эпоху и заставил бы окружающих выполнять его распоряжения.
На сцену вышли три певца и расселись перед музыкантами. В зале воцарилась тишина, певцы затянули песню на три голоса, которые оказались настолько мощными, что пробирали слушателя до дрожи; их пение было выразительным, сладостным и страстным. Они не просто пели, но плакали и рыдали; из их закрытых глаз капали на грудь слезы. Слушая их, я испытывал восторг, но одновременно и некоторую неловкость, как будто они раскрывали передо мной свои интимнейшие чувства, свою любовь и печаль.
Исполнив три песни, певцы скрылись за занавесом, выйдя в соседнее помещение. Во время их выступления публика сидела молча, даже не шевелясь, но, стоило им уйти, все разом заговорили, словно желая сбросить колдовские чары. Абдулла поднялся и подошел к группе афганцев за другим столиком.
– Вам понравилось их пение, мистер Лин? – спросил Кадербхай.
– Да, очень. Это просто удивительно. Я никогда не слышал ничего подобного. В их пении столько печали и вместе с тем столько силы. На каком языке они пели? На урду?
– Да. Вы знаете урду?
– Нет, я немного знаю только маратхи и хинди. Я догадался, что это урду, потому что некоторые из моих соседей в трущобах говорят на нем.
– Газели всегда поют на урду, а эти певцы – лучшие их исполнители во всем Бомбее.
– Это любовные песни?
Улыбнувшись, он наклонился ко мне и коснулся моей руки. В Бомбее люди часто прикасались к собеседнику, слегка пожимая или стискивая его руку для большей выразительности. Обитатели трущоб разговаривали так всегда, и мне это нравилось.
– Да, их можно назвать любовными песнями, но это самые лучшие и самые истинные из любовных песен, потому что в них выражается любовь к Богу.
Я молча кивнул, и Кадербхай продолжил:
– Вы христианин?
– Нет, я не верю в Бога.
– В Бога нельзя верить или не верить, – объявил он. – Его можно только познать.
– Ну, тут уж я могу точно сказать, что не познал его, – рассмеялся я. – И, говоря откровенно, мне кажется, что в него невозможно поверить – по крайней мере, в бо`льшую часть того, что о Нем рассказывают.
– Да, разумеется, Бог невозможен. И это первое доказательство того, что он существует.
Кадер внимательно смотрел на меня, по-прежнему держа свою руку на моей. «Так, надо быть начеку, – подумал я. – Меня втягивают в один из философских диспутов, которыми он прославился. Это испытание, и не из легких, тут масса подводных камней».
– Вы хотите сказать, что нечто должно существовать потому, что оно невозможно? – спросил я, пустившись на своей утлой лодчонке в плавание по неисследованным водам вслед за его мыслью.
– Совершенно верно.
– Но тогда получается, что не существует того, что возможно?
– Именно! – расплылся он в улыбке. – Я восхищен тем, что вы это понимаете.
– Знаете, – улыбнулся я в ответ, – я произнес эту фразу, но это не значит, что я ее понимаю.
– Я объясню. Ничто не существует таким, каким мы это видим. Ничто из того, что мы видим, не является таким, каким представляется нам. Наши глаза – обманщики. Все, что кажется нам реальным, просто часть иллюзии. Нам кажется, что мы видим существующие вещи, но их нет. Ни вас, ни меня, ни этой комнаты. Ничего.
– И все же я не понимаю. Почему возможные вещи не могут существовать?
– Я скажу по-другому. Силы, создающие все материальное, что, как нам кажется, существует вокруг нас, нельзя измерить, взвесить или даже отнести к тому или иному моменту известного нам времени. Одна из форм, в которых проявляются эти силы, – фотоны света. Для них мельчайшая частица вещества – целая вселенная свободного пространства, а весь наш мир – только пылинка. То, что мы называем Вселенной, – это лишь наша идея, и к тому же не слишком удачная. С точки зрения света, жизнетворного фотона, известная нам Вселенная нереальна. Ничто в ней не реально. Теперь вы понимаете?
– Не совсем. Если все, что представляется нам известным, на самом деле неправильно или нереально, то как мы можем знать, что нам делать, как нам жить, как не сойти с ума?
– Мы обманываем себя, – ответил он, и в его янтарных глазах плясали золотые искорки смеха. – Нормальный человек просто лучше умеет обманывать, чем сумасшедший. Вы с Абдуллой братья. Я знаю это. Ваши глаза лгут, говоря вам, что вы не похожи. И вы верите лжи, потому что так легче.
– И поэтому мы не сходим с ума?
– Да. Позвольте сказать вам, что я вижу в вас своего сына. Я не был женат, и у меня нет детей, но в моей жизни был момент, когда я мог жениться и иметь сына. Это было… Сколько вам лет?
– Тридцать.
– Я так и знал! Тот момент, когда я мог стать отцом, был ровно тридцать лет назад. Но если я скажу вам, что вы мой сын, а я ваш отец, и я это ясно вижу, вы подумаете, что это невозможно. Вы не поверите этому. Вы не увидите той правды, которую вижу я и которая сразу стала ясна мне в тот миг, когда мы впервые встретились несколько часов назад. Вы предпочтете поверить удобной лжи, говорящей, что мы незнакомцы и между нами нет ничего общего. Но судьба – вы знаете, что такое судьба? На урду ее называют кисмет, – судьба может сделать с нами все что угодно, кроме двух вещей. Она не может управлять нашей свободной волей и не может лгать. Люди лгут – чаще себе, чем другим, а другим лгут чаще, чем говорят правду. Но судьба не лжет. Это вы понимаете?
Это я понимал. Понимало мое сердце, хотя мой возмущенный разум не хотел соглашаться с его словами. Каким-то непонятным образом этому человеку удалось нащупать во мне эту печаль, пустоту в моей жизни, которую должен был заполнять мой отец. Спасаясь от преследования, я скитался в этой пустоте, испытывая подчас такую тоску по отцовской любви, какая накатывает на целый тюремный корпус заключенных в последние часы перед наступлением нового года.
– Нет, – соврал я. – Прошу меня простить, но я не могу согласиться, что можно сделать вещи реальными, просто поверив в них.
– Я такого не говорил, – возразил он терпеливо. – Я сказал, что реальность, какой она предстает перед вами и перед большинством людей, всего лишь иллюзия. За тем, что видят наши глаза, есть другая реальность, и ее надо почувствовать сердцем. Иного пути нет.
– Понимаете… То, как вы смотрите на вещи, сбивает с толку. Это какое-то… хаотичное восприятие. А вы сами не находите его хаотичным?
Он опять улыбнулся:
– Нелегко посмотреть на мир под правильным углом зрения. Но есть вещи, которые мы можем познать, в которых можем быть уверены. И сделать это не так уж трудно. Позвольте мне продемонстрировать это вам. Для того чтобы познать истину, достаточно закрыть глаза.
– Всего-навсего? – рассмеялся я.
– Да. Все, что нужно сделать, – закрыть глаза. Мы можем, например, познать Бога и печаль. Мы можем познать мечты и любовь. Но все это нереально – в том смысле, какой мы придаем вещам, которые существуют в мире и кажутся реальными. Это нельзя взвесить, измерить или разложить на элементарные частицы в ускорителе. И потому все это возможно.
Моя лодка дала течь, и я решил, что пора выбираться на берег.
– Я никогда не слышал об этом ночном клубе. Таких в Бомбее много?
– Штук пять, – ответил он, с невозмутимой терпеливостью согласившись сменить тему разговора. – Вы считаете, это много?
– Мне кажется, это достаточное количество. Здесь не видно женщин. Они не допускаются?
– Им не запрещено приходить сюда, – нахмурился он, подыскивая точные слова. – Но они не хотят приходить. У них есть свои места, где они собираются, чтобы обсудить свои дела, послушать музыку и пение, а мужчины в свою очередь предпочитают не беспокоить их там.
К нам подошел очень пожилой человек в костюме, известном под названием курта-паджама и состоящем из простой холщовой рубахи и тонких мешковатых штанов. Старик сел у ног Кадербхая. Он был худ, согбен и, несомненно, беден. Лицо его было изборождено глубокими морщинами, белые волосы высоко подбриты, как у панка. Коротко, но уважительно кивнув Кадеру, он начал перемешивать табак и гашиш своими узловатыми пальцами. Через несколько минут он протянул Кадеру огромный чиллум, держа наготове спички, чтобы разжечь его.
– Этого человека зовут Омар, – сказал Кадербхай. – Никто в Бомбее не умеет приготовить чиллум лучше его.
Польщенный, Омар расплылся в беззубой улыбке, зажег спичку и дал Кадербхаю прикурить. Затем он передал чиллум мне и, понаблюдав критическим взором за тем, как я с ним обращаюсь, нечленораздельно буркнул что-то одобрительное. После того как мы с Кадером сделали по две затяжки, Омар закурил чиллум сам и прикончил его мощными затяжками, от которых его впалая грудь вздымалась так, что, казалось, вот-вот лопнет. Вытряхнув остатки белого пепла из чиллума, старик пососал его, чтобы высушить. Кадербхай с одобрением кивнул. Несмотря на свой почтенный возраст, Омар легко поднялся на ноги, не касаясь руками пола, и удалился, а в это время на сцену снова вышли певцы.
Вернулся и Абдулла, принесший с собой хрустальную чашу, наполненную ломтиками манго, папайи и арбуза. Аромат фруктов разнесся в воздухе, а сами они таяли у нас во рту. Второе отделение концерта состояло всего из одной песни, но длилась она почти полчаса. Звучала песня очень величественно; в ее основе лежала простая мелодия, которую исполнители украшали импровизированными каденциями. Музыканты аккомпанировали певцам, вовсю наяривая на таблах[60 - Табла – небольшой барабан овальной формы.], но лица певцов были бесстрастны, они сидели закрыв глаза и не шевелясь.