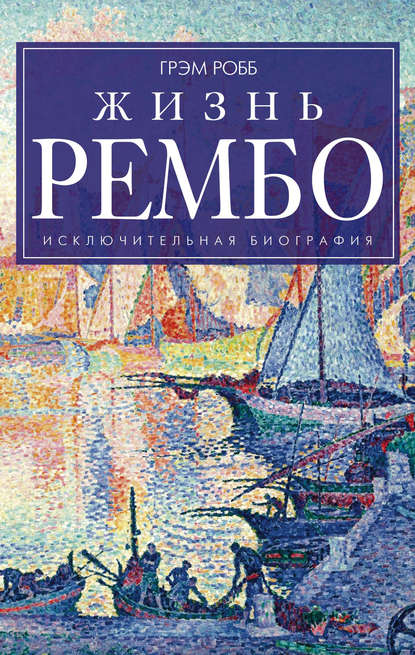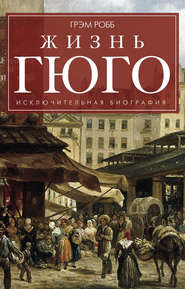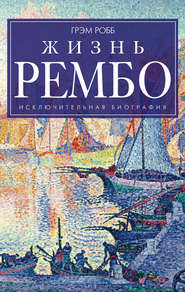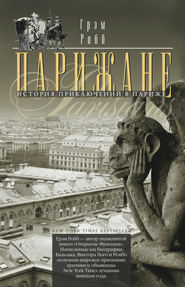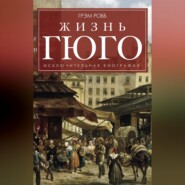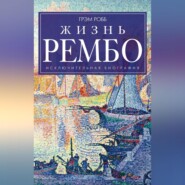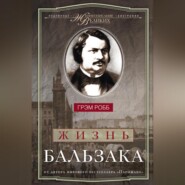По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь Рембо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Месье.
Я чрезвычайно признательна вам за все, что вы делаете для Артюра. Вы даете ему щедрые советы и дополнительные внеклассные задания. На подобное внимание мы не имеем никакого права.
Но есть нечто, чего я не могу одобрить, например, чтение книг, вроде той, что вы дали ему несколько дней назад («Отверженные» V. Hugot [sic! – Гюгота]). Вы должны знать лучше меня, месье, что следует проявлять большую осторожность в выборе книг, которые должны быть предложены детям. По этой причине я полагаю, что Артюр, должно быть, взял эту книгу без вашего ведома. Было бы, конечно, опасно разрешать ему подобное чтение».
«Отверженные» были «опасны», поскольку, как мадам Рембо напомнила Изамбару на встрече, организованной директором, Виктор Гюго был врагом церкви и государства, которое, как и положено, выдворило его из Франции[102 - Изамбар (Izambard (59–60) говорит, что книга была Notre-Dame de Paris («Собор Парижской Богоматери»).]. Поскольку «Отверженные» были в списке запрещенных книг, она, наверное, не читала эту книгу, иначе бы знала, что главный герой был беглым каторжником, ничем не отличающимся от бродяги дяди Шарля.
Но останавливать разложение стало слишком поздно. У Артюра уже вошло в привычку разговаривать с незнакомыми людьми, которых он встречал по дороге, – землекопами, рабочими каменоломен и бродягами. Даже когда они были пьяны, говорил он Делаэ, они ближе к природе и, поистине, более интеллектуальны, чем образованные лицемеры его собственного класса[103 - D, 277–278.]. Это были люди, которые, как капитан Рембо, могли отправиться в путь и больше не вернуться.
Как видно из отрывков «Одного лета в аду», эти западные кочевники стали для Рембо ролевыми моделями и настойчиво занимали его фантазии.
Его мать была, очевидно, права в своих опасениях.
«Еще ребенком я восхищался несговорчивым каторжником, – пишет Рембо, – которого всегда ожидали оковы; меня тянуло к постоялым дворам и трактирам, где он побывал: для меня они стали священны. Его глазами я смотрел на небо и на расцветающую в полях работу; в городах я искал следы его рока. У него было больше силы, чем у святого, и больше здравого смысла, чем у странствующих по белу свету, – и он, он один, был свидетелем славы своей и ума».
Мадам Рембо была не одинока в опасениях губительных влияний. 19 июля 1870 года правительство Наполеона III воспользовалось незначительным предлогом и объявило войну Германии. Победа, как предполагалось, будет стремительной и всеобщей. Вся страна, в том числе и недовольные республиканцы, мысленно объединятся в состоянии войны, уверенные в своей правоте. Империя будет спасена.
В то лето жители города Шарлевиля стояли на порогах, подбадривая храбрых солдат, когда те отправлялись на фронт за победой с криками: «На Берлин!» Брат Фред вдохновился пойти и выпить пива за счет врага. Он двинулся в путь не попрощавшись. Несмотря на несовершеннолетие, Фредерик умудрился поступить в полк и провел следующие несколько месяцев, попав в ловушку прусской армии в Меце[104 - D, 32–33.].
Артюр облил своего милитаристского брата презрением. Он уже отказывался носить новую военизированную школьную форму, и, когда его товарищи-соученики пафосно заявили о своем намерении пожертвовать деньги от продажи призовых книг на военные нужды, отказался участвовать в этой затее[105 - D, 176–177; Goffin, 22–23.]. Это был серьезный удар, поскольку Рембо был единственным учеником в своем классе, который завоевывал награды. Он тем не менее согласился продать свои книги предложившему наивысшую цену.
Для Рембо этот простодушный шовинизм был общенациональной эпидемией ограниченной провинциальности. Любой поэт, казалось ему, должен быть против империи. Поэтому Делаэ удалось завоевать его доверие, когда тот пересек бельгийскую границу, вошел в кафе и заучил наизусть отрывки из последних La Lanterne («Фонарь»)[106 - D, 71.] – карманного журнала с кроваво-красной обложкой, который был запрещен во Франции из-за подстрекательства к мятежу и изображения Наполеона III карикатурным идиотом. «Фонарь» издавал Анри Рошфор, который жил в Брюсселе в доме Виктора Гюго: доказательство того, что романтическая литература может по-прежнему бросать бомбы в правящую элиту.
Книжные лавки Шарлевиля были плохим источником подрывной литературы. Рембо вооружился своим талантом и написал дерзкое песенное стихотворение о ласках мальчика и девочки Trois baisers («Три поцелуя»), которое он послал в беспощадный сатирический журнал La Charge. Стихотворение было напечатано 13 августа 1870 года и принесло ему бесплатную подписку[107 - CEuvres compl?tes (1946), 629–630. Позднее озаглавленные 'Premi?re soirеe'.].
Когда объявили войну, он добавил тупой жаргонной риторики республиканской пропаганды в свой литературный арсенал и посвятил два стихотворения Le Forgeron («Кузнец») и Morts de Quatrevingt-douze («Французы, вспомните, как в девяносто третьем…») героям Французской революции, этим «ста тысячам мертвецов с глазами Иисуса»[108 - Данные Изамбару (Izambard) накануне объявления войны (т.e. 18 июля: cf. Iz, 63).].
Поскольку, казалось, было предрешено, что Франция разгромит врага в течение нескольких недель и консолидирует империю, эти стихи вряд ли были кратчайшим путем к литературной карьере. Но когда он в конце концов добрался до Парижа, – первое, что он намеревался сделать, как он говорил Изамбару, даже если это означало «умереть под грудой камней» по дороге, – войти в идеальное общество «братьев» поэтов. Оно, несомненно, примет его за того, кем он был.
Учебный 1869/70 год закончился в блеске и нищете. Рембо снова был первым в региональном экзамене на этот раз с произведением под названием «Санчо Панса оплакивает своего мертвого осла» (не опубликованным из-за войны и ныне утраченным). Награждение 6 августа было в значительной степени делом местной буржуазии, приветствующей Артюра Рембо овациями. Но Изамбара не было там, чтобы увидеть, как его ученик усмехается этим аплодисментам. Он уехал 24 июля в дом своих тетушек в Дуэ. Рембо был в предвкушении долгого и иссушающего лета.
К счастью, Изамбар сказал Владельцу, чтобы тот давал Рембо ключ от его квартиры. Каждый день он отправлялся посидеть в бассейне книг Изамбара, словно запекшаяся губка. К тому времени, когда он написал своему учителю 25 августа, он впитал в себя всю библиотеку и уже перечитывал книги, которые не показались ему особенно интересными с первого раза.
Стремительность, с которой читал Рембо, как правило, скрывает то стремление обрести энциклопедические знания, которое литературно роднит его с Бальзаком. Идея была не в том, чтобы постепенно накапливать знания, а в том, чтобы поглотить и переварить все как можно быстрее, даже если это закончится отрыжкой и несварением. Несколько недель спустя он нашел идеальный образ для своей работы в эссе Монтеня и стал декламировать его всем, кто хотел слушать:
«Поэт, сидящий на треножнике Муз, яростно изрыгает все, что входит в его уста, как фонтанная горгулья, и нет спасения от него вещам, иным по цвету, антивеществу и прерванному потоку».
Этому было дано хорошее описание в его письме к Изамбару. Конверт был помечен: «Очень спешно».
«Месье.
Вам повезло, что вы больше не живете в Шарлевиле! Мой родной город не уступает по глупости всем остальным провинциальным городкам[109 - «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Матф. 2: 6. – Авт.]. Больше я не питаю никаких иллюзий на этот счет. […] Это ужасное зрелище, когда ушедшие на покой бакалейщики нацепляют на себя военный мундир. Удивительное зрелище представляют собою все эти нотариусы, стекольщики, сборщики податей и краснодеревщики – все эти пузаны, патриолирующие [qui font du patrouillotisme] ворота Мезьера. Мое Отечество поднимается на дыбы! Лично я предпочитаю видеть его сидящим. Не взбалтывай себя – вот мой девиз.
Я дезориентирован, болен, раздражителен, глуп и растерян. Я мечтал о солнечных ваннах, бесконечных прогулках, отдыхе, путешествиях, приключениях – цыганщине. Я особенно надеялся на некоторые газеты и книги. Ничего! Абсолютно ничего! Почта прекратила доставку книгопродавцам. Париж действительно обращается с нами как с убогими: ни одной новой книги! Смерть! Что касается газет, я унизился до почтенного Courrier des Ardennes («Арденнского вестника»). […] Он суммирует стремления, желания и мнения населения. Можете себе представить! Убийственно потрясающе!.. Изгнанники в собственной стране!!!»
После эмоционального изображения этой картины разочарования Рембо скопировал большой отрывок вязко сентиментального стиха Луизы Зайферт о бездетной молодой женщине. Одна строка была отмечена его восхищением: «Жизнь моя в восемнадцать лет уже имеет целое прошлое». «Это столь же красиво, как плач Антигоны у Софокла», – прокомментировал юный эрудит. (На самом деле он нашел это высказывание в предисловии редактора и скопировал его слово в слово.)
Он также успел прочитать «весьма странную и забавную» книгу стихов молодого парнасца, Поля Верлена – поэта, который не боится нарушать давно установленные правила французского стихосложения. F?tes galantes («Галантные празднества») Верлена содержали первый пример, который когда-либо видел Рембо, александрийского стиха, в котором цезура захватывала слово – аналогично внезапному мимолетному изменению в тактовом размере[110 - Строчка Верлена «Et la tigresse еpou vantable d’Hyrcanie» из стихотворения Dans la grotte («В пещере») выглядит оскорблением правилу стихосложения, согласно которому в гекзаметре после шестого слога идет пауза:О, как вы мучите сердца!Умру пред вашими ногами.Тигрицу Гиркании сравнивая с вами,Скажу: ты – кроткая овца!(Пер. Ф. К. Сологуба). – Авт.]. Странные вещи происходят в литературной столице…
«Au revoir. Пришлите мне 25-страничное письмо, – poste restante (до востребования) – и сделайте это живее!
А. Рембо».
Загадочный постскриптум намекал на какую-то эскападу: «Скоро буду посылать вам откровения о жизни, которую я собираюсь вести… после каникул…»
День или два спустя Рембо собрал несколько книг и отнес их к торговцу подержанными книгами. На этот раз вместо того, чтобы обменять их на новые, он попросил наличные и вернулся домой, загадочный и полный решимости.
Между тем ушедшие на покой бакалейщики Шарлевиля стали проявлять все меньше энтузиазма по поводу их «патриолирования». Отступающие вразброд солдаты входили в город, выжившие в самой неумелой военной кампании в современной истории Франции. Шарлевильский коллеж был превращен в госпиталь. Погода была хорошая, но слышались отзвуки далекого грома. В 18 километрах к востоку, в Седане, больной Наполеон III смотрел на прусскую артиллерию через дымку ружейных выстрелов и опиума. Его прекрасная армия была разбита. На шарлевильском вокзале путешественников информировали о том, что на юге пруссаки разобрали пути. Все желающие попасть в Париж должны сесть на поезд, идущий в обратном направлении до Шарлеруа (Бельгия), и затем пересесть на линию Сен-Кантен.
31 августа, в то время как мадам Рембо сидела у окна, глядя на грязные улицы в состоянии сдержанной паники, поезд из Шарлеруа пересекал равнины Северной Франции. В вагоне третьего класса маленький мальчик прятался под сиденьем, наблюдая за контролером, проверяющим билеты. На свои последние франки он купил билет до Сен-Кантена, но поезд миновал станцию Сен-Кантен несколько часов назад. Теперь он достиг «военной зоны», где дороги были запружены повозками семейств, оставивших свои деревни врагу и держащих путь на запад.
Скоро поезд войдет в гравитационное поле огромного города, неисчерпаемую сокровищницу книг и газет, города, где живут поэты.
Глава 5. Убеждения
Я не пленник своего разума.
Дурная кровь, Одно лето в аду
На Северном вокзале Рембо выбрался из вагона и смешался с толпой, которая направлялась к выходу. Увлекаемый потоком пассажиров, он продвигался по перрону. Двое мужчин в форме железнодорожных служащих спросили у него билет. Его отвели в сторону и обыскали: подозрительный маленький тип с длинными волосами, в грязной, но респектабельной одежде. Он говорил с акцентом, который может быть иностранным. В его карманах, как оказалось, лежали непонятные заметки, написанные строками разной длины. Легенда о том, что он был заподозрен в шпионаже, вполне правдоподобна. Прессу наводнили сообщения о попытках переворота и политических агитаторах, возвращающихся из-за рубежа. Через пять дней после ареста Рембо на тот же вокзал прибыл Виктор Гюго, но с билетом первого класса и в сопровождении восторженной толпы. Гюго и его республиканские сторонники, как полагали, образовали альянс с пруссаками. Безбилетный мальчишка, приехавший из области, которая теперь находилась в руках противника, мог оказаться частью этого авангарда.
Выдать свой возраст за семнадцать с половиной, может быть, и было хорошей идей в профессиональном смысле (в трех разных стихотворениях, написанных незадолго до его шестнадцатого дня рождения, Рембо намекал, что ему было семнадцать); с юридической же точки зрения это было самоубийством. Любой, кому уже исполнилось шестнадцать, осужденный за бродяжничество, приговаривался к шести месяцам тюремного заключения[111 - Ross, 58. См. Brune, elle avait…, Les Reparties de Nina, Roman и оба письма к Банвиллю.].
Рембо смотрел на верхние этажи многоквартирных домов, мелькавшие за решеткой в торце полицейского фургона – знаменитой «салатной корзины», о которой он раньше читал в «Отверженных». Фургон скатился вниз по бульварам до центра Парижа, пересек Сену и остановился во дворе главного полицейского управления. Рембо препроводили в контору, где его допросил сержант, затем отправили в тюремный двор, пока его дело начало свое административное путешествие[112 - PR, 45.].
В последние дни империи дела рассматривались быстро. Рембо оказался в окружении преступников, изнывающих от безделья, – сутенеров, воров-карманников и анархистов. Определенно в тот день произошло что-то неприятное, возможно, просто «ритуальное избиение», как заявлял Изамбар. Но Изамбар имел тенденцию не верить в рассказы Рембо «о жизни в дикой природе». Заявление Рембо о том, что ему «не раз приходилось защищать свою добродетель» от непристойных посягательств, является вполне достоверным.
В конце концов он предстал перед следователем и отвечал на вопросы, задаваемые ему, с таким «ироническим презрением» (по его же словам)[113 - D, 177.], что он, казалось, всем сердцем стремился в тюрьму. Поскольку у парня не было денег и он не смог дать адреса в Париже, магистрату ничего не оставалось, как отправить его в Ма-засский арестный дом.
Мучительный тур Рембо по Парижу теперь продолжился на восток, вдоль улицы Сен-Антуан, в сторону площади Бастилии и пролетарской окраины. В конце концов «салатная корзина» прибыла к зданию, которое путеводитель Томаса Кука по Парижу описывал туристам как «мрачный и отталкивающего вида» монумент[114 - Cook, 82.]. Кирпичные стены Мазасского арестного дома возвышались над мрачным фабричным районом и трущобами. Флагман французской уголовно-исполнительной системы, Мазасский арестный дом был разделен на отдельные камеры, чтобы люди, чьи преступления носили «существенно разный моральный характер», не общались между собой[115 - Larousse.]. Очевидно, эта идея еще не стала модной в префектуре полиции.
Рембо был раздет, обрит наголо, измерен – 5 футов 4 дюйма (162,5 см) – и отправлен принимать душ, пока его одежду окуривали. Затем его препроводили мимо ряда дверей и заперли в камере. В ней была газовая лампа, стол и табурет, два котелка для похлебки, бутыль с водой, крючки, на которых вешали гамак на ночь, и последнее слово санитарного оборудования – «туалет без запаха, оснащенный вентилятором», разительный контраст едкой уборной дома. Питание доставлялось в металлических тележках, которые ходили по миниатюрным рельсам.
Прошло несколько дней. В стране, близкой к краху, несовершеннолетние бродяги не были внеочередным приоритетом. Рембо писал домой, но письмо так и не дошло. Сообщение было внезапно прервано. Император сдался при Седане на следующий день после ареста Рембо. Прусская армия двигалась на Париж.
На улицах рождалась современная Франция. 4 сентября на умеренное республиканское правительство была возложена задача защищать то, что осталось от Франции, от победоносных пруссаков. Слово «имперский» в письме Рембо Изамбару свидетельствует о том, что Рембо ничего не знал об этих событиях. Единственным звуком, доносившимся до него из внешнего мира, был грохот поезда на близлежащем железнодорожном мосту.
«Париж, [понедельник] 5 сентября 1870 г.
Месье.
Я сделал все, что вы советовали мне не делать: я оставил дом своей матери и отправился в Париж! Арестован, так как я сошел с поезда без денег, и из-за долга железной дороге в тринадцать франков меня отвезли в префектуру, и теперь я ожидаю приговора в Мазасском арестном доме!
Ах! Я уповаю на вас, как на родную мать. Вы всегда были для меня братом, и я настоятельно прошу не оставить меня без помощи. Я написал матери, имперскому прокурору и комиссару полиции Шарлевиля. Если вы не получите от меня известий до среды, когда из Дуэ отправляется поезд до Парижа, садитесь на этот поезд и приезжайте сюда, чтобы подать либо письменное заявление, либо увидеться с прокурором и попросить его выдать меня вам на поруки и оплатить мой долг! Сделайте все возможное и, когда получите это письмо, напишите, – да, я требую этого от вас, – напишите моей бедной матери (набережная Мадлен, дом 5, Шарлевиль), чтобы ее успокоить. Мне тоже напишите. Сделайте все, что в ваших силах! Я люблю вас, как брата, и буду любить, как отца. С приветом, ваш бедный Артюр Рембо».
Внизу страницы крошечный постскриптум содержал основной смысл письма, возможно, даже цель всего приключения. Рембо знал, что в шляпном магазинчике в Дуэ, в 160 километрах к северу, живут три добрых сестры – тетки сироты, которого они вырастили как собственного сына, – Жоржа Изамбара: «И если вам удастся освободить меня, возьмите меня с собой в Дуэ».
У «бедного Артюра Рембо» была странно агрессивная манера вызывать жалость. С его уверенными требованиями, детализацией точного способа, которым должна быть предложена помощь, и уклонением от слова «пожалуйста» письмо Рембо Изамбару дает яркое изображение его воспитания: любая привязанность была неразрывно связана с принуждением. Резкость его самоанализа – это одна из радостей его поэзии. В жизни это принимало форму эмоционального шантажа: Рембо имел разговор с «отцом». Изамбар, который уже на себе прочувствовал темперамент мадам Рембо, должен был написать матери Артюра и «успокоить» ее…
Я чрезвычайно признательна вам за все, что вы делаете для Артюра. Вы даете ему щедрые советы и дополнительные внеклассные задания. На подобное внимание мы не имеем никакого права.
Но есть нечто, чего я не могу одобрить, например, чтение книг, вроде той, что вы дали ему несколько дней назад («Отверженные» V. Hugot [sic! – Гюгота]). Вы должны знать лучше меня, месье, что следует проявлять большую осторожность в выборе книг, которые должны быть предложены детям. По этой причине я полагаю, что Артюр, должно быть, взял эту книгу без вашего ведома. Было бы, конечно, опасно разрешать ему подобное чтение».
«Отверженные» были «опасны», поскольку, как мадам Рембо напомнила Изамбару на встрече, организованной директором, Виктор Гюго был врагом церкви и государства, которое, как и положено, выдворило его из Франции[102 - Изамбар (Izambard (59–60) говорит, что книга была Notre-Dame de Paris («Собор Парижской Богоматери»).]. Поскольку «Отверженные» были в списке запрещенных книг, она, наверное, не читала эту книгу, иначе бы знала, что главный герой был беглым каторжником, ничем не отличающимся от бродяги дяди Шарля.
Но останавливать разложение стало слишком поздно. У Артюра уже вошло в привычку разговаривать с незнакомыми людьми, которых он встречал по дороге, – землекопами, рабочими каменоломен и бродягами. Даже когда они были пьяны, говорил он Делаэ, они ближе к природе и, поистине, более интеллектуальны, чем образованные лицемеры его собственного класса[103 - D, 277–278.]. Это были люди, которые, как капитан Рембо, могли отправиться в путь и больше не вернуться.
Как видно из отрывков «Одного лета в аду», эти западные кочевники стали для Рембо ролевыми моделями и настойчиво занимали его фантазии.
Его мать была, очевидно, права в своих опасениях.
«Еще ребенком я восхищался несговорчивым каторжником, – пишет Рембо, – которого всегда ожидали оковы; меня тянуло к постоялым дворам и трактирам, где он побывал: для меня они стали священны. Его глазами я смотрел на небо и на расцветающую в полях работу; в городах я искал следы его рока. У него было больше силы, чем у святого, и больше здравого смысла, чем у странствующих по белу свету, – и он, он один, был свидетелем славы своей и ума».
Мадам Рембо была не одинока в опасениях губительных влияний. 19 июля 1870 года правительство Наполеона III воспользовалось незначительным предлогом и объявило войну Германии. Победа, как предполагалось, будет стремительной и всеобщей. Вся страна, в том числе и недовольные республиканцы, мысленно объединятся в состоянии войны, уверенные в своей правоте. Империя будет спасена.
В то лето жители города Шарлевиля стояли на порогах, подбадривая храбрых солдат, когда те отправлялись на фронт за победой с криками: «На Берлин!» Брат Фред вдохновился пойти и выпить пива за счет врага. Он двинулся в путь не попрощавшись. Несмотря на несовершеннолетие, Фредерик умудрился поступить в полк и провел следующие несколько месяцев, попав в ловушку прусской армии в Меце[104 - D, 32–33.].
Артюр облил своего милитаристского брата презрением. Он уже отказывался носить новую военизированную школьную форму, и, когда его товарищи-соученики пафосно заявили о своем намерении пожертвовать деньги от продажи призовых книг на военные нужды, отказался участвовать в этой затее[105 - D, 176–177; Goffin, 22–23.]. Это был серьезный удар, поскольку Рембо был единственным учеником в своем классе, который завоевывал награды. Он тем не менее согласился продать свои книги предложившему наивысшую цену.
Для Рембо этот простодушный шовинизм был общенациональной эпидемией ограниченной провинциальности. Любой поэт, казалось ему, должен быть против империи. Поэтому Делаэ удалось завоевать его доверие, когда тот пересек бельгийскую границу, вошел в кафе и заучил наизусть отрывки из последних La Lanterne («Фонарь»)[106 - D, 71.] – карманного журнала с кроваво-красной обложкой, который был запрещен во Франции из-за подстрекательства к мятежу и изображения Наполеона III карикатурным идиотом. «Фонарь» издавал Анри Рошфор, который жил в Брюсселе в доме Виктора Гюго: доказательство того, что романтическая литература может по-прежнему бросать бомбы в правящую элиту.
Книжные лавки Шарлевиля были плохим источником подрывной литературы. Рембо вооружился своим талантом и написал дерзкое песенное стихотворение о ласках мальчика и девочки Trois baisers («Три поцелуя»), которое он послал в беспощадный сатирический журнал La Charge. Стихотворение было напечатано 13 августа 1870 года и принесло ему бесплатную подписку[107 - CEuvres compl?tes (1946), 629–630. Позднее озаглавленные 'Premi?re soirеe'.].
Когда объявили войну, он добавил тупой жаргонной риторики республиканской пропаганды в свой литературный арсенал и посвятил два стихотворения Le Forgeron («Кузнец») и Morts de Quatrevingt-douze («Французы, вспомните, как в девяносто третьем…») героям Французской революции, этим «ста тысячам мертвецов с глазами Иисуса»[108 - Данные Изамбару (Izambard) накануне объявления войны (т.e. 18 июля: cf. Iz, 63).].
Поскольку, казалось, было предрешено, что Франция разгромит врага в течение нескольких недель и консолидирует империю, эти стихи вряд ли были кратчайшим путем к литературной карьере. Но когда он в конце концов добрался до Парижа, – первое, что он намеревался сделать, как он говорил Изамбару, даже если это означало «умереть под грудой камней» по дороге, – войти в идеальное общество «братьев» поэтов. Оно, несомненно, примет его за того, кем он был.
Учебный 1869/70 год закончился в блеске и нищете. Рембо снова был первым в региональном экзамене на этот раз с произведением под названием «Санчо Панса оплакивает своего мертвого осла» (не опубликованным из-за войны и ныне утраченным). Награждение 6 августа было в значительной степени делом местной буржуазии, приветствующей Артюра Рембо овациями. Но Изамбара не было там, чтобы увидеть, как его ученик усмехается этим аплодисментам. Он уехал 24 июля в дом своих тетушек в Дуэ. Рембо был в предвкушении долгого и иссушающего лета.
К счастью, Изамбар сказал Владельцу, чтобы тот давал Рембо ключ от его квартиры. Каждый день он отправлялся посидеть в бассейне книг Изамбара, словно запекшаяся губка. К тому времени, когда он написал своему учителю 25 августа, он впитал в себя всю библиотеку и уже перечитывал книги, которые не показались ему особенно интересными с первого раза.
Стремительность, с которой читал Рембо, как правило, скрывает то стремление обрести энциклопедические знания, которое литературно роднит его с Бальзаком. Идея была не в том, чтобы постепенно накапливать знания, а в том, чтобы поглотить и переварить все как можно быстрее, даже если это закончится отрыжкой и несварением. Несколько недель спустя он нашел идеальный образ для своей работы в эссе Монтеня и стал декламировать его всем, кто хотел слушать:
«Поэт, сидящий на треножнике Муз, яростно изрыгает все, что входит в его уста, как фонтанная горгулья, и нет спасения от него вещам, иным по цвету, антивеществу и прерванному потоку».
Этому было дано хорошее описание в его письме к Изамбару. Конверт был помечен: «Очень спешно».
«Месье.
Вам повезло, что вы больше не живете в Шарлевиле! Мой родной город не уступает по глупости всем остальным провинциальным городкам[109 - «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». Матф. 2: 6. – Авт.]. Больше я не питаю никаких иллюзий на этот счет. […] Это ужасное зрелище, когда ушедшие на покой бакалейщики нацепляют на себя военный мундир. Удивительное зрелище представляют собою все эти нотариусы, стекольщики, сборщики податей и краснодеревщики – все эти пузаны, патриолирующие [qui font du patrouillotisme] ворота Мезьера. Мое Отечество поднимается на дыбы! Лично я предпочитаю видеть его сидящим. Не взбалтывай себя – вот мой девиз.
Я дезориентирован, болен, раздражителен, глуп и растерян. Я мечтал о солнечных ваннах, бесконечных прогулках, отдыхе, путешествиях, приключениях – цыганщине. Я особенно надеялся на некоторые газеты и книги. Ничего! Абсолютно ничего! Почта прекратила доставку книгопродавцам. Париж действительно обращается с нами как с убогими: ни одной новой книги! Смерть! Что касается газет, я унизился до почтенного Courrier des Ardennes («Арденнского вестника»). […] Он суммирует стремления, желания и мнения населения. Можете себе представить! Убийственно потрясающе!.. Изгнанники в собственной стране!!!»
После эмоционального изображения этой картины разочарования Рембо скопировал большой отрывок вязко сентиментального стиха Луизы Зайферт о бездетной молодой женщине. Одна строка была отмечена его восхищением: «Жизнь моя в восемнадцать лет уже имеет целое прошлое». «Это столь же красиво, как плач Антигоны у Софокла», – прокомментировал юный эрудит. (На самом деле он нашел это высказывание в предисловии редактора и скопировал его слово в слово.)
Он также успел прочитать «весьма странную и забавную» книгу стихов молодого парнасца, Поля Верлена – поэта, который не боится нарушать давно установленные правила французского стихосложения. F?tes galantes («Галантные празднества») Верлена содержали первый пример, который когда-либо видел Рембо, александрийского стиха, в котором цезура захватывала слово – аналогично внезапному мимолетному изменению в тактовом размере[110 - Строчка Верлена «Et la tigresse еpou vantable d’Hyrcanie» из стихотворения Dans la grotte («В пещере») выглядит оскорблением правилу стихосложения, согласно которому в гекзаметре после шестого слога идет пауза:О, как вы мучите сердца!Умру пред вашими ногами.Тигрицу Гиркании сравнивая с вами,Скажу: ты – кроткая овца!(Пер. Ф. К. Сологуба). – Авт.]. Странные вещи происходят в литературной столице…
«Au revoir. Пришлите мне 25-страничное письмо, – poste restante (до востребования) – и сделайте это живее!
А. Рембо».
Загадочный постскриптум намекал на какую-то эскападу: «Скоро буду посылать вам откровения о жизни, которую я собираюсь вести… после каникул…»
День или два спустя Рембо собрал несколько книг и отнес их к торговцу подержанными книгами. На этот раз вместо того, чтобы обменять их на новые, он попросил наличные и вернулся домой, загадочный и полный решимости.
Между тем ушедшие на покой бакалейщики Шарлевиля стали проявлять все меньше энтузиазма по поводу их «патриолирования». Отступающие вразброд солдаты входили в город, выжившие в самой неумелой военной кампании в современной истории Франции. Шарлевильский коллеж был превращен в госпиталь. Погода была хорошая, но слышались отзвуки далекого грома. В 18 километрах к востоку, в Седане, больной Наполеон III смотрел на прусскую артиллерию через дымку ружейных выстрелов и опиума. Его прекрасная армия была разбита. На шарлевильском вокзале путешественников информировали о том, что на юге пруссаки разобрали пути. Все желающие попасть в Париж должны сесть на поезд, идущий в обратном направлении до Шарлеруа (Бельгия), и затем пересесть на линию Сен-Кантен.
31 августа, в то время как мадам Рембо сидела у окна, глядя на грязные улицы в состоянии сдержанной паники, поезд из Шарлеруа пересекал равнины Северной Франции. В вагоне третьего класса маленький мальчик прятался под сиденьем, наблюдая за контролером, проверяющим билеты. На свои последние франки он купил билет до Сен-Кантена, но поезд миновал станцию Сен-Кантен несколько часов назад. Теперь он достиг «военной зоны», где дороги были запружены повозками семейств, оставивших свои деревни врагу и держащих путь на запад.
Скоро поезд войдет в гравитационное поле огромного города, неисчерпаемую сокровищницу книг и газет, города, где живут поэты.
Глава 5. Убеждения
Я не пленник своего разума.
Дурная кровь, Одно лето в аду
На Северном вокзале Рембо выбрался из вагона и смешался с толпой, которая направлялась к выходу. Увлекаемый потоком пассажиров, он продвигался по перрону. Двое мужчин в форме железнодорожных служащих спросили у него билет. Его отвели в сторону и обыскали: подозрительный маленький тип с длинными волосами, в грязной, но респектабельной одежде. Он говорил с акцентом, который может быть иностранным. В его карманах, как оказалось, лежали непонятные заметки, написанные строками разной длины. Легенда о том, что он был заподозрен в шпионаже, вполне правдоподобна. Прессу наводнили сообщения о попытках переворота и политических агитаторах, возвращающихся из-за рубежа. Через пять дней после ареста Рембо на тот же вокзал прибыл Виктор Гюго, но с билетом первого класса и в сопровождении восторженной толпы. Гюго и его республиканские сторонники, как полагали, образовали альянс с пруссаками. Безбилетный мальчишка, приехавший из области, которая теперь находилась в руках противника, мог оказаться частью этого авангарда.
Выдать свой возраст за семнадцать с половиной, может быть, и было хорошей идей в профессиональном смысле (в трех разных стихотворениях, написанных незадолго до его шестнадцатого дня рождения, Рембо намекал, что ему было семнадцать); с юридической же точки зрения это было самоубийством. Любой, кому уже исполнилось шестнадцать, осужденный за бродяжничество, приговаривался к шести месяцам тюремного заключения[111 - Ross, 58. См. Brune, elle avait…, Les Reparties de Nina, Roman и оба письма к Банвиллю.].
Рембо смотрел на верхние этажи многоквартирных домов, мелькавшие за решеткой в торце полицейского фургона – знаменитой «салатной корзины», о которой он раньше читал в «Отверженных». Фургон скатился вниз по бульварам до центра Парижа, пересек Сену и остановился во дворе главного полицейского управления. Рембо препроводили в контору, где его допросил сержант, затем отправили в тюремный двор, пока его дело начало свое административное путешествие[112 - PR, 45.].
В последние дни империи дела рассматривались быстро. Рембо оказался в окружении преступников, изнывающих от безделья, – сутенеров, воров-карманников и анархистов. Определенно в тот день произошло что-то неприятное, возможно, просто «ритуальное избиение», как заявлял Изамбар. Но Изамбар имел тенденцию не верить в рассказы Рембо «о жизни в дикой природе». Заявление Рембо о том, что ему «не раз приходилось защищать свою добродетель» от непристойных посягательств, является вполне достоверным.
В конце концов он предстал перед следователем и отвечал на вопросы, задаваемые ему, с таким «ироническим презрением» (по его же словам)[113 - D, 177.], что он, казалось, всем сердцем стремился в тюрьму. Поскольку у парня не было денег и он не смог дать адреса в Париже, магистрату ничего не оставалось, как отправить его в Ма-засский арестный дом.
Мучительный тур Рембо по Парижу теперь продолжился на восток, вдоль улицы Сен-Антуан, в сторону площади Бастилии и пролетарской окраины. В конце концов «салатная корзина» прибыла к зданию, которое путеводитель Томаса Кука по Парижу описывал туристам как «мрачный и отталкивающего вида» монумент[114 - Cook, 82.]. Кирпичные стены Мазасского арестного дома возвышались над мрачным фабричным районом и трущобами. Флагман французской уголовно-исполнительной системы, Мазасский арестный дом был разделен на отдельные камеры, чтобы люди, чьи преступления носили «существенно разный моральный характер», не общались между собой[115 - Larousse.]. Очевидно, эта идея еще не стала модной в префектуре полиции.
Рембо был раздет, обрит наголо, измерен – 5 футов 4 дюйма (162,5 см) – и отправлен принимать душ, пока его одежду окуривали. Затем его препроводили мимо ряда дверей и заперли в камере. В ней была газовая лампа, стол и табурет, два котелка для похлебки, бутыль с водой, крючки, на которых вешали гамак на ночь, и последнее слово санитарного оборудования – «туалет без запаха, оснащенный вентилятором», разительный контраст едкой уборной дома. Питание доставлялось в металлических тележках, которые ходили по миниатюрным рельсам.
Прошло несколько дней. В стране, близкой к краху, несовершеннолетние бродяги не были внеочередным приоритетом. Рембо писал домой, но письмо так и не дошло. Сообщение было внезапно прервано. Император сдался при Седане на следующий день после ареста Рембо. Прусская армия двигалась на Париж.
На улицах рождалась современная Франция. 4 сентября на умеренное республиканское правительство была возложена задача защищать то, что осталось от Франции, от победоносных пруссаков. Слово «имперский» в письме Рембо Изамбару свидетельствует о том, что Рембо ничего не знал об этих событиях. Единственным звуком, доносившимся до него из внешнего мира, был грохот поезда на близлежащем железнодорожном мосту.
«Париж, [понедельник] 5 сентября 1870 г.
Месье.
Я сделал все, что вы советовали мне не делать: я оставил дом своей матери и отправился в Париж! Арестован, так как я сошел с поезда без денег, и из-за долга железной дороге в тринадцать франков меня отвезли в префектуру, и теперь я ожидаю приговора в Мазасском арестном доме!
Ах! Я уповаю на вас, как на родную мать. Вы всегда были для меня братом, и я настоятельно прошу не оставить меня без помощи. Я написал матери, имперскому прокурору и комиссару полиции Шарлевиля. Если вы не получите от меня известий до среды, когда из Дуэ отправляется поезд до Парижа, садитесь на этот поезд и приезжайте сюда, чтобы подать либо письменное заявление, либо увидеться с прокурором и попросить его выдать меня вам на поруки и оплатить мой долг! Сделайте все возможное и, когда получите это письмо, напишите, – да, я требую этого от вас, – напишите моей бедной матери (набережная Мадлен, дом 5, Шарлевиль), чтобы ее успокоить. Мне тоже напишите. Сделайте все, что в ваших силах! Я люблю вас, как брата, и буду любить, как отца. С приветом, ваш бедный Артюр Рембо».
Внизу страницы крошечный постскриптум содержал основной смысл письма, возможно, даже цель всего приключения. Рембо знал, что в шляпном магазинчике в Дуэ, в 160 километрах к северу, живут три добрых сестры – тетки сироты, которого они вырастили как собственного сына, – Жоржа Изамбара: «И если вам удастся освободить меня, возьмите меня с собой в Дуэ».
У «бедного Артюра Рембо» была странно агрессивная манера вызывать жалость. С его уверенными требованиями, детализацией точного способа, которым должна быть предложена помощь, и уклонением от слова «пожалуйста» письмо Рембо Изамбару дает яркое изображение его воспитания: любая привязанность была неразрывно связана с принуждением. Резкость его самоанализа – это одна из радостей его поэзии. В жизни это принимало форму эмоционального шантажа: Рембо имел разговор с «отцом». Изамбар, который уже на себе прочувствовал темперамент мадам Рембо, должен был написать матери Артюра и «успокоить» ее…