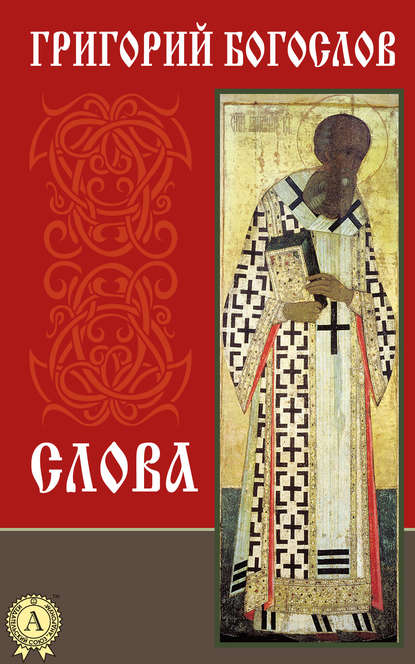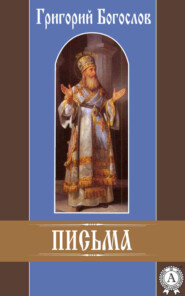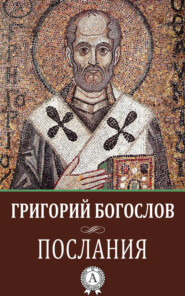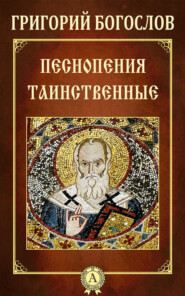По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Слова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, перед вами оправдание моего бегства, и оправдание, может быть, не недостаточное. Сие – то самое удалило меня от вас, друзья и братия, правда, к прискорбию моему, а может быть, и вашему, однако же по необходимости, по крайней мере, как мне тогда представлялось. Возвратили же меня, во – первых, приверженность моя к вам и чувствование вашей взаимной ко мне приверженности (ибо взаимное расположение всего более укрепляет любовь); а во – вторых, собственная моя забота, собственное мое дело – седины и немощь священных родителей, болезнующих более обо мне, нежели о летах своих, – сего Авраама патриарха, драгоценной и равноангельной для меня главы, и Сарры, духовно рождающей нас учением веры. Для них быть жезлом в старости и опорой в немощи составляло первый обещанный мной обет, который и исполнял я по возможности, так что презрел и самое любомудрие – сие стяжание и имя всего для меня драгоценнейшее, или, справедливее сказать, в том и оказал я свое любомудрие, чтобы не казаться любомудрствующим. Почему нестерпимо для меня стало по одному поводу потерять весь труд и лишиться благословения, которое, как сказано об одном из ветхозаветных праведников, даже восхитил он, введя отца в обман снедью и накладными волосами, уловив доброе недобрым средством – через ухищрение. Итак, две причины моей уступчивости и кротости; и, может быть, ни малой нет несообразности в том, что против сих двух причин не устояли и поколебались прежние мои рассуждения. Ибо думаю, что иногда также благовременно уступить над собой победу, как бывает время и для всякого другого дела; и лучше быть честно побеждену, нежели одержать победу со вредом и незаконно. В – третьих же (вот самая важная причина моего возвращения! сказав о ней, умолчу уже о прочих), я вспомнил о временах давних и, встретив одно древнее сказание, извлек из него наставление для себя в настоящем обстоятельстве.
Ибо полагаю, что заключающееся в Писании не без цели написано и не одна куча слов и предметов, собранная для развлечения слушающих, не какая – нибудь приманка для слуха, служащая только к забаве. Такова цель баснословий и тех эллинов, которые, не много заботясь об истине, очаровывают слух и сердце изяществом вымыслов и роскошью выражений.
Но мы, тщательно извлекающие духовный смысл из каждой черты и буквы, нимало не согласны думать (сие было бы и несправедливо), чтобы и самые мало значительные деяния без какой – либо цели были и писателями подробно описаны, и до сего времени сохранены на память. Напротив того, цель их – служить памятниками и уроками, как судить в подобных, если встретятся, обстоятельствах, чтобы мы, следуя сим примерам, как некоторым правилам и предначертанным образцам, могли одного избегать, а другое избирать.
Какое же сказание и в чем состоит наставление? Может быть, не худо будет рассказать сие для утверждения многих. Бежал и Иона от лица Божия, или, вернее сказать, думал убежать, но удержан был морем, бурей, жребием, чревом китовым и тридневным погребением, которое послужило образом высшего таинства. Но Иона бежал, чтобы не идти к ниневитянам с печальной и необыкновенной вестью и чтобы впоследствии не оказаться лжецом, если город спасется через покаяние. Ибо не спасение злочестивых огорчало его, но он стыдился быть служителем лжи и как бы ревновал о достоверности пророчества, которая в нем могла подвергнуться сомнению, потому что многие не способны проникать в глубину Божия о сем домостроительства. А как слышал я о сем от одного мудрого мужа, который не неприлично объяснял видимую несообразность сказания и способен был разуметь глубокий смысл пророка, – не такая причина сделала блаженного Иону беглецом и, укрывшегося на море, привела в Иоппию, а из Иоппии вела в Фарсис. Невероятно, чтобы он, будучи пророком, не знал Божия намерения, то есть что Бог, по Своей великой премудрости, по неиспытуемым судьбам, неисследным и непостижным путям Своим, самой угрозой производил то, чтобы ниневитяне не потерпели предсказанного в угрозе. А если пророк знал сие, то невероятно также, чтобы он не покорился Богу, благоугодным Ему образом устроившему спасение ниневитян. Думать же, что Иона надеялся укрыться в море и спастись бегством от великого ока Божия, было бы совершенно нелепо и невежественно; такая мысль была бы несправедлива не только о пророке, но и о всяком другом человеке, имеющем разум и сколько – нибудь познавшем Бога и Его всепревосходящее могущество. Напротив того, Иона, как говорит рассуждавший о сем муж, в чем и я убежден, лучше всякого другого знал и то, что будет следствием проповеди ниневитянам, и то, что он сам, замысливший бегство, хотя переменит место, но не убежит от Бога; как не избег бы и всякий другой, хотя бы укрылся в недрах земли, в глубинах моря, изобрел средство подняться на крыльях и летать по воздуху, снизошел в самую преисподнюю ада, или облекся густотой облака, или придумал другой возможный способ к утаению побега. Напротив того, ежели Бог восхощет кого остановить и удержать в руке Своей, то сие всего неизбежнее, всего неодолимее. Он предускоряет быстрых, перехитряет хитрых, низлагает сильных, смиряет высоких, укрощает дерзновенных, подавляет всякую силу. Посему, конечно, знал крепкую руку Божию Иона, который угрожал ею другим, и он не думал, что вовсе убежит от Бога. Сие нимало не вероятно. Но поелику Иона провидел падение Израиля и предчувствовал, что пророчественная благодать переходит к язычникам, то он уклоняется от проповеди, медлит в исполнении повеления и, оставив сторожевую башню радости, что на еврейском значит Иоппия, то есть древнюю высоту и достоинство, ввергает сам себя в море скорби. Потому и обуревается, и спит, и терпит кораблекрушение, и пробуждается от сна, и подпадает жребию, и сознается в бегстве, и погружается в море, и поглощается китом, но не истребляется, а призывает там Бога и (какое чудо!), подобно Христу, по прошествии трех дней возвращается оттуда. Но оставим о сем слово в надежде, если даст Бог, обстоятельнее поговорить в последствии времени. А теперь, чтобы речь возвратилась к своему предмету, остановлюсь на той мысли и на том рассуждении, что для Ионы, может быть, и извинительно было, по изложенной выше причине, отрекаться от пророческого служения. Но осталось ли бы какое извинение и место к оправданию для меня, если бы стал я долее упорствовать и отрицаться от возлагаемого на меня (не знаю как назвать) легкого или тяжелого, но все же ига служения. Ибо ежели бы иной не попрекословил мне и тем (что одно и можно в настоящем случае сказать, как нечто твердое), что я весьма недостоин священнослужения пред Богом, и что прежде надобно соделаться достойным Церкви, а потом уже алтаря, и прежде достойным алтаря, а потом уже председательства, то другой, может быть, не освободил бы меня от обвинения в неповиновении. Но страшны угрозы, ужасны наказания за неповиновение, равно как и за противное сему, если кто нимало не смущается, не отрицается и не скрывается, как Саул, в отцовских сосудех (1 Цар. 10:22), как скоро слегка призывают его к принятию начальства, но с готовностью, как за самое легкое и удобное дело, берется за то, в чем не безопасно переменять намерение и принятое поправлять новым.
Посему – то я долго боролся с мыслями, придумывая, как поступить, и находясь между двумя страхами, из которых один принуждал меня оставаться внизу, а другой – идти вверх. И после многих недоумений, перевешиваясь на ту и другую сторону или, подобно струе, гонимой противными ветрами, склоняясь туда и сюда, наконец уступил я сильнейшему; меня препобедил и увлек страх оказаться непокорным. И смотрите, как прямо и верно держусь я среди сих страхов, не домогаясь начальства не данного и не отвергая данного. Ибо первое означало бы дерзость, последнее же – непокорность, а то и другое вместе – невежество. Но я соблюдаю средину между слишком дерзновенными и между слишком боязливыми; я боязливее тех, которые хватаются за всякое начальство, и дерзновеннее тех, которые всякого убегают. Так я разумею дело сие, и выражусь еще яснее: против страха быть начальником подаст, может быть, помощь закон благопокорности, потому что Бог по благости Своей вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, кто на Него уповает и в Нем полагает все надежды. Но не знаю, кто будет помощником и какое слово внушит упование в случае непокорности. Ибо опасно, чтобы нам о вверяемых нашему попечению не услышать следующего: «Души их от рук ваших взыщу (Иез. 3:18). Как вы отверглись Меня и не захотели быть вождями и начальниками народа Моего, так и Я отвергнусь вас и не буду вашим царем. Как вы не послушали гласа Моего, но презрительно обратили ко Мне хребет и не повиновались, так будет и вам: когда призовете Меня, не призрю на молитву вашу и не услышу ее». Да не придет на нас такой приговор Праведного Судии, Которому воспеваем милость, но вместе воспеваем, конечно, и суд (Пс. 100:1)!
А я обращаюсь опять к истории и, рассматривая самых благоискусных мужей в древности, нахожу, что из тех, кого благодать предызбирала когда – либо в звание начальника или пророка, одни с готовностью следовали избранию, а другие медлили принимать дар; но ни те, ни другие не подвергались осуждению, как отрекавшиеся – за боязнь, так и изъявившие согласие – за ревность. Ибо одни устрашались важности служения, а другие повиновались по вере в Призывающего. Аарон изъявил готовность, а Моисей прекословил. С готовностью повиновался Исаия, а Иеремия страшился юности и не прежде отважился на звание пророка, как получив от Бога обетование и силу, превышающую возраст. Сими размышлениями успокаиваю я сам себя, и душа моя понемногу уступает и смягчается, как железо; а в помощники к сим размышлениям беру я время и в советники – Божии оправдания, которым верил я всю жизнь свою. Посему не противлюся, ни противоглаголю (Ис. 50:5) (слова моего Владыки, не к начальствованию призываемого, но яко овча на заколение (Ис. 53:7) ведомого), даже подклоняюсь и смиряюсь под крепкую руку Божию и прошу извинить прежнюю мою леность и непокорность, если сколько – нибудь виновен я в сем. Я умолкал, но не всегда буду молчать; удалился ненадолго, сколько было нужно, чтобы рассмотреть себя и доставить себе утешение в скорби, но теперь готов возносить Его в церкви людстей и восхвалять на седалищи старец (Пс. 106:32). Если за одно должно осуждать, то за другое можно извинить.
Но к чему мне продолжать слово? Я с вами, пастыри и сопастыри! С тобой, святая паства, достойная Архипастыря Христа! И ты, отец мой, совершенно победил и подчинил меня более по Христовым, нежели по мирским законам. Видишь благопокорность – возврати благословение. И сам руководствуй молитвами, путеводствуй словом, утверждай духом. Благословение отчее утверждает домы чад (Сир. 3:9). О, если бы утвердиться мне и сему духовному дому, который избрал я и о котором молюсь, чтобы он и для меня был упокоением в век века, когда из здешней Церкви препослан буду к Церкви тамошней – к торжеству первородных, написанных на небесах! Таково и столь справедливо мое моление!
Бог же мира, сотворивший обоя едино и возвративший нас друг другу, посаждающий царей на престолах и воздвигающий с земли убогого, из низкого состояния возвышающий нищего, избравший Давида, раба Своего, и вземший от стад овчих того, кто был младшим и юнейшим из сынов Иессеевых, дающий слово благовествующим силою многою во исполнение Евангелия, – Сам, пася пастырей и водя вождей, да поддерживает десную руку нашу, да путеводствует по воле Своей и да приимет со славой, чтобы и нам упасти паству Его благоразумно, а не в сосудах пастыря неискусна (Зах. 11:15) – одно поставлено у древних в числе благословений, а другое – в числе проклятий, – Сам да даст силу и державу людем Своим (Пс. 67:36), Сам да представит Себе паству славной и нескверной, достойной горнего двора, в обители веселящихся, во светлости святых, чтобы в храме Его все мы, и паства и пастыри, купно могли вещать славу, во Христе Иисусе Господе нашем, Которому всякая слава во веки веков аминь!
Слово 4, первое обличительное на царя Юлиана
Услышите сия вси языцы, внушитв вси живущии по вселенней (Пс. 48:2). Как бы с некоторого возвышения, далеко кругом видимого, всех призываю, ко всем обращая сильную и высокую проповедь. Внимайте, народы, племена, языки, люди всякого рода, всякого возраста – все, сколько есть теперь и сколько будет на земле! И да прострется далее моя проповедь! Внимайте мне все небесные силы, все ангелы, которыми совершено истребление мучителя, низложен не Сион, царь Амморрейский, не Ог, царь Васанский (небольшие владетели, делавшие зло небольшой части вселенной – Израилю), но змий (Иез. 29:3), отступник, великий ум (Ис. 10:12), ассириянин, общий всем враг и противник, и на земле делавший много неистовств и угроз, и в высоту (Пс. 72:8) говоривший, и замышлявший много неправды! Слыши небо, и внуши земле (Ис. 1:2)! И мне теперь прилично возгласить одно с велегласнейшим из пророков Исаией! В одном у нас разность: пророк призывает небо и землю во свидетели против отвергшегося от Бога Израиля, а я призываю против мучителя, и отвергшегося и падшего падением, достойным нечестия. Внимай, если слышишь нас, и ты, душа великого Констанция! Внимайте, христолюбивые души до него бывших царей! Особенно же да внемлет душа Констанция, который сам возрастал с наследием Христовым и, постепенно утверждая оное, возрастил в такую силу, что стал через сие именитее всех прежних царей. Но (какое посрамление!) он впал в грех неведения, весьма не достойный его благочестия; сам не зная, воспитал христианам врага Христова; из всех дел своего человеколюбия оказал одну худую услугу тем, что спас и воцарил ко вреду спасенного и царствовавшего. А потому, о если бы Констанция наипаче обрадовало как разрушение нечестия и восстановление прежнего благосостояния христиан, так и сие слово!
А я принесу слово в дар Богу, священнейший и чистейший всякой бессловесной жертвы, принесу не по подражанию мерзким речам и суесловию, а еще более мерзким жертвам богоотступника, которых обилие и богатство состояли в силе нечестия и в немудрой, скажу так, мудрости; так как и вся сила, и ученость века сего во тьме ходит и далека от света истины. Но если такова сия мудрость, в таких бывает людях, такие приносит плоды – как трава, скоро засыхает, как зелие злака (Пс. 36:2), скоро опадает и переходит вместе с породившими ее, которые погибают с шумом и привлекают внимание более падением, нежели нечестием своим, – то мне, приносящему ныне жертву хвалы и сожигающему бескровный дар слова, кто составит такое зрелище, которое бы равнялось благодарности! Какой язык будет так громозвучен, как я того желаю? Чей слух не уступит в ревности слову?
Благодарение же, воздаваемое посредством слова, не только всего более свойственно Слову, Которое из всех других наименований преимущественно благоугождается сим наименованием и нашей способностью именовать Его, но и тому[12 - Юлиану.] послужит приличным возмездием, когда за преступление против дара слова будет он наказан словом. Тогда как дар слова есть общее достояние всех словесных тварей, Юлиан, присвояя его себе, ненавидел в христианах, и хотя почитался даровитейшим в слове, однако же о даре слова судил крайне неразумно. Во – первых, неразумно тем, что злонамеренно, по произволу, толковал наименование, будто бы эллинская словесность принадлежит язычеству, а не языку. Почему и запрещал нам образоваться в слове, как будто такое наше образование было похищением чужого добра. Но сие значило то же, как если бы не дозволять нам и всех искусств, какие изобретены у греков, а присвоять их себе по тому же сходству наименования. Потом, неразумно он надеялся, будто бы скроется от нас, что не нас, которые очень презираем такую словесность, лишает он одного из первых благ, но сам страшится обличений в нечестии, предполагая, может быть, что сила обличений зависит от красоты слога, а не от разумения истины и не от доказательств, от которых удержать нас так же невозможно, как и сделать, чтобы мы, пока имеем язык, не исповедовали Бога. Ибо мы вместе с прочим и сие, то есть слово, посвящаем Богу, как посвящаем тела, когда нужно и телесно подвизаться за истину. Посему, дав такое повеление, хотя запретил он говорить красноречиво, однако же не воспрепятствовал говорить истину. А таким образом и бессилие свое обличил, и не избег обличений в нечестии, если не подвергся еще большим за свою ошибку. Ибо самое его запрещение пользоваться нам даром слова показывало, что он не полагался и на правоту своей веры, и на самый дар слова. Он походил на человека, который почитает себя сильнейшим из борцов и требует, чтобы все провозгласили его сильнейшим, а между тем отдал приказ, чтобы ни один сильный борец не смел бороться и не являлся на поприще. Но это доказательство робости, а не мужества! Венцы даются тем, которые подвизались, а не тем, которые сидели вверху; тем, которые напрягали все силы, а не тем, которые лишены употребления большей части сил. Если же действительно боялся ты сойтись и вступить в битву, то сим самым признал над собой победу и без борьбы уступил верх тому, с кем из – за того и препирался, чтобы не вступать в борьбу. Так поступил наш мудрый царь и законодатель! И как будто для того, чтобы все испытало его мучительство и провозглашало его неразумие, в самом начале своего царствования он прежде всего употребил насилие против дара слова. Но нам прилично воздать благодарение Богу и за то, что самый сей дар получил свободу. Нам особенно должно как почтить Бога другими приношениями, не щадя ничего – ни денег, ни имуществ, которые временны и человеколюбием Божиим соблюдены от насилия, так преимущественно почтить словом – плодоношением праведным и общим для всех, получивших милость. Но довольно сего слова о даре слова; иначе, распространившись чрез меру, преступим пределы времени и подадим мысль, что заботимся о чем – то ином, а не о том, для чего собрались.
И уже порывается и течет к торжествованию мое слово; оно облекается в веселье, как и все видимое; оно всех призывает к духовному ликованию, – всех, кто постоянно пребывал в посте, в сетовании и в молитве, и днем и ночью просил избавления от обстоящих скорбей и надежное врачевство от зол находил в непосрамляющем уповании (Рим. 5:5), – всех, кто перенес великие борения и подвиги, кто выдержал многие и тяжкие удары сего времени, кто, по выражению апостола, был и позор миру и Ангелом и человеком (1 Кор. 4:9), кто хотя изнемогал телом, однако же остался непобедимым по духу и все возмог о укрепляющем его Христе (Флп. 4:13), – всех, кто отложил все, что в мире служит ко греху, и мирскую власть; кто разграбление имений с радостию приял (Евр. 10:34); кто неправедно был изгнан из собственного, как говорится, владения; кто на несколько времени терпел разлуку или с мужем, или с женой, или с родителями, или с детьми, или какие еще есть наименования не столь близкого свойства, привязывающие нас к людям, и кто в дар Христовой крови приносил страдания за Христа, так что ныне справедливо может о себе сказать и воспеть: возвел еси человеки на главы наша: проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой (Пс. 65:12).
Призываю к торжеству и другую часть людей, которые исповедуют Бога всяческих и держатся в том здравых понятий, но не постигают распоряжений Промысла, часто из горестных событий устрояющего лучшее и благостью призывающего к исправлению. Они, по нищете души и по легкомыслию, возгораются и воспламеняются помыслами, внегда гордитися нечестивому (Пс. 9:23), не могут сносить мира грешников (Пс. 72:3), как говорит псалом, не ждут исполнения совета Божия (Пс. 105:13), и не соблюдают равнодушия до конца, однако же, будучи рабами одного настоящего и видимого, утверждаются в истине чудесами, подобными совершившимся ныне. Призываю и тех, кого приводит в изумление лицедейство и великое позорище мира сего, призываю словами Исаии: жены, грядущия с позорища, приидите (Ис. 27:11), отвратив душевное око от внешних предметов, по которым оно блуждало, упразднитеся и уразумейте, яко сей есть Бог, возносяйся во языцех, возносяйся на земли (Пс. 45:11), как всегда, во всех творимых Им знамениях и чудесах, так еще очевиднее в чудесах настоящих.
О, если бы составил часть нашего лика и тот собор,[13 - По изъяснению Илии Критского, Св. Богослов разумеет здесь назианзских монахов, которые соблазнялись тем, что родитель его по простоте сердца подписался к арианскому исповеданию, а вследствие сего отделились от общения с Назианзской Церковью и поставили у себя пресвитеров, рукоположенных посторонним епископом.] который прежде с нами вместе воспевал Богу неподдельную и чистую песнь, даже удостаивался некогда стоять на десной стороне и, как надеюсь, вскоре опять удостоится! Но не знаю, по какому побуждению он вдруг изменяется, отделяется и (чему особенно дивлюсь) не приступает к общему веселью, но составляет (как, может быть, и сами дозволят мне выразиться) какой – то свой нестройный и несогласный лик. Сказать, каков и чей это лик, хотя и побуждает меня ревность, однако же останавливает вера. Удерживаемый надеждой, не произнесу ничего неприятного; ибо доселе щажу их, как собственные члены, и внимаю больше прежней любви, нежели настоящему отвращению. Для того поступаю великодушнее, чтобы чувствительнее укорить впоследствии.
Одну только часть, один род людей отлучаю от торжества. Хотя сам сокрушаюсь и скорблю, хотя проливаю слезы, когда, может быть, они и не внимают мне, хотя сетую о нечувствующих собственной погибели, что и делает раны их достойнейшими большого сожаления, однако же отлучаю. Посеянные не на твердом и непоколебимом, но на сухом и бесплодном камне (таковы приступающие к слову легкомысленно и маловерные), зане не имеяху глубины земли (Мф. 13:5), скоро прозябшие и готовые на все в угождение ближним, они впоследствии, при легком приражении лукавого, при малом искушении и дуновении знойного ветра, увяли и умерли. Но еще хуже сих последних, еще более достойны отлучения от торжества все те, которые нимало не противились ни силе времени, ни увлекающим нас в пагубный плен от Восшедшего на высоту и Пленившего во спасение. Они оказались даже произвольно злыми и низкими, не сделав и малейшего противоборства, соблазнившись, когда не было им никакой скорби и никакого искушения ради слова, и (подлинно жалкие люди!) продали собственное свое спасение за временную корысть, за неважную услугу или власть.
Поелику же сказано, кто может и кто не может составлять наш лик, то очистим, по возможности, и тела и души, настроим все один голос, соединимся единым духом и воспоем ту победную песнь, которую некогда, ударяя в тимпан, предначала Мариам, а за ней воспел Израиль, о потоплении египтян в Чермном море: поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже (Исх. 15:21) – но не в море (переменяю сие в песне), а куда Ему было угодно и как определил Сам Он – творяй вся и претворяяй, как сказал в одном месте своего пророчества богодухновенно любомудрствующий Амос, и обращаяй во утро сень смертную и день в нощь помрачаяй (Ам. 5:8), – Тот, Кто, как бы некоторым кругом, располагает и ведет весь мир. И все, что до нас касается, – и зыблющееся и незыблемое, попеременно и поступающее вперед и обращаемое назад, бывающее в разные времена и так и иначе, – в порядке Промысла твердо и непоколебимо, хотя и идет противоложными путями, известными Слову и недоведомыми для нас. Господь низлагает сильные со престол (Лк. 1:52) и нечаемаго украшает венцем (Сир. 11:5), – заимствую и сие из Божественного Писания. Он немощные колена облагает мужеством и сокрушает мышцы грешника и беззаконника (Пс. 36:17), – и сие беру из другого Писания, как приходит мне на память которое – либо из многих мест, восполняющих мою песнь и слагающихся в одно благодарение. Он дает нам видеть и возношение нечестивого выше кедров, и обращение его в ничтожество, если только возмогли мы скорой и непреткновенной ногой пройти мимо его нечестия. Кто же из поведающих дела Божии воспоет как должно и поведает сие? Кто возглаголет силы Господни, слышаны сотворит вся хвалы Его (Пс. 105:9)? Какой голос, какой дар слова будет соразмерен сему чуду? Кто сокруши оружие и меч и брань (Пс. 75:11)? Кто стер главы змиев в воде? Кто дал того брашно людем (Пс. 73:13, 14), которым и предал его? Кто переменил бурю в прохладный ветер? Кто сказал морю: молчи, престани (Мк. 4:39), в тебе сокрушатся волны твоя (Иов 38:11) – и потом усмирил незадолго воздымавшиеся и кипевшие воды? Кто даровал власть наступать на змию и на скорпию (Лк. 10:19), которые не тайно уже блюдут пяту, как изречено в осуждении, но явно восстают и подъемлют главу, осужденную на попрание? Кто сотворил суд и правду (Ам. 5:7), сотворил так неожиданно? Кто не оставил навсегда жезла грешных (могу ли смело сказать: на жребии праведных (Пс. 124:3) – или выразиться скромнее?), на жребии ведающих Его? Ибо мы были не как праведные преданы (немногим, и притом редко, дается, чтобы они, как мужественные подвижники, посрамили искусителя), но как грешные осуждены и потом милосердно и отечески помилованы; осуждены, чтобы, пораженные, уцеломудрились и, вразумленные, к Нему обратились. Он обличил нас, но не яростию; наказал, но не гневом (Пс. 6:1); тем и другим, и напамятованием и снисхождением, явил Свое человеколюбие. Кто сотворил отмщение во языцех, обличения в людех (Пс. 149:7)? Господь крепок и силен, Господь силен во брани (Пс. 23:8). Одно нахожу место, один стих, в некотором отношении сообразный настоящему торжеству. Его прежде нас возгласил Исаия, и он весьма приличен нынешнему времени, соответствует величию благодеяния. Да возрадуется небо свыше, и облацы да кропят правду (Ис. 45:8): да отрыгнут горы веселие и холми радость (Ис. 49:13)! Ибо и вся тварь, и небесные силы разделяют наши чувствования (присовокупляю это от себя) даже при событиях, подобных настоящему. Тварь, работающая тлению, то есть тем, которые долу рождаются и умирают, не только совоздыхает и соболезнует в ожидании конца их и откровения, чтобы тогда и ей получить чаемую свободу, подобно как ныне силой Творца невольно предана тленным, но также спрославляется и сорадуется, когда веселятся чада Божии. Итак, да веселится пустыня, и да цветет, яко крин (Ис. 35:1) (не могу не употреблять Божественных изречений, возвещая Божию силу); да веселится Церковь, которая вчера и за день, по – видимому, сиротствовала и вдовствовала! Да веселится всякий, кто доселе был угнетаем нестерпимой и жестокой бурей нечестия! Яко помиловал Господь людей Своих, и достояния Своего не оставил (Пс. 93:14), сотворил чудная дела, совет древний истинный (Ис. 25:1), – совет о том, чтобы благоволить к боящимся Его и к уповающим на милость Его (Пс. 146:11). Яко сокруши врата медная и вереи железные сломи (Пс. 106:16). Мы за беззакония наши смирены были, но воззваны и избавлены из сети сокрушенной (Пс. 123:7) благодатью призвавшего нас и смиренных сердцем утешающего Бога.
Видите, как слагаю песнь, в которой и слова, и мысли Божественны! Сам не знаю, почему горжусь и украшаюсь чужим, от удовольствия делаюсь как вдохновенный, а презираю все низкое и человеческое, когда одно с другим сличаю и соглашаю, и что единого Духа, то привожу в единство.
И прежде являли нам чудеса Божии: Енох, прелагаемый Богом; Илия, вземлемый на небо; Ной, спасаемый и спасающий малым древом (Прем. 10:4) мир – семена родов, избегших от потопления вселенной, чтобы земля снова украсилась обитателями более благочестивыми; Авраам призываемый; когда уже не обещал возраст, награждаемый сыном, во уверение о другом обетованном Семени; приносящий единородного – добровольную жертву, и вместо сына приемлющий неожиданную жертву. То же явили: чудная погибель нечестивых, потопленных огнем и серой, и еще более чудное исхождение благочестивых; столп сланый – памятник обращения к злу. То же явил Иосиф, продаваемый, вожделеваемый, целомудрствующий, умудряемый Богом, освобождаемый, поставляемый властелином и раздаятелем хлеба для высшего домостроительства; Моисей, удостоенный богоявления, приемлющий законы, законодательствующий, данный в бога фараону, указавший Израилю путь в Землю обетования. То же явили: известное число египетских казней и среди египтян спасение обремененных трудами; море, бегущее от жезла и сливающееся по слову, одним дающее путь, как по суху, и потопляющее, согласно с естеством, других; а также все, чем сие сопровождалось: столп облачный, осеняющий днем; столп огненный, озаряющий ночью, а оба путеводствующие; хлеб, дождимый в пустыне, снедь, посылаемая с неба, – первый соразмерно нужде, а вторая даже и сверх нужды; вода из камня, то истекающая, то услаждаемая; Амалик, преодолеваемый молитвой и еще неизъяснимым и таинственным воздеянием рук; солнце останавливаемое, луна удерживаемая, Иордан разделяемый, стены, разрушаемые обхождением священников, также звуком труб и самым числом, силу имеющим; земля и руно, попеременно орошаемые и остающиеся невлажными; сила, заключенная в волосах и равняющаяся силам целого воинства; несколько избранных, лакавших из горсти воду, обнадеженных в победе и побеждающих по надежде малым числом многие тысячи. Нужно ли мне перечислять все чудеса, какие совершены Самим Христом, по спасительном Его пришествии и воплощении, и какие по Нем и через Него же сотворены святыми Его апостолами и служителями слова? Сколько книг и памятей, в которых напечатлены они? Какие же чудеса явлены ныне? Приидите услышите, и повем вам, вси боящиися Бога (Пс. 65:16), яко да познает род ин (Пс. 77:6), да познают преемства родов чудеса могущества Божия!
Но невозможно объяснить сего, не изобразив великости бедствия; и сие опять невозможно, пока не будет обличено злонравие отступника, не будет показано, какие были начала, какие семена, от которых дошел он до такого неистовства, постепенно возращая в себе нечестие, подобно тому как самые злые из пресмыкающихся и зверей собирают свой яд. И хотя подробное описание злодеяний его предоставляем книгам и историям (мы не имеем и времени пересказывать все, не имеющее близкой связи с настоящим предметом), однако же, из многого коснувшись немногого, оставим потомству как бы некоторую надпись на памятнике, вместив в слово главнейшие и известнейшие из его деяний.
Вот одно и первое из его дел! Спасенный великим Констанцием, недавно от отца наследовавшим державу, когда при дворе стали править делами новые чиновники и войско, опасаясь нововведений, само сделалось нововводителем, вооружилось против начальствующих, тогда, говорю, невероятным и необычайным образом спасенный вместе с братом,[14 - Галлом.] не воздал он благодарения ни Богу за свое спасение, ни царю, его спасшему, но оказался пред ними злонравным, готовя в себе Богу отступника, а царю – мятежника. Но прежде сего нужно сказать, что человеколюбивейший царь в одном из царских дворцов удостоил их царского содержания и царской прислуги, сохраняя их, как последних в роде, для царского престола. Сам государь, во – первых, думал оправдать себя в том, что беспорядки, открывшиеся в начале его царствования, произведены не по его согласию; во – вторых, хотел показать свое великодушие, приобщив их к царскому сану; а в – третьих, таким приращением надеялся более упрочить власть. Но в его рассуждениях было больше доброты сердца, нежели благоразумия.
На них же[15 - Юлиане и Галле.] не лежало тогда никаких должностей, царская власть была еще впереди и в одном предположении, а возраст и надежда не вели к чинам второстепенным. Посему они имели при себе наставников и в прочих науках (все первоначальное учение преподавал им сам дядя и царь), а еще больше – в нашем любомудрии, не только в том, которое имеет предметом догматы, но и в том, которое назидает благочестие нравов. Для сего пользовались обращением с людьми особенно испытанными и были приучаемы к делам самым похвальным, показывающим опыты добродетели. Они по своей охоте вступили в клир, читали народу божественные книги, нимало не почитая сего ущербом для своей славы, но еще признавая благочестие лучшим из всех украшений. Также многоценными памятниками в честь мучеников, щедрыми приношениями и всем, что показывает в человеке страх Божий, свидетельствовали о своем любомудрии и усердии ко Христу.
Один из них был действительно благочестив и хотя по природе вспыльчивее, однако же в благочестии искренен. А другой выжидал только времени и под личиной скромности таил злонравие. И вот доказательство! Ибо не могу пройти молчанием бывшего чуда, которое весьма достопамятно и может послужить уроком для многих нечестивцев. Оба они, как сказал я, усердствовали для мучеников, не уступали друг другу в щедрости, богатой рукой и не щадя издержек созидали храм.[16 - Во имя Св. мученика Маманта.] Но поелику труды их происходили не от одинакового произволения, то и конец трудов был различен. Дело одного, разумею старшего брата,[17 - Галла.] шло успешно и в порядке, потому что Бог охотно принимал дар, как Авелеву жертву, право и принесенную и разделенную (Быт. 4:7), и самый дар был как бы некоторым освящением первородного, а дар другого (какое еще здесь на земле посрамление для нечестивых, свидетельствующее о будущем и малозначительными указаниями предвещающее о чем – то великом!) – дар другого отверг Бог мучеников, как жертву Каинову. Он прилагал труды, а земля изметала совершенное трудами. Он употреблял еще большие усилия, а земля отказывалась принимать в себя основания, полагаемые человеком, зыблющимся в благочестии. Земля как бы вещала, какое будет произведено им потрясение, и вместе воздавала честь мученикам бесчестием нечестивейшего. Такое событие было некоторым пророчеством об открывшихся со временем в сем человеке высокомерии и высокоумии, о непочтении его к мученикам, о поругании им святых храмов, – пророчеством, для других невразумительным, но заранее преследовавшим гонителя и предзнаменовавшим, какое будет возмездие нечестию. О человек мудрый, еже творити злая (Иер. 4:22), но не избегающий собственного мучения! Благодарение Богу, возвещающему будущее, чтобы пресечь нечестие и показать Свое предведение! Какое необычайное, но более истинное, нежели необычайное, чудо! Какое братолюбие в мучениках! Они не приняли чествования от того, кто обесчестит многих мучеников, отвергли дары человека, который многих изведет в подвиг страдания, даже позавидует им и в сем подвиге. Или, вернее сказать, они не потерпели, чтоб им одним из мучеников быть в поругании, когда храмы других устрояются и украшаются руками преподобными. Они не попустили, чтобы преухищренный во зле мог похвалиться нанесенными им оскорблениями, чтобы одна рука и созидала, и разрушала мученические храмы, чтобы одни из мучеников были чествуемы, а другие подвергались бесчестью, чтобы притворным чествованием предначиналось действительное бесчестье. Они не хотели, чтобы оскорбитель, при великости оскорбления, почитал еще себя мудрым и умевшим под видимой наружностью утаиться как от людей, так и от Бога, который всех прозорливее всех премудрее и запинает премудрым в коварстве их (1 Кор. 3:19). Напротив того, дали знать ругателю, что он понят, чтобы, уловленный, не превозносился. Бог мучеников по распоряжениям, Ему одному ведомым, по неизреченной Своей премудрости, по законам мироправления, по которым некогда ожидал исполнения беззаконий аморрейских, и теперь не пресек, не иссушил вдруг, подобно нечистому потоку, замышляемой и скрываемой злобы. Но для других было нужно соделать злонравие ненавистным, отвергнуть чествование и показать, что Бог в рассуждении всего Ему приносимого нелицеприятен и чист. Он сказал нечествовавшему Израилю: аще принесете Ми семидал, всуе; кадило, мерзость Ми есть (Ис. 1:13). Он не потерпел новомесячий их и суббот и дне великаго, ибо, как Самодовольный, не нуждается ни в чем человеческом и маловажном; тем менее увеселяется недостойными приношениями; напротив того, жертвой нечестивого, хотя бы это был телец, гнушается, как псом и, хотя бы это был ливан, оскорбляется, как богохульством (Ис. 66:3), и мзду блудничу (Втор. 23:18) изметает из святилища и отвергает; ценит же ту одну жертву, которую Чистейшему приносят чистые руки, высокий и очищенный ум. Итак, что удивительного, если Он, Который видит не как человек, смотрит не на внешнее, но на потаенного человека, прозирает во внутренний источник пороков или добродетелей, – что, говорю, удивительного, если Бог и теперь не принял чествования, воздаваемого лукаво и с лукавой мыслью? Но так было действительно. Кто не верит, пред тем свидетельствуемся самовидцами; еще многие живы из них; они и нам пересказывали о сем чуде, и будут пересказывать потомкам нашим.
Когда же с наступлением мужеского возраста они коснулись (лучше бы никогда не касаться!) философских учений и приобрели силу в слове (для благонравных – щит добродетели, а для злонравных – жало греха), тогда он[18 - Юлиан.] не мог уже скрывать в себе всего недуга и коварный замысел нечестия обдумывать единственно с самим собой. Огонь, кроющийся в веществе, еще не обратился в светлый пламень, но обнаруживается вылетающими искрами и идущим изнутри дымом. А если угодно другое подобие – источники, с силой текущие в подземных пещерах, когда не находят себе простора и свободного выхода, во многих местах земли устремляются к поверхности и производят под ней шум, потому что сила стремления гонит их, а верхние преграды удерживают и пресекают. Так и он, удерживаемый обстоятельствами и уроками государя, пока небезопасно было оказать себя явным нечестивцем, скрывал большую часть своего нечестия. Но бывали случаи, при которых обнаруживал тайные мысли, особенно пред людьми, более расположенными к нечестию, нежели к благоразумию; в разговорах же с братом даже сверх приличия защищал язычников – конечно, под предлогом упражнения в слове посредством споров, а действительно, это было упражнением в противоборстве истине. Вообще, он рад был всему, чем отличается нечестивое сердце. А когда человеколюбие самодержца провозглашает брата его цезарем и делает обладателем над немалой частью вселенной, тогда и ему открылась возможность с большей свободой и безопасностью предаться самым вредным наукам и наставникам. Азия стала для него училищем нечестия – всех бредней о звездочетстве, о днях рождения, о разных способах гадания, а также и о соединенной с ними неразрывно магии.
Одного еще недоставало, чтобы к нечестию присовокупить и могущество. Чрез некоторое время и то дают ему над нами умножившиеся беззакония многих, а иной, может быть, скажет – благополучие христиан, достигшее высшей степени и потому требовавшее перемены, – свобода, честь и довольство, от которых мы возгордились. Ибо, действительно, труднее сберегать приобретенные блага, нежели приобретать новые, и удобнее тщанием возвратить прошедшее благоденствие, нежели сохранить настоящее. Прежде сокрушения предваряет досаждение (Притч. 16:18) – прекрасно сказано в Притчах, а славе предшествует уничижение или, скажу яснее, за гордостью следует низложение, а за низложением – прославление. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать (Иак. 4:6), и все соразмеряя праведно, воздает за противное противным. Сие знал и божественный Давид, потому быть смиряемым полагает в числе благ, приносит благодарение Смирившему, как приобретший чрез сие ведение Божиих оправданий, и говорит: прежде даже не смиритимися, аз прегреших: сего ради слово Твое сохраних (Пс. 118:67). Таким образом ставит он смирение в средине между прегрешением и исправлением, так как оно произведено прегрешением и произвело исправление. Ибо грех рождает смирение, а смирение рождает обращение. Так и мы: когда были добронравны и скромны, тогда возвышены и постепенно возрастали, так что под руководством Божиим, соделались и славны и многочисленны. А когда мы утолстели, тогда стали своевольны; и когда расширели (Втор. 32:15), тогда доведены до тесноты. Ту славу и силу, какую приобрели во время гонений и скорбей, утратили мы во время благоденствия, как покажет продолжение слова.
Царствованию и жизни Цезаря полагается предел. Умолчу о предшествовавшем, щадя и действовавшего и страдавшего;[19 - Св. Богослов имеет в виду умерщвление Цезаря Галла по приказу императора за возмущение его против императора.] но при всем уважении к благочестию обоих, не хвалю дерзости. Если им, как людям, и свойственно было погрешать в чем другом, то за сие, вероятно, не похвалят ни того, ни другого. Разве и здесь поставляемое в вину одному обратим в оправдание другому. Тогда Юлиан делается наследником царства, но не благочестия, наследником сперва после брата, а чрез несколько времени и после воцарившего его. И первое дает ему Констанций добровольно, а последнее по неволе, принужденный общим для всех концом, пораженный ударом бедственным и пагубным для целого мира.
Что ты сделал, боголюбезнейший и христолюбивейший из царей! К тебе, как бы к предстоящему и внимающему нам, обращаю укоризну; хотя знаю, что ты гораздо выше наших укоризн, вчинен с Богом, наследовал небесную славу и для того оставил нас, чтобы временное царство пременить на вечное. Для чего совещал такой совет ты, который благоразумием и быстротой ума во многом превосходил не только современных тебе, но и прежних царей. Ты очистил пределы царства от варваров и усмирил внутренних мятежников; на одних действовал убеждениями, на других – оружием, а в том и другом случае распоряжался, как будто бы никто тебе не противодействовал. Важны твои победы, добытые оружием и бранями, но еще важнее и знаменитее приобретенные без крови. К тебе отовсюду являлись посольства и просьбы: одни покорялись, другие готовы были к покорности. А если где была надежда на покорность, это равнялось самой покорности. Мышца Божия руководствовала тебя во всяком намерении и действии. Благоразумие было в тебе удивительней могущества и могущество удивительней благоразумия; самой же славы за благоразумие и могущество еще удивительней благочестие. Как же в сем одном оказался ты неопытным и неосмотрительным? Отчего такая опрометчивость в твоем бесчеловечном человеколюбии? Какой демон внушил тебе такую мысль? Как великое наследие, – то, чем украшался родитель твой, разумею именуемых по Христе, народ, просиявший в целой вселенной, царское священие (1 Петр. 2:9), возращенных многими усилиями и трудами, – в столь короткое время, в одно мгновенье, своими руками предал ты общему всех кровопийце?
Может быть, вам кажется, братия, что поступаю неблагочестно и неблагодарно, когда говорю сие и к обличительной речи не присоединяю тотчас вещаний истины, хотя достаточно уже оправдал я Констанция тем самым, в чем обвинил его, если вы вникли в мое обвинение. Здесь только обвинение заключает в себе и извинение; ибо, упомянув о доброте, я представил и оправдание. Кому из знавших сколько – нибудь Констанция неизвестно, что он для благочестия, из любви к нам, из желания нам всякого блага не только готов был презреть его,[20 - Юлиана.] или честь всего рода, или приращение царской власти, но за нашу безопасность, за наше спасение отдал бы даже самую державу, целый мир и свою душу, которая всякому всего дороже? Никто никогда и ни к чему не пылал такой пламенной любовью, с какой он заботился об умножении христиан и о том, чтобы возвести их на высокую степень славы и силы. Ни покорение народов, ни благоустройство общества, ни титло и сан царя царей, ни все прочее, по чему познается счастье человеческое, – ничто не радовало его столько, как одно то, чтобы мы через него и он через нас прославлялись пред Богом и пред людьми и чтобы наше господство навсегда пребыло неразрушимым. Ибо кроме прочего, рассуждая истинно царски и выше многих других, он ясно усматривал, что с успехами христиан возрастало могущество римлян, что с пришествием Христовым явилось у них самодержавие, никогда дотоле не достигавшее совершенного единоначалия. За сие, думаю, и любил он особенно нам благодетельствовать. Если же и оскорбил несколько, то оскорбил не из презрения, не с намерением обидеть, не из предпочтения нам других, но желая, чтобы все были одно, хранили единомыслие, не рассекались и не разделялись расколами. Но, как заметил я, простота неосторожна, человеколюбие не без слабостей, и кто далек от зла, тот всего менее подозревает зло. Посему он не предузнал будущего, не проник притворства (нечестие же вкрадывалось постепенно), и в одном государе могли совмещаться и благость к благочестивому роду, и благость к нечестивейшему и безбожнейшему из людей.
И сей нечестивец в чем укорил христиан, что нашел у нас непохвального, а также что в языческих учениях признал чрезвычайным и неопровержимым? Какому следуя образцу составил он себе имя своим нечестием, совершенно новым образом вступил в состязание с воцарившим его? Поелику не мог превзойти его добродетелями и совершенствами, то постарался отличиться противным, тем, что преступил всякую меру в нечестии и ревновал о худшем. Таково наше оправдание Констанция в рассуждении христиан и для христиан, вполне справедливое для имеющих ум.
Но найдутся люди, которые, простив нам одну вину, не отпустят другой. Они станут обвинять в скудоумии за то, что Констанций вручил власть неприязненному и непримиримому противнику и что сперва сделал его врагом, а потом могущественным, положив основание вражде умерщвлением брата и придав силу избранием на царство. Посему нужно кратко сказать и о сем; нужно показать, что человеколюбие было не вовсе неразумно и не выступило из пределов царского великодушия и царской предусмотрительности. Даже мне было бы стыдно, если бы мы, удостоившиеся от Констанция такой чести и столько уверенные в его отличном благочестии, в его защиту не сказали правды, что, как служители слова и истины, обязаны мы делать для людей и нимало нас не облагодетельствовавших. Особенно стыдно было бы не сказать правды о Констанции по переселении его из здешнего мира, когда нет и места мысли, что мы льстим, когда слово наше свободно от всякого худого подозрения. Кто не надеялся, если не другого чего, по крайней мере того, что Констанций почестями сделает его[21 - Юлиана.] более кротким? Кто не полагал, что после доверенности, какая ему сделана даже вопреки справедливости, и он будет правдивее? Особенно когда над обоими произнесен правдивый и прямо царский суд: один удостоен чести, и другой низложен? Ибо почтивший второго, как никто не ожидал, даже ни сам получивший почесть, ясно тем показал, что и первого наказал он не без праведного гнева. Казнь одного была следствием предерзости наказанного, а почести другого были делом человеколюбия в возведшем его к почестям. Но если нужно сказать еще нечто, то Констанций мог полагаться не столько на его верность, сколько на собственное могущество. По такой, думаю, надежде и славный Александр побежденному Пору, который мужественно стоял за свою державу, даровал не только жизнь, но вскоре и царство индов. Сим, а не другим чем, хотел он доказать свое великодушие; а не превзойти кого в великодушии для него, Александра, было постыднее, нежели уступить в силе оружия; притом Пора, если бы замыслил зло, ему легко было покорить и в другой раз. Так и в Констанции человеколюбие произошло от избытка надежды на свою силу. Но для чего усиливаюсь там, где и побежденному весьма удобно одержать верх? Если доверивший поступил худо, то сколько хуже поступил тот, кому сделана доверенность? Когда ставить в вину, что не предусмотрен злой нрав, тогда во что должно поставить самое злонравие?
Но порок, действительно, есть нечто не подводимое под правила, и у человека нет средств делать злых добрыми. Так и Юлиан, от чего бы следовало ему почувствовать в себе благорасположение и погасить, если и было какое, воспламенение злобы, от того самого воспылал большей ненавистью и стал высматривать, чем отомстить благодетелю. Тому научили его Платоны, Хризиппы, почтенные перипатетики, стоики и краснословы. К тому привели его и геометрическое равенство, и уроки о справедливости, и правило: предпочитай лучше терпеть, нежели наносить обиду. Сие преподали ему благородные наставники, сподвижники царской власти и законодатели, которых набрал себе на перекрестках и в пещерах,[22 - Под перекрестками и пещерами Св. Богослов разумеет места, на которых Юлиан со своими наставниками приносил бесам жертвы и совершал различные гадания.] в которых не нравы одобрял, но дивился сладкоречию, а может быть и не тому, но единственно нечестию – достаточному советнику и наставнику, что делать и чего не делать. И подлинно, не достойны ли удивления те, которые на словах строят города, каких на деле быть не может; которые едва не кланяются, как Богу, величавым тиранам и при своей надменности ставят овол выше богов? Одни из них учат, что вовсе нет Бога; другие, что Бог не промышляет о земном, но что все здесь влечется без цели и случайно; иные говорят, что всем управляют звезды и роковые созвездия, не знаю кем и откуда управляемые; другие же полагают, что все стремится к удовольствию и что наслаждение составляет конец человеческой жизни. А добродетель для них одно громкое имя; по словам их, ничего нет за настоящей жизнью, никакого после истязания за дела здешней жизни, в пресечение неправды. Иной из их мудрецов вовсе не разумел сего, но был покрыт глубокой, так сказать, тиной и непроницаемым мраком заблуждения и неведения; его разум и столько не был очищен, чтобы мог взирать на свет истины, но, пресмыкаясь в дольнем и чувственном, не способен был представить что – либо выше демонов и рассуждать о Творце достойным Его образом. А если кто и прозирал несколько, то, имея руководителем разум, а не Бога, увлекался более вероятным и тем, что, как ближайшее, скорее обращает на себя внимание черни. Что же удивительного, если вышедший из такого училища, управляемый такими кормчими, когда вверили ему власть и почтили его саном, оказался столько злым против вверившего и почтившего? А если можно защищать одного, обвиняя другого, то восставила его против установленного порядка и побудила искать свободы высокоумию не столько, думаю, скорбь о брате, в котором видел он противника себе по вере, сколько то, что не терпел усиливающегося христианства и злобствовал на благочестие. Надобно, как они учат, чтобы философия и царская власть сходились вместе, но не для прекращения, а для умножения общественных зол. И первым делом его высокомерия и высокоумия было то, что сам на себя возложил венец, сам себя почтил высоким титлом, которое не как случайную добычу, но как награду за добродетель дает или время, или приговор царя, или, что бывало в прежние времена, определение сената. Но он не признает господина в царстве господином раздаваемых почестей. А, во – вторых, увидев, что первая дерзость доводит до необходимости поддержать свое высокоумие, что еще замышляет? До чего простирается в нечестии и наглости? Какое неистовство! Он вооружается против самого Констанция и ведет с Запада войско под предлогом оправдать себя в принятии царского венца, потому что наружно скрывал еще свое высокоумие. Но в действительности замышляет захватить в свои руки державу и удивить свет неблагодарностью. И не обманулся в надежде.
Да не дивятся сему не постигающие недомыслимой глубины Божиих распоряжений, по которым все совершается! Да не дивятся предоставляющие мироправление Художнику, Который, конечно, премудрее нас и творение Свое ведет, к чему и как Ему угодно, без всякого же сомнения – к совершенству и уврачеванию, хотя врачуемые и огорчаются! По таким распоряжениям и он[23 - Юлиан.] не возбужден на зло (Божество, по естеству благое, нимало не виновно во зле, и злые дела принадлежат произвольно избирающему злое), но не удержан в стремлении. С быстротой протек он свои владения и часть варварских пределов, захватывая проходы, не с намерением овладеть ими, но чтобы скрыть себя; уже приближается к царскому дворцу, осмелившись на такой поход, как говорили его единомышленники, по предведению и по внушению демонов, которые прорекали ему будущее и предустрояли перемену обстоятельств. Но, по словам не скрывающих истины, он явился в срок, назначенный для тайного и сокрытого во мраке злодеяния; поспешил ко дню смерти, которой сам был виновником, тайно поручив совершить злоумышление одному из домашних. А потому здесь было не предведение, но обыкновенное знание, простое злодейство, а не благодеяние бесов. Сколько же бесы проницательны в таких делах, ясно показала Персия. И пусть умолкнут те, которые поспешность его приписывают бесам; разве их делом назовем и то, что он был злобен! Если бы кончина царя не предшествовала нашествию мучителя и тайная брань не производилась сильней открытой, то злодей узнал бы, может быть, что поспешал на собственную погибель, и прежде, нежели вразумлен поражением у персов, понес бы наказание за свое высокоумие в римских пределах, в которые злонамеренно дерзнул вторгнуться. И вот доказательство! Когда еще он был в пути и думал, что намерения его неизвестны, воинство могущественнейшего царя окружает его и пресекает ему даже возможность к побегу. (Так показало последствие; ибо и по получении державы ему стоило не малого труда одолеть сие войско.) И в сие самое время, пылая гневом на высокоумие и нечестие, имея в сетях хитрейшего из людей, на пути к месту действий (подлинно велики грехи наши!) государь, после многих прошений к Богу и людям – извинить его человеколюбие, оставляет жизнь, своим походом доказав христианам ревность о благочестии.
И здесь, приступая к продолжению слова, проливаю слезы, смешанные с радостью. Подобно тому, как река и море между собой борются и сливаются, – и во мне происходит борьба – и слияние, и волнение чувствований. Последние события исполняют меня удовольствием, а предшествовавшие извлекают у меня слезы – слезы не только о христианах и о напастях, какие их постигли или навлеченные лукавым, или попущенные Богом по причинам, Ему ведомым, и, может быть, за наше превозношение, требовавшее очищения, но также слезы и об его[24 - Юлиана.] душе, и о всех увлекшихся с ним в ту же погибель. Иные оплакивают одни последние их поражения и здешние страдания; потому что имеют в виду одну настоящую жизнь и не простираются мыслью в будущее, не думают, что будет расчет и воздаяние за дела земной жизни, но живут подобно бессловесным, заботятся о текущем только дне, об одном настоящем, одними здешними удобствами измеряют благополучие и всякую встречающуюся неприятность называют несчастьем. Но для меня достоплачевнее будущие их мучения и казнь, ожидающая грешников. Не говорю еще о величайшем наказании, то есть о том, сколько для них будет мучительно отвержение их Богом. Как не пролить мне слез о сем несчастном? Как не оплакивать бежавших к нему более, нежели тех, которые были им гонимы? И не больше ли еще должен я плакать об увлекшем в беззаконие, нежели о передавшихся на сторону зла? Даже гонимым страдать за Христа было вовсе не зло, а самое блаженное дело, не только по причине будущих воздаяний, но и по причине настоящей славы и свободы, какую они приобрели себе своими бедствиями. А для тех, что претерпели они здесь, есть только начало уготованного и угрожающего им в будущем. Для них гораздо было бы лучше, если бы долее страдали здесь, но не были соблюдаемы для тамошних истязаний. Так говорю по закону, который повелевает не радоваться падению врага и от того, кто устоял, требует сострадания.
Но мне опять должно к нему обратить слово. Что за ревность превзойти всех во зле? Что за страсть к нечестью? Что за стремление к погибели? Отчего сделался таким христоненавистником ученик Христов, который столько занимался словом истины, и сам говорил о предметах душеспасительных, и у других поучался? Не успел он наследовать царства, и уже с дерзостью обнаруживает нечестие, как бы стыдясь и того, что был некогда христианином, или мстя христианам за то, что носил с ними одно имя. И таков первый из смелых его подвигов, как называют гордящиеся его тайнами (какие слова принужден я произнести!): он воду крещения смывает скверной кровью, наше таинственное совершение заменяя своим мерзким и уподобляясь, по пословице, свинье, валяющейся в тине; творит очищение над своими руками, чтобы очистить их от бескровной Жертвы, через которую делаемся мы участниками со Христом в страданиях и Божестве; руководимый злыми советниками зловредного правления, начинает свое царствование рассматриванием внутренностей и жертвоприношениями.
Но, упомянув о рассмотрении внутренностей и о суеверии или, точнее сказать, зловерии его в таких делах, не знаю, описывать ли мне чудо, разглашаемое молвой, или не верить слухам? Колеблюсь мыслью и недоумеваю, на что преклониться, потому что достойное вероятия смешано здесь с неимоверным. Нет ничего невероятного, что при таком новом явлении зла и нечестия было какое – нибудь знамение; да и неоднократно случались знамения при великих переворотах. Но чтобы так было, как рассказывают, это весьма удивительно для меня, а конечно, и для всякого, кто желает и считает справедливым, чтобы чистое объяснялось чисто. Рассказывают же, что, принося жертву, во внутренностях животного увидел он Крест в венце. В других возбудило сие ужас, смятение и сознание нашей силы, а наставнику нечестия придало только дерзости; он протолковал: Крест и круг значат, что христиане отовсюду окружены и заперты. Сие – то для меня чудно, и ежели это неправда, пусть развеется ветром; если же правда, то здесь опять Валаам пророчествует, Самуил, или призрак его, вызывается волшебницей, опять бесы невольно исповедуют Иисуса и истина обнаруживается через противное истине, дабы тем более ей поверили. А может быть, это делалось и для того, чтобы его удержать от нечестия, потому что Бог, по Своему человеколюбию, может открывать многие и необыкновенные пути ко спасению. Но вот о чем рассказывают весьма многие и что не чуждо вероятия: сходил он в одну из недоступных для народа и страшных пещер (о, если бы тем же путем сошел он и во ад, прежде нежели успел столько в зле!); его сопровождал человек, знающий такие дела, или, лучше сказать, обманщик, достойный многих пропастей. Между прочими видами волхвования употребляется у них и тот, чтобы с подземными демонами совещаться о будущем где – нибудь во мраке, потому ли, что демоны более любят тьму, ибо сами суть тьма и виновники тьмы, то есть зла; или потому, что они бегают благочестивых на земле, ибо от встречи с ними приходят в бессилие. Но когда храбрец наш идет вперед, его объемлет ужас, с каждым шагом становится ему страшнее; рассказывают еще о необыкновенных звуках, о зловонии, об огненных явлениях и, не знаю, о каких – то призраках и мечтаниях. Пораженный нечаянностью, как неопытный в таком деле, он прибегает ко Кресту, сему древнему пособию, и знаменуется им против ужасов, призывает на помощь Гонимого. Последовавшее за сим было еще страшнее. Знамение подействовало, демоны побеждены, страхи рассеялись. Что же потом? Зло оживает, отступник снова становится дерзким, порывается идти далее – и опять те же ужасы. Он еще раз крестится – и демоны утихают. Ученик в недоумении; но с ним наставник, перетолковывающий истину. Он говорит: «Не устрашились они нас, но возгнушались нами». И зло взяло верх. Едва сказал наставник – ученик верит, а убедивший ведет его к бездне погибели. И не удивительно: порочный человек скорее готов следовать злу, нежели удерживаться добром. Что потом говорил или делал он или как его обманывали и с чем отпустили – пусть знают те, которые посвящают в сии таинства и сами посвящены. Только по выходе оттуда и в душевных расположениях, и в делах его видно было беснование, и неистовство взоров показывало, кому совершал он служение. Если не с того самого дня, в который решился он на такое нечестие, то теперь самым явным образом вселилось в него множество демонов; иначе бы напрасно сходил он во мрак и сообщался с демонами, что называют они вдохновением, благовидно превращая смысл слов. Таковы были первые его дела!