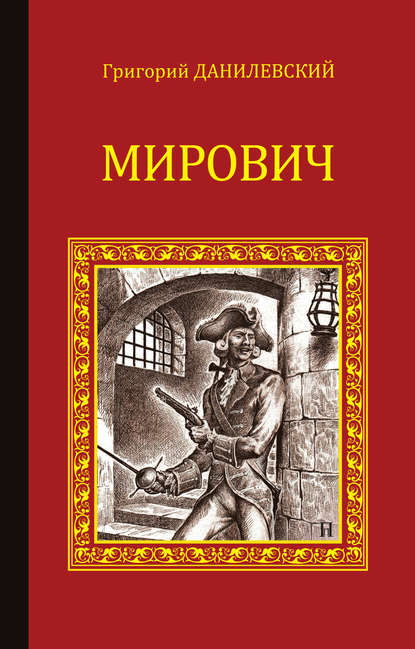По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мирович
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Волшебница! Я от тебя без ума.
– Стыдитесь, полковник! – вспыхнув, сказала Поликсена. – У вас сыновья в ученье, жена так хворает, а вы… ведете себя, извините, как мальчик…
– Но, милая лапушка, – ответил Бехлешов, загородив дорогу Пчёлкиной, – я все для тебя, все…
Поликсена метнула в него молнию из серых глаз, оттолкнула селадона и молча ушла к себе наверх.
– Погоди ж ты, рыжая гордячка! Дам тебе отплату! – проворчал ей вслед взбешенный неудачей Бехлешов.
Любезничанья с Пчёлкиной толстенького, седого и короткого ростом куртизана прекратились. За чаем, обедом и за ужином он не говорил с ней почти ни слова. Жене его стало лучше, и Бехлешов начал укладываться с целью возвратиться в Петербург. Пчёлкина, чтоб смягчить разлад, собиралась просить его разузнать в коллегии о Мировиче, с которым она переписывалась и от которого, перед выездом из России, получила кряду два нежных письма.
«Спросит, не жених ли? – думала она. – Нарочно скажу – жених… и побесится, и отстанет скорее… А чем же Мирович и не жених? – с горечью прибавила она и вздохнула. – И влюблен и верен… чего же больше?»
Сидела Поликсена как-то у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо Птицыной о приключении с Бехлешовым и задумалась.
«Ведь это, пожалуй, всегда так будет, – сказала она себе. – Где ж конец? И неужели выхода нет?.. Мирович! Ну, что он такое? Да как все: добрый, незнатный, безродный, как и я; говорят, склонен к картам, мотовству… Но от мотовства и от карт можно еще исправиться, в люди выйти… Молод – остепенится… Слышно, им теперь довольны; даже за отличие повысили… Но не то, все не то… Беден, и то пустяки… Жить нечем будет – государыня поможет. Да о том ли я мечтала, того ли ждала!»
Поликсена остановилась писать. Воспоминания вновь зародились в ее голове: злой арапчонок, сорочье дитё, Иоанна д’Арк, с мечом и шлемом, у опушки дремучего дубового леса, предсказание ворожеи… кровь и шум…
Она сидела, склонясь горячим лбом на холодную, исхудалую руку. Слезы навертывались на глаза. Снизу по лестнице послышались шаги. Кто-то будто поднялся на несколько ступенек и остановился.
«Мне почудилось, – сказала себе Поликсена. – Счастье! Не дождаться мне, видно, его… А у других – вон в газетах – только и говору, что о романах, о любви… И почему мне не видать счастья? Почему к другим оно приходит, да такое щедрое – негаданное, нежданное?.. Мужья знатные, в чести…»
Она опять взялась за перо.
В раскрытое окно мезонина виднелись очертания окрестных арденских холмов и лесов, над ними – усеянное звездами, тихое июльское небо. Под окном был скалистый обрыв над ручьем. В доме давно всю улеглись, заснули. Наутро Бехлешов уезжал в Россию. Недалеко оставалось до зари.
Пчёлкина медленно протянула руку к чернильнице, обмакнула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свечи в тяжелом шандале будто колыхнулось. Видно, с надворья пахнуло свежим предрассветным ветерком… На ковре, за стулом, что-то шелохнулось… Поликсена подняла глаза: перед нею, расфранченный, завитый и напудренный, с пучком лилий и роз в руке, стоял кругленький, толстенький Бехлешов.
– Добрый вечер, Поликсена Ивановна, – произнес он, робко улыбаясь.
Она вскочила, взглянула на дверь.
– Здесь и снизу заперто: тш! – сказал он. – Мы одни… выслушайте меня…
– Что это значит? – спросила Поликсена. – Как смеете вы?..
Бехлешов протянул ей букет.
– Райский цветник, волшебница! – шептал он, не сходя с места. – Сна нет, страдаю, томлюсь…
– Роман! – усмехнулась Пчёлкина. – Но довольно! идите, сударь; не вас мне жаль – вашей жены…
– Королева! Зорька моя! – сказал, опускаясь перед ней на колено, Бехлешов. – Клянусь тебе, люблю… убей, только выслушай… Все бери, деньги, алмазы… Осчастливь, убежим…
Поликсена вспомнила слова ворожеи.
– Все бери – ничего не пожалею! – шептал Бехлешов, прижимая к груди букет. – Слово только скажи… Семью брошу, службу, хоть на край света с тобой… Озолочу, в кабалу отдамся: сто душ на Урале на тебя отпишу…
Поликсена сложила руки.
– Какое унижение, какой позор! – сказала она с дрожью. – Вон отсюда, слышите? Вон! – бешено топнув ногой, продолжала она, указывая на дверь. – Уходите; иначе, не гневайтесь, подниму крик, разбужу весь дом…
Бехлешов подошел к ней. Она бросилась к окну.
– Шаг сделаете, – вскрикнула она, указывая на окно, – брошусь туда… на вашей душе будет смерть…
– Стойте, стойте, – прошептал Бехлешов, – ужли на том и конец?..
Пчёлкина молчала. Негодующие серые глаза холодно и бешено смотрели на него от окна.
– Будешь меня помнить! – проговорил, уходя, Бехлешов.
Поликсена утром явилась к больной, попросила свое выслуженное жалованье, отперла сундук, взяла свой паспорт, узелок с вещами и сходила на почту. К обеду она вошла в кабинет к Бехлешову. В руках ее были книги и газеты. Полковник, сидя у раскрытого бюро, сводил счеты. При входе Пчёлкиной он слегка побледнел, но не оглянулся, будто ее не заметил.
– Ошиблись вы, Валерьян Ильич, – почтительно и сдержанно сказала Поликсена, – но более вас ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы ноне люди на свете. Теперь знаю… Гнуснее, ничтожнее иного человека – ох, ничего не найдешь…
Бехлешов упорно молчал. Лицо его слегка залила синева. Он тяжело дышал, по-прежнему не оглядываясь на говорившую.
– У вас даже совести нет, – с горькой усмешкой продолжала Поликсена, – ужли ж и впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бедную, нищую сироту – вам нипочем… С такою-де можно!.. Но не все сироты одинаковы… Ошибаетесь… И не всякой не помнящей родства подкидышу по плечу грязь, ничтожество и позолоченное бесчестие из-за куска хлеба. Иная, сударь, верит и в лучшую долю…
Губы Бехлешова шевельнулись. Он хотел что-то сказать и опять не отозвался.
– Вы молчите? – кончила Пчёлкина. – Горды вы, чтоб покаяться перед такой пустошью?.. Под крыльцом в выгребках ее нашли!.. Будьте вы прокляты, с вашим богатством и с вашею низкой, одного токма себя любящей душой… А это – данное вами, сударь, для чтения… Вразумили вы меня окончательно многим из этого… особенно ж вот этим: в книге я нашла к вам письмо от вашей фаворитки из России.
Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на стол, медленно вышла и в тот же вечер, в почтовом омнибусе, уехала в Вену и далее в Петербург.
Осенью минувшего 1751 года императрица сильно захворала, а в декабре скончалась. Пристроить Поликсену, с Апраксиной и с Шуваловым, она не успела – ни в оперу, ни замуж. Хотя, во время болезни государыни, Пчёлкину все дворовые волокиты оставили в покое – им тогда было не до нее, – но Бехлешов не упускал ее из виду. Со смертью государыни все изменилось. Шуваловы пали. Влияние Апраксиной заменилось влиянием Лизаветы Воронцовой. К новому году Бехлешов, благодаря покровительству своего родича, Гудовича, был назначен помощником оберкригскомиссара, голштинца Цейца, и произведен в генералы. Служебное значение его в военной коллегии, а с ним и его связи повысились. Несмотря на возврат из чужих краев жены, он то посылал Пчёлкиной, через ее подруг, словесные поклоны, то письменно клялся ей в неизменной любви.
Поликсена колебалась недолго. По совету Апраксиной она сходила к Лизавете Воронцовой, просить места при супруге государя. Воронцова послала ее к своей сестре, Дашковой. Взглянув на худенькую и бедно одетую камеристку старого, ненавистного ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никите Панину:
– Какая дерзость! Всякая горничная метит в наперсницы к новой государыне.
Поликсена стала белее стены, смерила взглядом Дашкову и молча удалилась.
«Сочтемся когда-нибудь», – подумала она.
Оставшись за штатом, она решилась не ждать более ничего, не просить и не ходить ни к кому, а выехать из столицы, скрыться в такую глушь, где бы и следов ее никто не мог найти. Задумав это, она выискала случай и в середине зимы 1762 года, после похорон императрицы, не простившись даже со знакомыми, наскоро собралась, написала прощальное письмо – также уезжавшей из столицы актрисе Сакко, – и, без сожаления, так быстро оставила Петербург, что ни Бавыкина, ни близкие ее знакомые не знали, куда она делась.
Ночная попойка заставила Мировича более суток не выходить сверху, из комнат Ломоносова. Оба они скрывались там – один от жены, другой от Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вследствие невоздержности, возвратился особенный, судорожный, с странным и смешным присвистом кашель, которым он, как и опухолью ног, страдал в последние годы. Ломоносов в шутку называл его своим «соловьем». И этот соловей имел своеобразный обычай: он начинал в нем распевать именно всякий раз, когда Ломоносов не выдерживал и заходил в ресторан Иберкампфа, Гантовера или бывший невдали от Синего моста Амбахарши.
Беседуя с Михаилом Васильевичем, в кабинете последнего, о масонстве, о чужих странах и новостях дня, Мирович вкратце передал ему и о своем, так печально кончившемся, сердечном романе. Поликсены не было, и где она – решительно нельзя было узнать. Ломоносов, выслушав исповедь Мировича, нахмурился.
«Вот она, судьба, – думал он, – что любим, чего жаждем, того и нет… И она-то что за птица? И чем он ей не пара? Писал, перестала отвечать… А может, только прячется, испытывает молодого человека, каков он и будет ли верен ей?»
Хозяин и гость делали разные предположения, судили, рядили. Мир фантастических грез охватил опять и не покидал Мировича. Ночью к постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, он ранен, брошен где-то в незнакомом городе. Собор залит огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то венчают. Новобрачная сходит по ступеням паперти – это Поликсена. Мирович в рубище, на костыле, пробирается сквозь толпу, хочет крикнуть – и просыпается…
Вечером вторых суток дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверх записку, доставленную с придворным лакеем. То было письмо к Мировичу от камер-фурьера Василия Кириллыча Рубановского.
– Стыдитесь, полковник! – вспыхнув, сказала Поликсена. – У вас сыновья в ученье, жена так хворает, а вы… ведете себя, извините, как мальчик…
– Но, милая лапушка, – ответил Бехлешов, загородив дорогу Пчёлкиной, – я все для тебя, все…
Поликсена метнула в него молнию из серых глаз, оттолкнула селадона и молча ушла к себе наверх.
– Погоди ж ты, рыжая гордячка! Дам тебе отплату! – проворчал ей вслед взбешенный неудачей Бехлешов.
Любезничанья с Пчёлкиной толстенького, седого и короткого ростом куртизана прекратились. За чаем, обедом и за ужином он не говорил с ней почти ни слова. Жене его стало лучше, и Бехлешов начал укладываться с целью возвратиться в Петербург. Пчёлкина, чтоб смягчить разлад, собиралась просить его разузнать в коллегии о Мировиче, с которым она переписывалась и от которого, перед выездом из России, получила кряду два нежных письма.
«Спросит, не жених ли? – думала она. – Нарочно скажу – жених… и побесится, и отстанет скорее… А чем же Мирович и не жених? – с горечью прибавила она и вздохнула. – И влюблен и верен… чего же больше?»
Сидела Поликсена как-то у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо Птицыной о приключении с Бехлешовым и задумалась.
«Ведь это, пожалуй, всегда так будет, – сказала она себе. – Где ж конец? И неужели выхода нет?.. Мирович! Ну, что он такое? Да как все: добрый, незнатный, безродный, как и я; говорят, склонен к картам, мотовству… Но от мотовства и от карт можно еще исправиться, в люди выйти… Молод – остепенится… Слышно, им теперь довольны; даже за отличие повысили… Но не то, все не то… Беден, и то пустяки… Жить нечем будет – государыня поможет. Да о том ли я мечтала, того ли ждала!»
Поликсена остановилась писать. Воспоминания вновь зародились в ее голове: злой арапчонок, сорочье дитё, Иоанна д’Арк, с мечом и шлемом, у опушки дремучего дубового леса, предсказание ворожеи… кровь и шум…
Она сидела, склонясь горячим лбом на холодную, исхудалую руку. Слезы навертывались на глаза. Снизу по лестнице послышались шаги. Кто-то будто поднялся на несколько ступенек и остановился.
«Мне почудилось, – сказала себе Поликсена. – Счастье! Не дождаться мне, видно, его… А у других – вон в газетах – только и говору, что о романах, о любви… И почему мне не видать счастья? Почему к другим оно приходит, да такое щедрое – негаданное, нежданное?.. Мужья знатные, в чести…»
Она опять взялась за перо.
В раскрытое окно мезонина виднелись очертания окрестных арденских холмов и лесов, над ними – усеянное звездами, тихое июльское небо. Под окном был скалистый обрыв над ручьем. В доме давно всю улеглись, заснули. Наутро Бехлешов уезжал в Россию. Недалеко оставалось до зари.
Пчёлкина медленно протянула руку к чернильнице, обмакнула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свечи в тяжелом шандале будто колыхнулось. Видно, с надворья пахнуло свежим предрассветным ветерком… На ковре, за стулом, что-то шелохнулось… Поликсена подняла глаза: перед нею, расфранченный, завитый и напудренный, с пучком лилий и роз в руке, стоял кругленький, толстенький Бехлешов.
– Добрый вечер, Поликсена Ивановна, – произнес он, робко улыбаясь.
Она вскочила, взглянула на дверь.
– Здесь и снизу заперто: тш! – сказал он. – Мы одни… выслушайте меня…
– Что это значит? – спросила Поликсена. – Как смеете вы?..
Бехлешов протянул ей букет.
– Райский цветник, волшебница! – шептал он, не сходя с места. – Сна нет, страдаю, томлюсь…
– Роман! – усмехнулась Пчёлкина. – Но довольно! идите, сударь; не вас мне жаль – вашей жены…
– Королева! Зорька моя! – сказал, опускаясь перед ней на колено, Бехлешов. – Клянусь тебе, люблю… убей, только выслушай… Все бери, деньги, алмазы… Осчастливь, убежим…
Поликсена вспомнила слова ворожеи.
– Все бери – ничего не пожалею! – шептал Бехлешов, прижимая к груди букет. – Слово только скажи… Семью брошу, службу, хоть на край света с тобой… Озолочу, в кабалу отдамся: сто душ на Урале на тебя отпишу…
Поликсена сложила руки.
– Какое унижение, какой позор! – сказала она с дрожью. – Вон отсюда, слышите? Вон! – бешено топнув ногой, продолжала она, указывая на дверь. – Уходите; иначе, не гневайтесь, подниму крик, разбужу весь дом…
Бехлешов подошел к ней. Она бросилась к окну.
– Шаг сделаете, – вскрикнула она, указывая на окно, – брошусь туда… на вашей душе будет смерть…
– Стойте, стойте, – прошептал Бехлешов, – ужли на том и конец?..
Пчёлкина молчала. Негодующие серые глаза холодно и бешено смотрели на него от окна.
– Будешь меня помнить! – проговорил, уходя, Бехлешов.
Поликсена утром явилась к больной, попросила свое выслуженное жалованье, отперла сундук, взяла свой паспорт, узелок с вещами и сходила на почту. К обеду она вошла в кабинет к Бехлешову. В руках ее были книги и газеты. Полковник, сидя у раскрытого бюро, сводил счеты. При входе Пчёлкиной он слегка побледнел, но не оглянулся, будто ее не заметил.
– Ошиблись вы, Валерьян Ильич, – почтительно и сдержанно сказала Поликсена, – но более вас ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы ноне люди на свете. Теперь знаю… Гнуснее, ничтожнее иного человека – ох, ничего не найдешь…
Бехлешов упорно молчал. Лицо его слегка залила синева. Он тяжело дышал, по-прежнему не оглядываясь на говорившую.
– У вас даже совести нет, – с горькой усмешкой продолжала Поликсена, – ужли ж и впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бедную, нищую сироту – вам нипочем… С такою-де можно!.. Но не все сироты одинаковы… Ошибаетесь… И не всякой не помнящей родства подкидышу по плечу грязь, ничтожество и позолоченное бесчестие из-за куска хлеба. Иная, сударь, верит и в лучшую долю…
Губы Бехлешова шевельнулись. Он хотел что-то сказать и опять не отозвался.
– Вы молчите? – кончила Пчёлкина. – Горды вы, чтоб покаяться перед такой пустошью?.. Под крыльцом в выгребках ее нашли!.. Будьте вы прокляты, с вашим богатством и с вашею низкой, одного токма себя любящей душой… А это – данное вами, сударь, для чтения… Вразумили вы меня окончательно многим из этого… особенно ж вот этим: в книге я нашла к вам письмо от вашей фаворитки из России.
Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на стол, медленно вышла и в тот же вечер, в почтовом омнибусе, уехала в Вену и далее в Петербург.
Осенью минувшего 1751 года императрица сильно захворала, а в декабре скончалась. Пристроить Поликсену, с Апраксиной и с Шуваловым, она не успела – ни в оперу, ни замуж. Хотя, во время болезни государыни, Пчёлкину все дворовые волокиты оставили в покое – им тогда было не до нее, – но Бехлешов не упускал ее из виду. Со смертью государыни все изменилось. Шуваловы пали. Влияние Апраксиной заменилось влиянием Лизаветы Воронцовой. К новому году Бехлешов, благодаря покровительству своего родича, Гудовича, был назначен помощником оберкригскомиссара, голштинца Цейца, и произведен в генералы. Служебное значение его в военной коллегии, а с ним и его связи повысились. Несмотря на возврат из чужих краев жены, он то посылал Пчёлкиной, через ее подруг, словесные поклоны, то письменно клялся ей в неизменной любви.
Поликсена колебалась недолго. По совету Апраксиной она сходила к Лизавете Воронцовой, просить места при супруге государя. Воронцова послала ее к своей сестре, Дашковой. Взглянув на худенькую и бедно одетую камеристку старого, ненавистного ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никите Панину:
– Какая дерзость! Всякая горничная метит в наперсницы к новой государыне.
Поликсена стала белее стены, смерила взглядом Дашкову и молча удалилась.
«Сочтемся когда-нибудь», – подумала она.
Оставшись за штатом, она решилась не ждать более ничего, не просить и не ходить ни к кому, а выехать из столицы, скрыться в такую глушь, где бы и следов ее никто не мог найти. Задумав это, она выискала случай и в середине зимы 1762 года, после похорон императрицы, не простившись даже со знакомыми, наскоро собралась, написала прощальное письмо – также уезжавшей из столицы актрисе Сакко, – и, без сожаления, так быстро оставила Петербург, что ни Бавыкина, ни близкие ее знакомые не знали, куда она делась.
Ночная попойка заставила Мировича более суток не выходить сверху, из комнат Ломоносова. Оба они скрывались там – один от жены, другой от Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вследствие невоздержности, возвратился особенный, судорожный, с странным и смешным присвистом кашель, которым он, как и опухолью ног, страдал в последние годы. Ломоносов в шутку называл его своим «соловьем». И этот соловей имел своеобразный обычай: он начинал в нем распевать именно всякий раз, когда Ломоносов не выдерживал и заходил в ресторан Иберкампфа, Гантовера или бывший невдали от Синего моста Амбахарши.
Беседуя с Михаилом Васильевичем, в кабинете последнего, о масонстве, о чужих странах и новостях дня, Мирович вкратце передал ему и о своем, так печально кончившемся, сердечном романе. Поликсены не было, и где она – решительно нельзя было узнать. Ломоносов, выслушав исповедь Мировича, нахмурился.
«Вот она, судьба, – думал он, – что любим, чего жаждем, того и нет… И она-то что за птица? И чем он ей не пара? Писал, перестала отвечать… А может, только прячется, испытывает молодого человека, каков он и будет ли верен ей?»
Хозяин и гость делали разные предположения, судили, рядили. Мир фантастических грез охватил опять и не покидал Мировича. Ночью к постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, он ранен, брошен где-то в незнакомом городе. Собор залит огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то венчают. Новобрачная сходит по ступеням паперти – это Поликсена. Мирович в рубище, на костыле, пробирается сквозь толпу, хочет крикнуть – и просыпается…
Вечером вторых суток дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверх записку, доставленную с придворным лакеем. То было письмо к Мировичу от камер-фурьера Василия Кириллыча Рубановского.