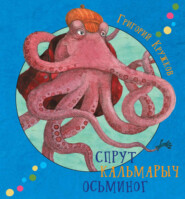По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очерки по истории английской поэзии. Романтики и викторианцы. Том 2
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Голубоглазая девочка, «самая молчаливая и добронравная в школе», она была на четыре года его младше. Но разница, должно быть, не бросалась в глаза, потому что Клэр всегда был невысокого роста (как и Ките, который стеснялся танцевать, оттого что был коротышкой). Они гуляли и играли вместе и болтали о том, о чем болтают дети за игрой, но он вспоминает в автобиографических записках, как внезапно холодело и трепетало его сердце, когда он касался руки Мэри.
Потом он перестал ходить в школу в Глинтон и не видел ее несколько лет. Они снова встретились в Мартынов день на деревенских посиделках. Играли в фанты. Она раз за разом выбирала его и, краснея, платила штраф поцелуем. Они стали часто встречаться. Ему было уже семнадцать, а ей в ту зиму только исполнилось тринадцать – по деревенским понятиям, девушка, почти невеста (да и по веронским – тоже).
Но она была дочерью фермера, а он – нищим батраком без ясного будущего, а значит – ей не пара. Он все больше думал об этом, и ему казалось, что она думает о том же. Все его стихи к ней остались утаенными, романтические признания невысказанными. Их свидания, прогулки по весенним полям и дорогам постепенно сошли на нет. Ему нужно было что-то делать ради хлеба насущного, искать работу, постоянное место. После 1816 года они, кажется, больше совсем не встречались.
Но Мэри осталась в его стихах, в его воспоминаниях. Чтобы не обижать Пэтти, он старался не упоминать в стихах имени своей первой любви, скрывая его за тремя звездочками. Но утаенное чувство продолжало жить в нем. И настало время, когда оно его спасло.
Погубило и спасло. Тогда, в Нортборо, он очутился на распутье. Можно было оставить «поэтическую блажь» и попытаться стать просто крестьянином. В сущности, у него не было другого выхода. Он устал жить на ничтожные подачки, которые никак не покрывали расходов семьи. Батрацкий сын, отравившийся в юности стихами, он жил как сомнамбула, стремящийся к одной недостижимой цели. Он сам понимал неуместность, раздвоенность своей жизни.
«Когда бы все люди чувствовали, как я, человечество не могло бы существовать – зелень полей лежала бы нераспаханной, деревья не рубили бы на дрова или на мебель и люди сохраняли бы мир таким, каким они нашли его в детстве, до самой своей смерти». Поразительно, но здесь почти дословное совпадение с Пушкиным (хотя и несколько другая мотивация): «Когда бы все так чувствовали силу / Гармонии! Но нет: тогда б не мог / И мир существовать; никто б не стал / Заботиться о нуждах низкой жизни; / Все предались бы вольному искусству» («Моцарт и Сальери»).
Клэр не мог предаться вольному искусству как «праздный счастливец»; но он не мог и предать триединый идеал, к которому тянулся с юности: красоты, бессмертия, поэзии. Мэри Джойс явилась к нему как воплощение этого идеала: призрачная опора, ангел-хранитель его снов и яви.
Он вспоминает и записывает в дневник давний сон, приснившийся ему еще тогда, когда он не напечатал ни строчки стихов. Она предстала перед ним, улыбаясь своей завораживающей улыбкой, вызвала из дому и повела его на поле, называемое Хилли Сноу. Вокруг было множество народа, дамы в пышных платьях, какие-то солдаты верхами, упражнявшиеся в сабельных приемах, толпа кишела как на ярмарке. Он поразился своей малости в этой толпе и смущенно спросил ее, зачем она позвала его в это огромное скопище людей, когда его единственное желание и радость – быть в одиночестве со своими мыслями. «Ты лишь один из этой толпы», – произнесла она и быстро повела его прочь. В следующий момент они оказались в городе, в книжной лавке, и там на одной из полок он увидел три тома со своим именем на переплете. Он недоуменно оглянулся на нее – и проснулся.
Другой сон, который он записал, был как бы видением Судного дня: много людей, спешащих по улице в сторону церкви, неестественный цвет неба и солнце, светящее каким-то лихорадочным, «лунным» блеском. В переполненном людьми храме она оказалась рядом – облаченная в белые одежды, как ангел-хранитель. Из угла часовни струился таинственный свет, оттуда должен был прозвучать окончательный приговор всему, что человек совершил на земле. Он услышал свое имя – и в этот миг «водительница моя улыбнулась озаренная радостью и губы ее прорекли что-то такое отчего мое сердце исполнилось спокойствием и счастьем…»
Я проснулся под звуки тихой музыки переполненный отрадой и печалью и продолжал говорить с ней наяву как будто она все еще склонялась надо мной – Эти грезы в которых она присутствовала как прекрасное женское божество подарили мне представление об возвышенной небесной красоте и ее приходы ночь за ночью оставили такие яркие следы в моей памяти – божественные отпечатки снов – что я не мог больше сомневаться в ее существовании…
XII
Не следует преувеличивать наивности Клэра, его «литературного целомудрия». Разумеется, за этими снами стоят великие литературные прототипы, прежде всего Данте, автор «Новой жизни» и «Комедии», певец Беатриче. Его венчанная жена Джемма ни разу не упоминается в его произведениях. Заметим, кстати, что Данте впервые увидел Беатриче, когда той было девять лет – почти как Мэри Джойс в год ее встречи с Клэром. Ангельское очарование детства, несомненно, отразилось на сакрализации образа возлюбленной у обоих поэтов: первое впечатление – самое сильное.
Можно вспомнить и Петрарку, и – ближе – Китса с его пророческими снами. Так, в «Оде Праздности» (1819) перед мысленным взором поэта проходят три символические фигуры: Любви, Честолюбия и Поэзии. В пароксизме тоски и безволия он гонит их из своей жизни и навеки прощается с этими тревожащими, демонскими образами:: «Прочь, тени, прочь из памяти моей / В край миражей, в обитель облаков!»
Напрасно: Ките был не в силах изгнать из памяти эту триаду – любовь, поэзию и жажду славы. Он тоже нуждался в поддержке, в женственном воплощении своего идеала; но Фанни Брон была слишком живой, слишком земной женщиной для того, чтобы соответствовать этому тройному образу.
Клэру было «проще»: Мэри Джойс уже давно перешла из плана реального в реальнейший, то есть идеальный. Став символом тоски и утраты, она утвердила свое место рядом с ним и в трудную минуту вдохнула в него силу сопротивления судьбе. Она стала его музой, ангелом-хранителем его дней и ночей; удивительно ли, что со временем он стал считать ее своей первой женой?
В 1835 году вышел последний, изданный по подписке сборник Джона Клэра «Сельская муза». Это было навязанное ему название, оригинальная рукопись Клэра называлась «The Midsummer Cushion» – «Летний коврик»; был такой старинный крестьянский обычай – вносить в дом вырезанный на лугу кусок дерна с цветами и украшать им комнату как ковриком. Последовало несколько благожелательных рецензий, несколько добрых писем от старых и новых знакомых – и все. И глухая безнадежность опять сомкнулась над ним.
Часы мои ползут, но время не идет,
Я чувствую себя лягушкой, вмерзшей в лед.
Но Клэр не сдавался. Он продолжал записывать в свою рабочую тетрадь все новые и новые стихи – как пишут его биографы, «ужасными самодельными чернилами». Их рецепт тоже сохранился среди бумаг Клэра: «Возьмите 3 унции растолченных дубильных орешков поместите в полторы пинты дождевой воды дайте постоять три дня добавьте полторы унции позеленевшей меди и кусочек медного купороса и встряхивайте каждый день перед употреблением».
Этими «ужасными» чернилами он писал стихи о бродягах и отверженных, о живущих в лесу «одиноких испуганных тварях» (выражение Шеймаса Хини): птахах, ежах, зайцах, барсуках… В этих стихах все больше напряжения и тревоги, все меньше проблесков безмятежной радости.
Клэра опять донимает депрессия. Письмо доктору Дарлингу в Лондон поражает беспомощностью, почти отчаянием:
…я очень болен, не могу описать что я чувствую но попытаюсь как смогу – любые звуки сделались мне невыносимы разные мысли хорошие и плохие беспрестанно кружатся в моем мозгу я не могу спать по ночам лежу с открытыми глазами и чувствую холод пробегающий по телу и вижу какие-то кошмары наяву прошлая ночь не принесла мне никакого облегчения…
Обратите внимание на фразу о невыносимости любых звуков. Она объясняет начало стихотворения, которое по-английски начинается словами «I hid ту love» – в частности, строку о «мушином звоне». Это стихотворение, наверное, одно из лучших в любовной лирике Клэра:
Любовь так долго я таил,
Что белый свет мне стал немил;
Мушиный звон меня терзал
И солнце жгло мильоном жал.
Я ей в глаза взглянуть не мог;
Но каждый под ногой цветок,
Прекрасный, словно божий рай,
Казалось, мне шептал: «Прощай».
Мы снова встретились в лесу,
Где колокольчик пил росу;
В жемчужно-серый ранний час
Я был обласкан синью глаз.
Ее скрывала дебрей мгла,
Ей пела песенку пчела,
И луч, скользя в листве густой,
Дарил цепочкой золотой.
Любовь так долго я таил,
Что ветерок меня валил;
Я всюду слышал дальний зов,
В жужжанье мух – рычанье львов;
И даже тишина могла
Меня пугать из-за угла;
И жгла, как тайна бытия,
Любовь сокрытая моя.
XIII
В ноябре 1836 года в Нортборо неожиданно заявился Джон Тейлор. Он привез с собой доктора для освидетельствования здоровья Клэра. По словам самого Тейлора, Клэр выглядел как обычно, разумно отвечал на все вопросы, смеялся, вспоминая смешные происшествия в Лондоне. Лишь иногда что-то невнятно бормотал себе под нос. Если прислушаться, можно было расслышать нечто вроде: «боже спаси», «боже оборони докторов»… То ли «докторов», то ли «от докторов» – Тейлор не понял. Однако он сделал вывод, что разум Клэра пошатнулся. Приезжий врач был того же мнения и рекомендовал поместить Клэра в лечебницу. Тейлор сразу же нанес визит местному пастору Чарльзу Моссопу, который обещал переговорить с графом Уильямсом (чьим арендатором был Клэр) о больнице.
Что-то в этой истории остается для меня не совсем ясным. Прежде всего, по чьей инициативе возник вопрос о медицинском освидетельствовании? Не мог ли в этом с самого начала участвовать преподобный пастор Моссоп или, может быть, сама Пэтти Клэр? Последнее представляется вполне вероятным.
Ясно, что у Пэтти накопилось немало поводов для недовольства своим мужем. Работником он был никудышным, постоянно то болел, то хандрил, то чудил, то писал свои бесконечные вирши, от которых шло одно расстройство. Правда, он нежно любил детей (у них было три сына и четыре дочери), заботился об их образовании, выписывал и доставал для них самые лучшие и полезные книги. Согласно семейному преданию, он не мог видеть, как детей наказывали, и порой, когда Пэтти сгоряча пыталась вздуть кого-то из них, предлагал, чтобы взамен вздули его самого. И все-таки он, со всеми своими странностями и непонятными хворями, мог казаться обузой. Человек, занимающийся бесполезным и неприбыльным делом, в крестьянской среде всегда считался ненормальным. (Впрочем, не только в крестьянской и не только в те времена.) Пэтти никогда не понимала занятий мужа, зато она была сильной и энергичной женщиной. Она терпела его стихописание, пока оно не стало совсем гиблым делом. К тому же, в последнее время Клэр явно рехнулся, вообразив, что у него две жены: Мэри Джойс, которой он не видел уже двадцать лет, и она, Пэтти. Не всякая женщина такое выдержит.
Говорили еще о пьянстве Клэра. Но это, по-видимому, было злостной сплетней. Он мог выпить и даже немного пошуметь – но пьяницей не был тем более буйным. Ни в молодости, ни в зрелые годы, ни в старости. Это мы знаем точно, ведь более двадцати пяти лет Клэр провел в больницах, под наблюдением врачей, внимательно следивших за его поведением.
Итак, Тейлор условился с преподобным мистером Моссоном, что тот обратится с графу Уильямсу по поводу Клэра. Пока граф думал (а в те времена лорды думали неспешно), миновало несколько месяцев, и тем временем в голову Тейлора пришла удачная мысль. Незадолго до этого он напечатал книгу известного врача-психиатра Мэтью Алена «Опыт классификации душевнобольных». При очередной встрече он переговорил с ним. Под покровом глубокой секретности были сделаны все нужные приготовления. Наконец, в июне 1837 года посланец доктора Алена появился в Нортборо. При нем была записка Клэру от Джона Тейлора, в которой говорилось: «Податель сего привезет Вас в Лондон. Положитесь на него полностью… Вам будет оказана полная медицинская помощь неподалеку от города, которая вас совершенно исцелит».
Через несколько дней Клэр находился уже за восемьдесят миль от своего дома, в местечке Хай-Бич возле Эппинг-парка, к северу от Лондона, где располагалась частная психиатрическая лечебница доктора Алена.
XIV
Здесь я хотел бы поделиться с читателями некоторыми собственными соображениями, может быть, и неверными – ведь я не специалист. Я думаю, что большая часть так называемых душевных расстройств имеет не физиологический, а социальный характер – и в смысле причин, и в смысле симптомов. Бедняка, окруженного голодной семьей и погруженного при этом в мечты стихотворства, безусловно сочтут сумасшедшим. Поместите этого же человека в барский дом, снабдите деньгами и штатом слуг – никому и в голову не придет объявить его больным, любые его эксцентричности будут трактоваться как милые чудачества.
Да и откуда взяться депрессии при хорошей жизни? Другое дело, если человек посвящает себя неустанному поэтическому труду, одновременно борясь с собственным невежеством, с отчаянной нуждой и сопротивлением косной, равнодушной среды. Такое давление прогнет любую душу. Но вспомним, как быстро проходили многие скорби и болезни Клэра, едва его пригревало солнце удачи, дружества и счастливого рассеянья от забот.
В Хай-бич, после неизбежного первого шока, он должен был почувствовать облегчение: лечебница доктора Алена дала ему передышку. Отметим, что это было одно из самых передовых заведений такого рода в Англии. В стране, где еще недавно понятие «сумасшедший» ассоциировалось с цепями и плетьми Бедлама, Алену удалось создать нечто вроде семейного пансиона для душевнобольных, где врач со своими подопечными жили в одном большом доме как добрые соседи, где устраивались игры, танцы и всевозможные совместные развлечения. Клэр получил полную возможность свободно гулять по окрестным полям и лесам («красивее природы я не видывал в жизни», – писал он домой), сочинять стихи, сколько вздумается, и не беспокоиться о хлебе насущном.
Его физическое здоровье намного улучшилось, душевное настроение внешне успокоилось. Но именно здесь, в Хай-Бич, у Клэра развились некие странности, которые биографы называют «маниями». Здесь он стал писать «Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуана» размером Байрона, причем в записных книжках сохранились наброски объявлений такого типа:
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ НАПЕЧАТАНО –
Новый том стихотворений лорда Байрона