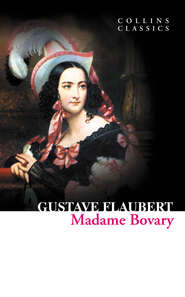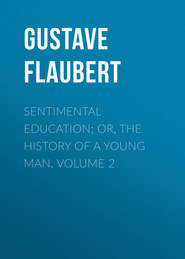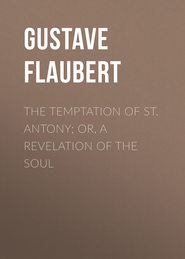По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Саламбо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Солдаты, Око Ваала.
Потом он спросил самнита, который шатался, как раненый журавль:
– А тебя кто искалечил?
Оказалось, что это начальник сломал ему ногу железной палкой. Такая бессмысленная жестокость возмутила суффета; вырвав из рук Гиденема гагатовое ожерелье, он крикнул:
– Проклятье собаке, которая уродует стадо! Калечить рабов? Помилуй, Танит! Ты разоряешь своего господина! Задушить его в навозной куче! А те, которых тут нет, где они? Ты убил их, присоединившись к солдатам?
Лицо Гамилькара было такое страшное, что все женщины разбежались. Рабы, отступая, образовали большой круг, посредине которого они остались вдвоем. Гиденем неистово целовал его сандалии. Гамилькар стоял, подняв на него руку.
Но, сохранив ясность мыслей, как в разгаре битвы, он вспомнил множество гнусностей и позор, о котором хотел не думать. При свете гнева, как при сверкании молнии, перед ним сразу предстали все постигшие его беды. Правители деревень убежали из страха перед солдатами, быть может, по соглашению с ними. Все его обманывали. Он слишком долго сдерживал свой гнев.
– Привести их сюда! – крикнул он. – Заклеймить им лбы раскаленным железом, как трусам!
Тогда принесли и разместили среди сада оковы, железные ошейники, ножи, цепи для приговоренных к работам в рудниках, колодки для зажатия ног, клешни для сжимания плеч, а также скорпионы – кнуты о трех плетях, заканчивающихся медными крючками.
Всех подлежащих наказанию поместили против солнца, со стороны Молоха-всепожирателя, положили наземь на живот или спину, а приговоренных к бичеванию приставили к деревьям, с двумя людьми около них: один считал удары, а другой их наносил.
Бичующий ударял обеими руками; бичи, свистя, срывали кору платанов. Кровь брызгала дождем на листья, и окровавленные тела корчились с воем у корней деревьев. Те, которых клеймили железом, разрывали себе лицо ногтями. Слышен был треск железных винтов; раздавались глухие толчки; иногда воздух оглашался вдруг пронзительным криком. У кухонь, среди разорванных одежд и содранных волос, люди раздували огонь опахалами, и слышался запах горелого тела. Истязуемые ослабевали, но, привязанные за руки, не падали, а только вращали головой, закрывая глаза. Другие, глядевшие на истязания, стали испускать вопли ужаса, и львы, вспоминая, быть может, о пире, зевая, расположились у края рвов.
Тогда показалась Саламбо на своей террасе. Она растерянно бегала из конца в конец. Гамилькар увидел ее. Ему показалось, что она простирает к нему руки с мольбой о пощаде. Он в ужасе направился в загон для слонов.
Слоны составляли гордость знатных карфагенян. Они носили на себе их предков, побеждали в войнах, и их почитали, как любимцев Солнца.
Мегарские слоны были самыми сильными в Карфагене. Гамилькар взял перед отъездом с Абдалонима клятву, что он будет беречь их, но они пали от увечий; осталось только три, и они лежали среди двора в пыли, перед обломками своих яслей.
Они узнали его и подошли к нему.
У одного были страшно рассечены уши, у другого большая рана на колене, а у третьего – отрезан хобот.
Они смотрели на него грустным, разумным взглядом; а тот, который лишился хобота, наклонил огромную голову и согнул колени, стараясь нежно погладить хозяина уродливым обрубком.
При этой ласке слона у Гамилькара потекли слезы. Он бросился на Абдалонима:
– Презренный! Распять его! Распять!
Абдалоним, лишаясь чувств, упал навзничь на землю.
Из-за фабрик пурпура, откуда медленно поднимался к небу синий дым, раздался лай шакала. Гамилькар остановился.
Мысль о сыне, точно прикосновение бога, сразу его успокоила. Сын был продолжением его силы, нескончаемым продлением его существа. Рабы не понимали, почему он вдруг затих.
Направляясь к фабрикам пурпура, он прошел мимо эргастула – длинного здания из черного камня, выстроенного в четырехдольном рву, с узкой дорожкой вдоль краев и четырьмя лестницами по углам. Иддибал, по-видимому, ждал наступления ночи, чтобы до конца подать знак. «Еще, значит, не поздно», – подумал Гамилькар и спустился в тюрьму. Несколько человек крикнули ему: «Вернись!». Наиболее отважные последовали за ним.
Открытая дверь хлопала на ветру. Сумерки проникали в узкие бойницы, и внутри видны были разбитые цепи, висевшие на стенах. Это было все, что осталось от военнопленных!
Гамилькар страшно побледнел, и те, что склонились извне надо рвом, увидели, как он оперся рукой о стену, чтобы не упасть.
Но шакал прокричал три раза кряду. Гамилькар поднял голову; он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Потом, когда солнце село, он исчез за изгородью из кактусов и вечером, на собрании богатых в храме Эшмуна, произнес, входя:
– Светочи Ваалов, я принимаю начальство над карфагенскими войсками против армии варваров!
Макарская битва
На следующий же день Гамилькар взял с Сисситов двести двадцать три тысячи кикаров золота и назначил налог в четырнадцать шекелей с богатых. Даже женщины должны были вносить свою долю; налог взимался и за детей, и, что было самым чудовищным в глазах карфагенян, он принудил к уплате подати жреческие коллегии.
Он потребовал выдачи всех лошадей, всех мулов, всего оружия. Некоторые хотели скрыть свое богатство – их имущество было продано. Борясь со скупостью других, он сам дал шестьдесят доспехов и тысячу пятьсот гоморов муки, то есть столько же, сколько все товарищество торговцев слоновой костью.
Он послал в Лигурию нанять солдат – три тысячи горцев, привыкших ходить на медведей; им заплатили вперед за шесть месяцев по четыре мины в день.
Все же нужна была армия. Но он не брал в нее, как это делал Ганнон, всех граждан. Он браковал прежде всего людей сидячего образа жизни, затем людей с толстыми животами или трусливых с виду. Зато он принимал обесчещенных людей, чернь Малки, сыновей варваров, вольноотпущенников; в награду он обещал новым карфагенянам полное право гражданства.
Первой его заботой было преобразование Легиона. Эти красивые молодые люди, которые считали себя военной славой Республики, пользовались полным самоуправлением. Он сместил их начальников, стал сурово обращаться с ними, заставлял их бегать, прыгать, всходить единым духом по подъему Бирсы, метать копья, бороться, спать ночью на площадях. Семьи легионеров приходили на них смотреть и жалели их.
Он заказал более короткие мечи, более крепкую обувь, точно определил число их слуг и ограничил дозволенное количество клади; и так как в храме Молоха хранились триста римских метательных копий, он все забрал, несмотря на протесты верховного жреца.
Из числа слонов, вернувшихся из Утики и имевшихся у частных собственников, он составил фалангу в семьдесят два слона и превратил ее в грозную военную силу. Каждый погонщик имел молот и долото, чтобы во время битвы раскроить череп слону, если тот взбесится.
Гамилькар уничтожил право Великого совета выбирать военачальников. Старейшины ссылались на законы, но он не считался с ними. Никто не решался роптать, все покорялись его властному характеру.
Он взял на себя одного руководство военными действиями, общее управление, финансы и, предупреждая нарекания, потребовал, чтобы счетами заведовал суффет Ганнон.
Он производил работы на укреплениях и, желая иметь достаточно камня, приказал снести старые внутренние стены, ставшие ненужными. Но различие имущественных состояний, заменив племенную иерархию, продолжало разделять потомство побежденных и сыновей победителей. Патриции были возмущены тем, что сносят развалины, а народ, сам не зная почему, радовался.
Вооруженные отряды с утра до вечера проходили по улицам; ежеминутно раздавался звук труб; на повозках возили щиты, палатки, пики; дворы были полны женщин, которые разрывали холст; всех охватывало возрастающее рвение; душа Гамилькара стала душой Республики.
Он разделил солдат на четные количества и расставил их рядами так, чтобы сильные чередовались со слабыми, и таким образом наименее отважные и наиболее малодушные шли вперед под напором других. Но из своих трех тысяч лигуров и лучших солдат Карфагена он смог образовать лишь простую фалангу из четырех тысяч девяноста шести гоплитов, защищенных бронзовыми шлемами и вооруженных деревянными копьями длиною в четырнадцать локтей.
Две тысячи молодых людей имели пращи, кинжалы и носили сандалии. Он присоединил к ним еще восемьсот солдат, вооруженных круглыми щитами и римскими мечами.
Тяжелая кавалерия состояла из тысячи девятисот прежних легионеров, одетых в латы из золоченой бронзы, как ассирийские клинабарии. Кроме того, у него было четыреста конных стрелков из лука, тех, кого называли тарентинцами, в шапках из меха ласки, с обоюдоострыми топорами, в кожаных туниках. Наконец тысяча двести негров из квартала караванов, присоединенных к клинабариям, научены были бежать рядом с жеребцами, придерживаясь одной рукой за их гриву. Все было готово, однако Гамилькар не выступал.
По ночам он часто уходил из Карфагена один и шел за лагуны, к устьям Макара. Не собирался ли он присоединиться к наемникам? Лигуры, расположившиеся на Маппалах, окружали его дом.
Опасения богатых как будто оправдались, когда однажды триста варваров подошли к стенам. Суффет открыл им ворота. То были перебежчики; они явились к своему прежнему господину из страха или из верности.
Возвращение Гамилькара не удивило наемников; этот человек, по их мнению, не мог умереть. Он вернулся, чтобы исполнить свои обещания. В их надежде не было ничего безрассудного – до того глубока была пропасть между родиной и войском. К тому же они не считали себя в чем-либо виновными. Все забыли про пир.
Шпионы, которых они перехватили, рассеяли их заблуждения. Это было торжеством для наиболее ожесточенных, и даже самые безразличные пришли в бешенство. К тому же две осады навели на них скуку. Ничто не двигалось с места. Лучше уж вступить в открытый бой! Много солдат поэтому разбежалось и бродило по окрестностям. При известии, что войско вооружается, они вернулись. Мато прыгал от радости.
– Наконец-то, наконец! – восклицал он.
Вражда, которую он чувствовал против Саламбо, обратилась на Гамилькара. Его злоба наметила себе наконец определенную жертву. И так как ему теперь легче было представить себе, в чем будет состоять его месть, то он уже почти поверил, что она осуществится, и заранее ликовал. Одновременно его охватили и глубокая нежность, и острое вожделение. То он видел себя среди солдат потрясающим головой суффета на копье, то ему казалось, что он в комнате с пурпуровым ложем и сжимает в объятиях Саламбо, покрывает ее лицо поцелуями, проводит рукой по ее густым черным волосам. Эта мечта, неосуществимость которой он понимал, терзала его. Он поклялся себе, что, коль скоро его провозгласили шалишимом, он поведет открытую войну. Твердая уверенность, что он не вернется с этой войны, побуждала его вести ее беспощадно.
Он пришел к Спендию и сказал ему:
– Возьми своих солдат, а я приведу своих. Предупреди Автарита. Мы погибнем, если Гамилькар нападет на нас! Слышишь? Вставай!