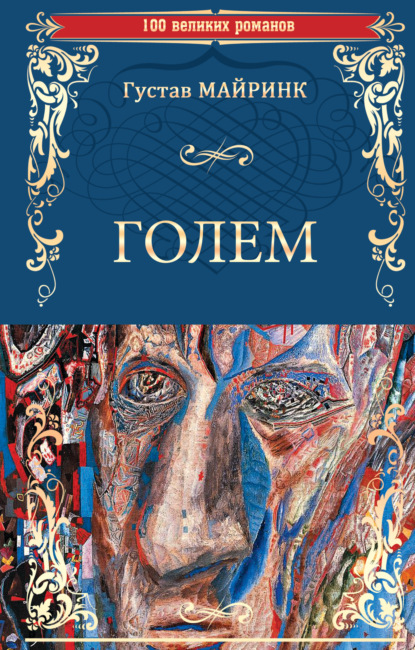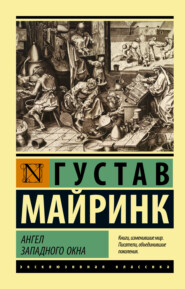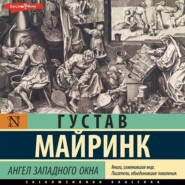По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я часто беседовал с архивариусом Шемаей Гиллелем, который хранит реликвии Староновой синагоги, в том числе и некий глиняный чурбан времен императора Рудольфа. Гиллель занимался каббалой и думает, что эта глыба земли с членами человеческого тела, может быть, не что иное, как древнее предзнаменование, совсем как свинцовая головка в рассказанном случае. А незнакомец, который тут бродит, вернее всего представляет собою фантастический или мысленный образ, который средневековый раввин оживил своею мыслью раньше, чем он мог облечь его плотью. И вот, через правильные промежутки времени, при тех же гороскопах, при которых он был создан, Голем возвращается, мучимый жаждой материальной жизни.
Покойная жена Гиллеля тоже видела Голема лицом к лицу и почувствовала, подобно мне, что была в оцепенении, пока это загадочное существо держалось вблизи.
Она была вполне уверена в том, что это могла быть только ее собственная душа. Выйдя из тела, она стала на мгновение против нее и обликом чужого существа заглянула ей в лицо.
Несмотря на отчаянный ужас, овладевший ею тогда, она ни на секунду не потеряла уверенности в том, что тот другой мог быть только частицей ее собственного духа.
. . . . . . . . . . . . .
– Невероятно, – пробормотал Прокоп, глубоко задумавшись.
Художник Фрисландер казался тоже погруженным в размышление.
Постучались в дверь, и старуха, приносящая мне вечером воду и прислуживающая мне вообще, вошла, поставила глиняный кувшин на пол и молча вышла.
Мы все взглянули на нее и, как бы проснувшись, осмотрелись, но еще долго никто не произносил ни слова.
Как будто вместе со старушкой в комнату проникло что-то новое, к чему нужно было еще привыкнуть.
– Да! У рыжей Розины тоже личико, от которого не скоро освободишься; из всех уголков и закоулков оно все появляется перед вами, – вдруг заметил Цвак, без всякого повода. – Эту застывшую наглую улыбку я знаю всю жизнь. Сперва бабушка, потом мамаша!.. И все то же лицо… Никакой иной черточки! Все то же имя Розина… Все это воскресение одной Розины за другой…
– Разве Розина не дочь старьевщика Аарона Вассертрума? – спросил я.
– Так говорят, – ответил Цвак, – но у Аарона Вассертрума не один сын и не одна дочь, о которых никто ничего не знает. Относительно Розининой матери тоже не знали, кто ее отец, и даже, что с ней стало. Пятнадцати лет она родила ребенка, и с тех пор ее не видали. Ее исчезновение, насколько я могу припомнить, связывали с одним убийством, происшедшим из-за нее в этом доме.
Она кружила тогда, как нынче ее дочь, головы подросткам. Один из них еще жив, – я встречаю его часто, – не помню только имени. Другие вскоре умерли, и я думаю, что это она свела их преждевременно в могилу. Вообще, из того времени я припоминаю только отдельные эпизоды, которые бледными образами живут в моей памяти. Был тогда здесь один полупомешанный. Он ходил по ночам из кабака в кабак и за пару крейцеров вырезывал гостям силуэты из черной бумаги. А когда его напаивали, он впадал в невыразимую тоску и со слезами и рыданиями вырезывал, не переставая, все один и тот же острый девичий профиль, пока не кончался весь запас его бумаги.
Я уже забыл теперь, из чего тогда заключали, что он еще почти ребенком так сильно любил какую-то Розину, – очевидно, бабушку этой Розины, – что потерял рассудок.
Соображая годы, я вижу, что это не кто иная, как бабушка нашей Розины.
. . . . . . . . . . . . .
Цвак замолчал и откинулся назад.
. . . . . . . . . . . . .
Судьба в этом доме идет по кругу и всегда возвращается к той же точке, пробежало у меня в голове, и одновременно перед моим взором возникла отвратительная картина, когда-то мною виденная: кошка с вырезанной половиной мозга кружится по земле.
. . . . . . . . . . . . .
– Теперь – голова! – услышал я вдруг громкий голос художника Фрисландера.
Он вынул из кармана круглый кусок дерева и начал вытачивать…
Тяжелая усталость смыкала мои глаза, и я отодвинул свой стул в темную глубину комнаты.
Вода для пунша кипела в котле, и Иосуа Прокоп снова наполнил стаканы. Тихо, тихо доносились звуки музыки через закрытое окно. Иногда они совсем замирали, затем снова оживали – смотря по тому, заносил ли их к нам ветер с улицы, или терял по дороге.
Не хочу ли я с ним чокнуться? – спросил меня через минуту музыкант.
Я ничего не ответил. У меня настолько исчезло желание двигаться, что мне не пришло даже в голову шевельнуть губами.
Мне казалось, что я сплю, так крепок был внутренний покой, овладевший мной. И я должен был щуриться на блестящий ножик Фрисландера, без устали отрезавший от дерева маленькие кусочки, чтоб удостовериться в том, что я бодрствую.
Далеко где-то гудел голос Цвака и продолжал рассказывать разные странные истории про марионеток и пестрые сказки, которые он придумывал для своих кукольных представлений.
Шла речь и о докторе Савиоли и о знатной даме, жене одного аристократа, которая тайно приходит в ателье в гости к Савиоли.
И снова я мысленно увидел издевающуюся, торжествующую физиономию Аарона Вассертрума.
Не поделиться ли с Цваком тем, подумал было я, что тогда произошло. Но мне показалось это незначительным и нестоящим труда. Да я и знал, что у меня пропадет охота при первой же попытке заговорить.
Вдруг все трое у стола внимательно посмотрели на меня, и Прокоп громко сказал: «Он заснул». Сказал он это так громко, что это прозвучало почти как вопрос.
Они продолжали разговаривать, понизив голос, и я понял, что речь идет обо мне.
Нож Фрисландера плясал в его руках, ловил свет от лампы и бросал блестящее отражение мне в глаза.
Мне послышалось слово: «сойти с ума», – и я стал прислушиваться к продолжавшейся беседе.
– Таких вопросов, как Голем, при Пернате не следует касаться, – сказал с упреком Иосуа Прокоп. – Когда он раньше рассказывал о книге «Ibbur», мы молчали и ни о чем не расспрашивали – держу пари, что это ему все приснилось.
Цвак кивнул головой.
– Вы совершенно правы. Это – как если зайти с огнем в запыленную комнату, где потолок и стены увешаны истлевшими коврами, а пол по колено покрыт трухой прошлого. Стоит коснуться чего-нибудь, и все в огне.
– Долго ли Пернат был в сумасшедшем доме? Жаль его, ведь ему еще не более сорока лет, – сказал Фрисландер.
– Не знаю, я не имею никакого представления, откуда он родом и чем он занимался раньше; внешностью, стройной фигурой и острой бородкой он напоминает старого французского аристократа. Много, много лет тому назад один мой приятель, старый врач, просил меня, чтоб я принял некоторое участие в Пернате и подыскал ему небольшую квартиру на этих улицах, где никто не будет тревожить его и беспокоить расспросами о прошлом… – Цвак снова бросил на меня тревожный взгляд. – С тех пор он и живет здесь, реставрирует старинные предметы и вырезывает камеи. Это его недурно устраивает. Его счастье, что он, по-видимому, забыл все то, что связано с его сумасшествием. Только, ради бога, никогда не спрашивайте его ни о чем, что могло бы разбудить в нем воспоминания о прошлом. Об этом неоднократно просил меня старый доктор! «Знаете, Цвак, говорил он мне всегда, у нас особый метод… мы с большим трудом, так сказать, замуровали его болезнь, хотел бы я так выразиться, как обводят забором злополучные места, с которыми связаны печальные воспоминания».
. . . . . . . . . . . . .
Слова марионеточного актера ударили меня, как нож ударяет беззащитное животное, и сжали мне сердце грубым, жестоким охватом.
Уже давно грызла меня какая-то неопределенная боль, какое-то подозрение, как будто что-то отнято у меня, как будто длинную часть моего жизненного пути я прошел, как лунатик, по краю бездны. И никогда не удавалось мне доискаться причины этой боли.
Теперь задача была разрешена, и это решение жгло меня невыносимо, как открытая рана.
Мое болезненное нежелание предаваться воспоминаниям о прошлых событиях, странный, время от времени повторяющийся сон, будто я блуждаю по дому с рядом недоступных мне комнат, тревожный отпор моей памяти во всем, что касается моей юности, – всему этому вдруг нашлось страшное объяснение: я был сумасшедшим, меня загипнотизировали, заперли комнату, находившуюся в связи с покоями, созданными моим воображением, сделали меня безродным сиротой среди окружающей жизни.
Никаких надежд вернуть обратно утерянные воспоминания.
Пружины, приводящие в движение мои мысли и поступки, скрыты в каком-то ином, забытом бытии, – понял я, – никогда я не смогу узнать их: я – срезанное растение, побег, который растет из чужого корня. Да если бы мне и удалось добраться до входа в эту закрытую комнату, не попал ли бы я в руки призракам, которые заперты в ней.
История о Големе, только что рассказанная Цваком, пронеслась в моем уме, и я внезапно ощутил какую-то огромную, таинственную связь между легендарной комнатой без входа, в которой будто бы живет этот незнакомец, и моим многозначительным сном. Да, и у меня «оборвется веревка», если я попытаюсь заглянуть в закрытые решеткой окна моих глубин.
Странная связь становилась для меня все яснее и яснее, и заключала в себе нечто невыразимо пугающее.