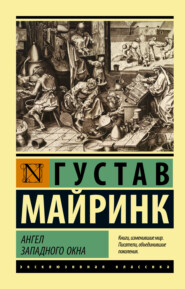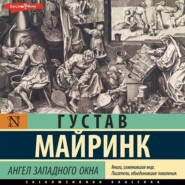По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кто-то позади нас негромко рассмеялся этому.
Я обернулся и увидел, что это был старый, хорошо одетый господин с седыми волосами и с надутым лягушечьим лицом.
Харусек тоже бросил взгляд назад и что-то пробурчал.
Что-то неприятное было в старике; я отвернулся от него и смотрел на бесцветные дома, которые жались передо мной друг к другу, как старые обозленные под дождем животные.
Как неуютно и убого смотрели они.
Они казались построенными без всякой цели, точно сорная трава, пробивающаяся из земли.
К низкой желтой каменной стене, единственному уцелевшему остатку старого длинного здания, прислонили их два-три столетия тому назад как попало, не принимая в соображение соседних построек. Тут кривобокий дом с отступающим назад челом; рядом другой, выступающий, точно клык.
Под мутным небом они смотрят, как во сне, и когда мрак осенних вечеров висит над улицей и помогает им скрыть едва заметную тихую игру их физиономий, тогда не видно и следа той предательской и враждебной жизни, что порою излучают они.
За годы жизни, которую я провел здесь, во мне сложилось твердое, неизгладимое впечатление, что для них существуют определенные часы ночи и утренних сумерек, когда они возбужденно ведут между собою тихие таинственные совещания. И порою сквозь стены пробегает слабый неизъяснимый трепет, бегут шумы по их крышам, падают вещи по водосточным трубам – и мы небрежно и тупо воспринимаем их, не доискиваясь причин.
Часто грезилось мне, что я прислушиваюсь к призрачной жизни этих домов, и с жутким удивлением я узнавал при этом, что они тайные и настоящие хозяева улицы, что они могут отдать или снова вобрать в себя ее жизнь и чувства, дать их на день обитателям, которые живут здесь, чтобы в ближайшую ночь снова потребовать обратно с ростовщическими процентами.
И когда я пропускаю сквозь свое сознание этих странных людей, живущих здесь, как тени, как существа, не рожденные матерями, кажущихся состряпанными в своих мыслях и поступках как попало, представляющих какую-то окрошку, я особенно склоняюсь к мысли, что такие сновидения заключают в себе таинственные истины, которые наяву рассеиваются во мне, как впечатления красочных сказок.
Тогда во мне оживает загадочная легенда о призрачном Големе, искусственном человеке, которого однажды здесь в гетто создал из стихий один опытный в Каббале раввин, призвал к безразумному автоматическому бытию, засунув ему в зубы магическую тетраграмму.
И думается мне, что, как тот Голем оказался глиняным чурбаном в ту же секунду, как таинственные буквы жизни были вынуты из его рта, так и все эти люди должны мгновенно лишиться души, стоит только потушить в их мозгу – у одного какое-нибудь незначительное стремление, второстепенное желание, может быть бессмысленную привычку, у другого – просто смутное ожидание чего-то совершенно неопределенного, неуловимого.
Какое неизменное испуганное страдание в этих созданиях!
Никогда не видно, чтобы они работали, эти люди, но тем не менее встают они рано, при первых проблесках утра, и затаив дыхание ждут – точно чуда, которое никогда не приходит.
И если уже случается, что кто-нибудь попадает в их владение, какой-нибудь безоружный, за счет которого они могли бы поживиться, их вдруг сковывает страх, загоняет их обратно по своим углам и тушит в них всякое намерение.
Нет существа достаточно слабого, чтобы у них хватало мужества овладеть им.
– Выродившиеся беззубые хищники, у которых отняты сила и оружие, – медленно произнес, взглянув на меня, Харусек.
Как он мог угадать, о чем я думаю?
Иногда человек так напрягает свои мысли, почувствовал я, что они в состоянии перескочить, как искра, из одного мозга в другой.
– Чем они могут жить! – сказал я через минуту.
– Жить?.. Чем!.. Среди них имеются миллионеры!
Я взглянул на Харусека. Что хотел он этим сказать?!
Но студент молчал и смотрел на облака.
На секунду шум голосов под аркой смолк, и явственно слышался стук дождя.
Что хотел он этим сказать: «Есть среди них миллионеры!»?
Опять случилось так, точно Харусек угадал мои мысли.
Он указал на лоток возле нас, у которого вода коричнево-красными струями омывала ржавую железную рухлядь:
– Аарон Вассертрум! Он, к примеру, миллионер. Почти треть еврейского города принадлежит ему. Вы не знали этого, господин Пернат?
У меня захватило дыхание: «Аарон Вассертрум! Старьевщик Аарон Вассертрум – миллионер!»
– О, я знаю его хорошо, – раздраженно продолжал Харусек, как будто он только того и ждал, чтобы я спросил его, – я знал и его сына, доктора Вассори. Вы не слыхали о нем? О докторе Вассори, знаменитом окулисте? Еще в прошлом году весь город оживленно говорил о нем как о великом ученом. Никто не знал тогда, что он переменил фамилию и прежде назывался Вассертрум. Он охотно разыгрывал ушедшего от мира человека науки, и когда однажды зашла речь о его происхождении, он скромно и взволнованно сказал, полусловами, что еще его отец происходил из гетто, что ему с самого начала приходилось пробиваться к свету со всевозможными огорчениями и невыразимыми заботами.
Да! С огорчениями и заботами.
Но с чьими огорчениями и заботами и какими средствами – этого он не сказал. А я знаю, при чем тут гетто.
Харусек схватил мою руку и потряс ее сильно:
– Майстер Пернат, я едва сам постигаю, как я беден. Я должен ходить полунагой, оборванцем, как видите, а я студент-медик, я образованный человек.
Он приоткрыл пальто, и я с ужасом увидел, что на нем не было ни пиджака, ни рубахи: пальто у него было на голом теле.
– И таким нищим я был уже тогда, когда привел к гибели эту бестию, этого всемогущего, знаменитого доктора Вассори, и до сих пор еще никто не подозревает, что именно я, только я – настоящий виновник происшедшего.
В городе думают, что это некий доктор Савиоли обнаружил все его проделки и довел его до самоубийства.
Доктор Савиоли был только моим орудием, говорю я вам! Я сам создал план, собрал все материалы, достал улики и тихо, незаметно вытаскивал камень за камнем из строения доктора Вассори, довел его до такого состояния, что никакие деньги в мире, никакая хитрость гетто не могли уже предотвратить катастрофы, для которой нужен был только едва ощутимый толчок.
Знаете, так… так, как играют в шахматы.
Точно так, как играют в шахматы.
И никто не знает, что это был я!
Старьевщику Аарону Вассертруму часто не дает спать жуткая мысль, что кто-то, кого он не знает, кто всегда находится рядом с ним, но кого он не может поймать, что кто-то, кроме доктора Савиоли, должен был сыграть роль в этом деле.
Хотя Вассертрум один из тех людей, чьи глаза способны, видеть сквозь стены, но он все же не представляет себе, что есть такие люди, которые в состоянии высчитать, как длинной, невидимой, отравленной иглой можно сквозь стены, минуя камни, минуя золото, минуя бриллианты, попасть прямо в скрытую жилу жизни.
Харусек хлопнул себя по лбу и дико засмеялся:
– Аарон Вассертрум узнает это скоро, как раз в тот день, когда он захочет отомстить доктору Савиоли. Как раз в тот самый день!
И эту шахматную партию я рассчитал до последнего хода. На этот раз будет гамбит королевского слона. Вплоть до горького конца нет ни одного хода, на который я не умел бы гибелью ответить.
Кто вступит со мною в подобный гамбит, тот, говорю вам, висит в воздухе, как беззащитная марионетка на нитке – на ниточке, которую я дергаю, – слышите, которую я дергаю, у которой нет никакой свободной воли.
Студент говорил как в бреду, и я с ужасом смотрел на него:
– Что с вами сделали Вассертрум и его сын, что вы так полны ненависти?
Я обернулся и увидел, что это был старый, хорошо одетый господин с седыми волосами и с надутым лягушечьим лицом.
Харусек тоже бросил взгляд назад и что-то пробурчал.
Что-то неприятное было в старике; я отвернулся от него и смотрел на бесцветные дома, которые жались передо мной друг к другу, как старые обозленные под дождем животные.
Как неуютно и убого смотрели они.
Они казались построенными без всякой цели, точно сорная трава, пробивающаяся из земли.
К низкой желтой каменной стене, единственному уцелевшему остатку старого длинного здания, прислонили их два-три столетия тому назад как попало, не принимая в соображение соседних построек. Тут кривобокий дом с отступающим назад челом; рядом другой, выступающий, точно клык.
Под мутным небом они смотрят, как во сне, и когда мрак осенних вечеров висит над улицей и помогает им скрыть едва заметную тихую игру их физиономий, тогда не видно и следа той предательской и враждебной жизни, что порою излучают они.
За годы жизни, которую я провел здесь, во мне сложилось твердое, неизгладимое впечатление, что для них существуют определенные часы ночи и утренних сумерек, когда они возбужденно ведут между собою тихие таинственные совещания. И порою сквозь стены пробегает слабый неизъяснимый трепет, бегут шумы по их крышам, падают вещи по водосточным трубам – и мы небрежно и тупо воспринимаем их, не доискиваясь причин.
Часто грезилось мне, что я прислушиваюсь к призрачной жизни этих домов, и с жутким удивлением я узнавал при этом, что они тайные и настоящие хозяева улицы, что они могут отдать или снова вобрать в себя ее жизнь и чувства, дать их на день обитателям, которые живут здесь, чтобы в ближайшую ночь снова потребовать обратно с ростовщическими процентами.
И когда я пропускаю сквозь свое сознание этих странных людей, живущих здесь, как тени, как существа, не рожденные матерями, кажущихся состряпанными в своих мыслях и поступках как попало, представляющих какую-то окрошку, я особенно склоняюсь к мысли, что такие сновидения заключают в себе таинственные истины, которые наяву рассеиваются во мне, как впечатления красочных сказок.
Тогда во мне оживает загадочная легенда о призрачном Големе, искусственном человеке, которого однажды здесь в гетто создал из стихий один опытный в Каббале раввин, призвал к безразумному автоматическому бытию, засунув ему в зубы магическую тетраграмму.
И думается мне, что, как тот Голем оказался глиняным чурбаном в ту же секунду, как таинственные буквы жизни были вынуты из его рта, так и все эти люди должны мгновенно лишиться души, стоит только потушить в их мозгу – у одного какое-нибудь незначительное стремление, второстепенное желание, может быть бессмысленную привычку, у другого – просто смутное ожидание чего-то совершенно неопределенного, неуловимого.
Какое неизменное испуганное страдание в этих созданиях!
Никогда не видно, чтобы они работали, эти люди, но тем не менее встают они рано, при первых проблесках утра, и затаив дыхание ждут – точно чуда, которое никогда не приходит.
И если уже случается, что кто-нибудь попадает в их владение, какой-нибудь безоружный, за счет которого они могли бы поживиться, их вдруг сковывает страх, загоняет их обратно по своим углам и тушит в них всякое намерение.
Нет существа достаточно слабого, чтобы у них хватало мужества овладеть им.
– Выродившиеся беззубые хищники, у которых отняты сила и оружие, – медленно произнес, взглянув на меня, Харусек.
Как он мог угадать, о чем я думаю?
Иногда человек так напрягает свои мысли, почувствовал я, что они в состоянии перескочить, как искра, из одного мозга в другой.
– Чем они могут жить! – сказал я через минуту.
– Жить?.. Чем!.. Среди них имеются миллионеры!
Я взглянул на Харусека. Что хотел он этим сказать?!
Но студент молчал и смотрел на облака.
На секунду шум голосов под аркой смолк, и явственно слышался стук дождя.
Что хотел он этим сказать: «Есть среди них миллионеры!»?
Опять случилось так, точно Харусек угадал мои мысли.
Он указал на лоток возле нас, у которого вода коричнево-красными струями омывала ржавую железную рухлядь:
– Аарон Вассертрум! Он, к примеру, миллионер. Почти треть еврейского города принадлежит ему. Вы не знали этого, господин Пернат?
У меня захватило дыхание: «Аарон Вассертрум! Старьевщик Аарон Вассертрум – миллионер!»
– О, я знаю его хорошо, – раздраженно продолжал Харусек, как будто он только того и ждал, чтобы я спросил его, – я знал и его сына, доктора Вассори. Вы не слыхали о нем? О докторе Вассори, знаменитом окулисте? Еще в прошлом году весь город оживленно говорил о нем как о великом ученом. Никто не знал тогда, что он переменил фамилию и прежде назывался Вассертрум. Он охотно разыгрывал ушедшего от мира человека науки, и когда однажды зашла речь о его происхождении, он скромно и взволнованно сказал, полусловами, что еще его отец происходил из гетто, что ему с самого начала приходилось пробиваться к свету со всевозможными огорчениями и невыразимыми заботами.
Да! С огорчениями и заботами.
Но с чьими огорчениями и заботами и какими средствами – этого он не сказал. А я знаю, при чем тут гетто.
Харусек схватил мою руку и потряс ее сильно:
– Майстер Пернат, я едва сам постигаю, как я беден. Я должен ходить полунагой, оборванцем, как видите, а я студент-медик, я образованный человек.
Он приоткрыл пальто, и я с ужасом увидел, что на нем не было ни пиджака, ни рубахи: пальто у него было на голом теле.
– И таким нищим я был уже тогда, когда привел к гибели эту бестию, этого всемогущего, знаменитого доктора Вассори, и до сих пор еще никто не подозревает, что именно я, только я – настоящий виновник происшедшего.
В городе думают, что это некий доктор Савиоли обнаружил все его проделки и довел его до самоубийства.
Доктор Савиоли был только моим орудием, говорю я вам! Я сам создал план, собрал все материалы, достал улики и тихо, незаметно вытаскивал камень за камнем из строения доктора Вассори, довел его до такого состояния, что никакие деньги в мире, никакая хитрость гетто не могли уже предотвратить катастрофы, для которой нужен был только едва ощутимый толчок.
Знаете, так… так, как играют в шахматы.
Точно так, как играют в шахматы.
И никто не знает, что это был я!
Старьевщику Аарону Вассертруму часто не дает спать жуткая мысль, что кто-то, кого он не знает, кто всегда находится рядом с ним, но кого он не может поймать, что кто-то, кроме доктора Савиоли, должен был сыграть роль в этом деле.
Хотя Вассертрум один из тех людей, чьи глаза способны, видеть сквозь стены, но он все же не представляет себе, что есть такие люди, которые в состоянии высчитать, как длинной, невидимой, отравленной иглой можно сквозь стены, минуя камни, минуя золото, минуя бриллианты, попасть прямо в скрытую жилу жизни.
Харусек хлопнул себя по лбу и дико засмеялся:
– Аарон Вассертрум узнает это скоро, как раз в тот день, когда он захочет отомстить доктору Савиоли. Как раз в тот самый день!
И эту шахматную партию я рассчитал до последнего хода. На этот раз будет гамбит королевского слона. Вплоть до горького конца нет ни одного хода, на который я не умел бы гибелью ответить.
Кто вступит со мною в подобный гамбит, тот, говорю вам, висит в воздухе, как беззащитная марионетка на нитке – на ниточке, которую я дергаю, – слышите, которую я дергаю, у которой нет никакой свободной воли.
Студент говорил как в бреду, и я с ужасом смотрел на него:
– Что с вами сделали Вассертрум и его сын, что вы так полны ненависти?