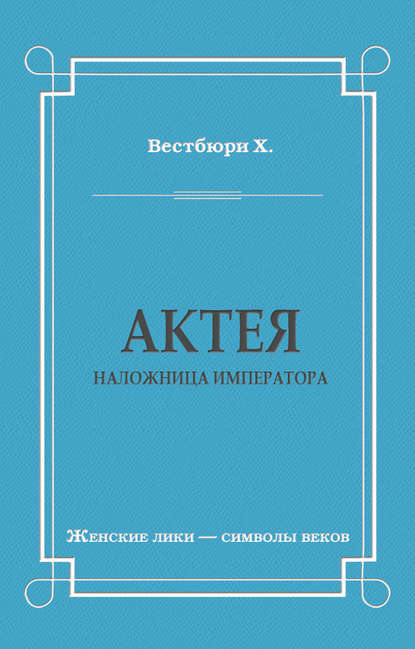По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Актея – наложница императора
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бесчестием! Позором! – повторил Тит с изумлением. – Юдифь, ты меня не любишь!
Девушка стояла молча и неподвижно, но глаза ее затуманились, и краска сбежала с лица. Движением, полным достоинства, она закрыла лицо покрывалом.
– Я люблю тебя, Юдифь! – сказал молодой человек, несколько ободрившись. – И если ты любишь меня хоть немного, что может помешать нашему браку?
Несколько мгновений девушка, казалось, боролась сама с собой, но наконец, как будто стыдясь своей слабости, отбросила покрывало и взглянула на воина.
– Я люблю тебя, – сказала она, – да, люблю. Когда я увидела тебя, мое сердце было свободно, но ты овладел им, и оно будет полно тобою, пока не перестанет биться. И все-таки мы не можем соединиться.
– Но почему, Юдифь, почему?
– Дочери царей не выходят за нищих! – воскликнула она. – И дочь Израиля не может выйти за идолопоклонника! Отвергни свои кумиры, преклони колени перед Единым, посоветуйся с мудрецами моего племени, и тогда, быть может…
– Как! – воскликнул центурион вне себя от удивления. – Мне сделаться иудеем, изменить присяге, поклониться иерусалимскому ослу!..
Он не хотел быть грубым и не сознавал, что его слова оскорбительны. Он был римлянин, и мысль сделаться иудеем казалась ему нелепой.
Презрительная улыбка мелькнула на губах Юдифи.
– Конечно, – сказала она, – это слишком великая плата за такую жалкую награду.
Тит не мог понять, что он оскорбил Юдифь как еврейку, но понял, что его презрительный отказ от ее предложения оскорбил ее как женщину. Он поспешно сказал:
– Никакая плата не велика за такую награду, но… но есть вещи, которые даже любовь не может исполнить.
– Ты прав, Тит, забудем об этом, как о мимолетном сне. Это был только сон, потому что я прочла нашу судьбу.
Юдифь взглянула на небо, а Тит повторил вполголоса:
– Прочла нашу судьбу? Скажи, Юдифь, правда ли, что твои соплеменники могут предсказывать будущее? Я знаю, девушки из еврейского квартала часто гадают нашим дамам, но всегда думал, что это только способ добывать деньги.
Юдифь улыбнулась.
– Разве тебе не случалось читать в глазах того, кого ты любишь, то, что тебе хочется знать. Звезды – глаза Бога, и тот, кто любит Его, может читать в них свою судьбу.
Тит, как и большинство грубых римлян, был суеверен. Он взглянул на Юдифь с некоторым страхом и боязливо прошептал:
– Прочти же нашу судьбу.
С минуту она стояла молча, потом, подняв руку к небу, сказала:
– Я вижу путь, на который мы оба вступили. Смотри! Он широк и прекрасен и озарен блеском благоприятных звезд. Мы еще стоим на нем. Но скоро он разделится: одна дорога моя, другая – твоя. Одна направляется в беззвездную часть неба, другая идет среди красноватых звезд, которые предвещают опасности, войны, пылающие города. Над ней горит небесный залог победы; она кончается у подножия трона. – Голос Юдифи становился все тише и тише. – Я не знаю, которая из дорог моя, которая – твоя. Одно время я думала, Господь освободит свой народ рукой своей рабы, как некогда Он освободил его рукой древней Юдифи. Я думала, победоносное войско пойдет за огненным столбом и сокрушит гордость язычников. Но, быть может, я ошиблась; быть может, мне суждена безвестная и темная дорога, а тебе победный меч и путь славы; быть может, твой народ снова останется победителем и разметет в прах стены Сиона. Наша судьба в руках Господа, и пути Его неисповедимы. Я знаю одно: скоро наши дороги разойдутся.
Прежде чем Тит успел ответить на это, взрыв смеха раздался на улице. Потом послышались звуки отпираемого засова, и через мгновение наружная дверь с треском распахнулась.
Юдифь и Тит поспешили к лестнице; навстречу им выбежали из атриума двое людей. Один бросился на Тита, другой, нетвердо державшийся на ногах, хотел схватить девушку.
Противник воина обладал, по-видимому, большей смелостью, чем силой, потому что центурион без всякого усилия схватил его поперек туловища, поднял на воздух и перебросил через парапет на улицу. Потом он кинулся к его товарищу и сильным ударом ноги сбросил его с лестницы.
Нападавший вскочил на ноги и выбежал на улицу. Тит бросился за ним, не слушая предостерегающих криков Юдифи, и у входных дверей наткнулся на дюжину вооруженных рабов.
IV
На Мильвийском мосту оживленное движение не прекращалось до позднего вечера. Тут можно было видеть рабов, спешивших с письмами от своих господ, живших в виллах, к их городским знакомым; повозки с товарами, приезжих из Галлии, Германии и даже Британии; патрициев, поспешавших в закрытых носилках на любовное свидание за город, солдат, нищих, выпрашивавших мелкую монету.
Но сенатор Юлий Монтан почему-то не показывался. Нерон и Тигеллин беспокойно расхаживали взад и вперед, ожидая каждую минуту увидеть яркие ливреи рабов сенатора и услышать повелительные голоса, приказывающие очистить дорогу для его носилок. Нерон был в восторге от предстоящей забавы. Он условился с Тигеллином о роли каждого. Нерон должен был схватить жену сенатора, а Тигеллин бросить в Тибр его самого. Тигеллин привык к такому разделению труда, благодаря которому на его долю доставались побои, тогда как император срывал поцелуй. Впрочем, он был по-своему философ, понимая, что путь славы всегда усеян шипами, и надеялся, что рано или поздно наступит день, когда он будет получать поцелуи, а кто-нибудь другой – удары.
Когда наступила ночь, а жертва еще не показывалась, веселость Нерона исчезла. Он злился на Тигеллина за обман и говорил, что заставит его биться со Спициллом, знаменитым начальником ретиариев – гладиаторов, вооруженных трезубцем и сетью, которую они старались набросить на противника. Эта мысль снова развеселила Нерона.
– Это будет прекрасное зрелище, Тигеллин, – говорил он. – У тебя длинный щит, от которого твоя левая рука скоро устает. Спицилл выступает против тебя с трезубцем, и каждый удар его повергает тебя в озноб. Наконец ты приходишь в бешенство, твои глаза горят, лицо наливается кровью, сердце бьется, голова кружится. Пена выступает на твоих губах, ты замахиваешься кинжалом и бросаешься на Спицилла; но он ожидал этого, подобно внезапному ливню из грозовой тучи летит его сеть, она обвивает тебя, твои руки и ноги запутались, ты падаешь – тогда светлый и блестящий как молния трезубец рассекает воздух и… Ах! Бедный, как мне жаль тебя!
И Нерон, увлеченный живописью собственного воображения, зарыдал над гибелью друга.
Тигеллин привык к причудам Нерона и вовсе не думал, что его царственный покровитель всерьез намерен заставить его биться в цирке. Тем не менее подробности картины, нарисованной Нероном, подействовали на него очень неприятно.
В эту минуту на мосту показался худощавый, длинноногий юноша в коричневой тунике, с деревянными табличками в руках. Это был посол с письмом.
Тигеллин, обратившись к императору, сказал:
– Этот молодой человек очень торопится, Цезарь.
Нерон ответил взглядом, показавшим, что он понял намек, и немного отошел от своего собеседника, так что мальчик должен был пробежать между ними. Едва он поравнялся с ними, Тигеллин подставил ему ногу, а Нерон сильно ударил по левой руке. Таблички упали, и бедняк растянулся на мосту. Прежде чем он успел опомниться, двое грабителей схватили его и перебросили через перила в Тибр. Было невысоко, и недалеко находилась мель, так что если он умел плавать, то мог спастись. Впрочем, Нерон и Тигеллин не интересовались его дальнейшей участью.
Нерон схватил таблички и принялся рассматривать их, когда на реке послышались крики о помощи. Очевидно, мальчик доплыл до мели. Нерон и Тигеллин пустились бежать, за ними на некотором расстоянии следовала толпа вооруженных рабов, без которых император не пускался на ночные подвиги, после того как несколько раз подвергался опасности, а однажды едва ушел живым.
Пробежав немного по Фламиниевой дороге, они свернули в узкий переулок, ведущий на вершину Пинцийского холма, и скоро скрылись из виду в зеленых садах, раскинувшихся на холме и по его склонам. Поднявшись на холм, они спустились в долину между ним и Квириналом, к великолепным садам Саллюстия.
Тут, задыхаясь и изнемогая от усталости, Нерон бросился на траву под густой изгородью из остролиста, а Тигеллин сел рядом. Один из рабов имел при себе бутылку вина и в ответ на свист Нерона подошел к ним и подал два кубка с цекубским.
Отдохнув и освежившись, Нерон взял таблички и внимательно осмотрел их при ярком свете луны. Таблички состояли из двух половин, сложенных вместе, и письмо было написано на воске. Они были обвязаны красной ниткой, узел которой скреплен восковой печатью. Адрес, по-видимому, был написан углем.
Нерон повернул таблички так, чтобы свет падал на печать. Вдруг он отбросил их, вскрикнув как ужаленный.
– Не укусила ли тебя змея, Цезарь? – воскликнул Тигеллин, вскакивая в беспокойстве.
– Нет, – ответил император, поднимая таблички и боязливо держа их за уголок, – это письмо от Сенеки, его печать! – И бросив опять письмо, он прибавил со стоном: – Письмо к Бурру.
– Только-то? – засмеялся Тигеллин.
– Только-то? – повторил Нерон полугневно-полусмущенно. – Только-то! Да разве этого мало?.. Да что! Я лучше согласен драться с шестью александрийскими крокодилами, которых завтра выпустят в цирке против шести нумидийских львов, чем слушать проповедь, которую Сенека прочтет мне завтра за мои сегодняшние похождения. О! Мне кажется, я уже слышу его.
И Нерон, передразнивая важный и медленный испанский акцент Сенеки, повторил:
– Тот, кто любит зло, уподобляется бешеному зверю. Пьяный делает многое, чего сам устыдится в трезвом виде. Можно положить предел пьянству, обжорству и сребролюбию, но жестокость заставляет молчать самую философию. Как может правитель ожидать добра от подданных, если сам подает им пример разврата? Отвратительно и безумно вечно неистовствовать и убивать!
Нерон катался по траве, повторяя афоризмы своего наставника и проклиная Сенеку, Тигеллина, письмо и свою неосторожность.
Тигеллин смотрел на него с презрительным сожалением.