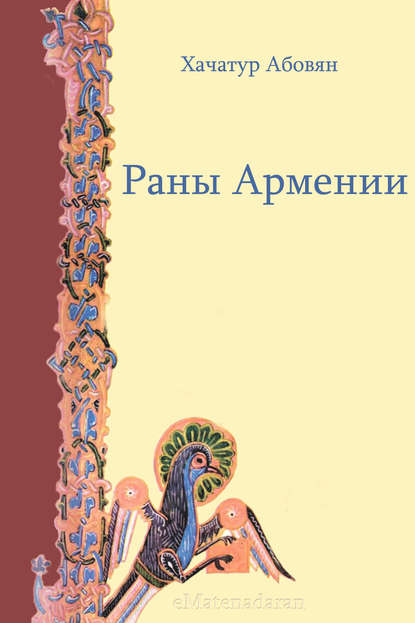По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Раны Армении
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из мужчин, кто был потрусливей, – лепетнул, спрятался, другие же, у кого было мало-мальски твердое сердце, с ужасом и трепетом подошли поближе, – не за тем, однако, чтоб помочь несчастным, а для того лишь, чтоб посмотреть, какие люди приехали и как увезут бедную, злополучную девушку. На них лица не было. Бледные, как мертвецы, стали они в ряд на крышах домов. Многие не могли языком шевельнуть, – рот одеревянел. У многих всё нутро от ужаса заледенело. У многих губы от страха растрескались, кровь из них ручьями текла.
Как бы хотели они помочь, как бы хотели все, что есть у них, отдать, чтоб вызволить бедняжек!.. о кто же мог что-нибудь сделать? Раз сардар приказал, – кто же посмеет руку поднять?
Попробуй, пикни хоть раз, – тотчас дом твой и все твое добро подожгут, а самих приставят к жерлу пушечному да и выстрелят. Не приведи бог! Врагу своему не пожелаю попасть в лапы нехристей. Каким прахом посыпать себе голову?..
Что хотят, то и делают. Ни суда на них нет, ни расправы. Сколько армянский народ подобных бед видел, а нет того, чтоб сговориться и себя спасти. Девушек, к примеру, утаскивали, мальчиков уводили, а там обращали в магометову веру, от своей веры отступаться заставляли. Часто и голову отрезали, жгли, замучивали. Ни дом армянину не принадлежал, ни скот, ни все добро, ни сам он, ни жена его. Удивительно, что даже при таких бедствиях, при стольких ужасах еще появлялось у этих людей веселье в глазах, улыбка на лицах.
Итак, как я уже сказал, сбежалось с сотню человек, и все стояли, засунув руки за пазуху, и глядели с крыш.
Плач и стенанья наполнили мир.
Ферраши с пеной у рта продолжали неистовствовать: то направляли ружья на толпу, грозясь всех пристрелить, то отгоняли людей прочь, но те, как перепуганные овцы, вновь возвращались, потом вновь отбегали и снова возвращались смотреть.
Что делалось с бедной, несчастной матерью – не приведи бог! И камнями-то она голову себе колотила, и землей-то себя посыпала, бегала туда, сюда, как растерявшая цыплят наседка, била себя по голове, по ногам. И столько она себя по голове и по коленам ударяла, столько кричала, просила помощи и плакала, рвала на себе волосы, столько раздирала себе лицо в кровь, что в глазах у нее света не осталось, ни силы в теле, ни языка во рту.
Голос ее стал глух, дыханье сперло, она мотала головой и дергала ногами, сама себя избивала, ударялась головой о камни, или же, ползая по земле, лизала ее, бросалась фер-рашам в ноги или хватала их за руки, желая вырвать шашку вонзить себе в сердце. Когда они били ее в грудь, пинали ногами и отшвыривали в сторону, она с протянутыми Руками бросалась к дочери и обнимала ее за шею. И даже, если ферраши били ее по голове ногою или кулаком, плетью или ружейным прикладом, она все равно уже не могла оторваться, ничего уже не понимала. Несчастная хотела бы вспороть себе живот и обратно туда вложить свою ненаглядную.
– Такуи-джан, что же это? На свадьбе твоей что ли пляшу? Где ж жених? Почему поп нейдет? Где хна? Принесите хну, – я покрашу руки моей доченьке. Что же барабан и зурна молчат? Эй, гости! Что ж это вы зря стоите на краю крыши, руки за пазуху заложили?.. Или меня не любите? Пляшите же! Разве гости на свадьбе стоят так без всякого участия? Что глядите? Расходы, авось, мои, не из вашего кармана, – ешьте, пируйте, посулите же моей дочери счастья в жизни! Дочь у меня такая, что я ее на зеницу ока не променяю. Не можете вы что ли повеселиться ради нее, мое сердце успокоить?
Да… во сне это или наяву происходит?.. Или уж у меня голова не на плечах? Приданое готово… нет, нет… жених ведь поехал в Тифлис, не мог же он так скоро вернуться?.. Эти зачем пришли? Ведь тюрки армянского хлеба не едят… Да, да, признала: это знакомые наши приехали поглядеть, как у моей доченьки на свадьбе веселятся! Не плачь, ненаглядная ты моя! Такуи-джан! И тело и душу свою в жертву тебе отдам. Да пока я жива, кто ж посмеет пальчика твоего коснуться?.. Волосы твои золотистые, Такуи-джан, брови твои, пером писанные… доченька ты моя, – душу отдам за колыбель твою! Такуи-джан!.. роза раскрытая, пучечек фиалковый, солнышко мое, жизнь ты моя, венец мой и гордость, дочка ты моя!.. Открои глаза свои, за очи твои душу отдам, открой ты ротик свои, – за несравненные, розой благоухающие уста твои жизнь отдам!.. Так ли ты любишь бедную старую мать свою? Так-то ты на мою ласку отвечаешь?.. Ах, ты стесняешься… ну, хочешь, скажу, чтоб они все ушли?..
Эй, люди! Уходите, убирайтесь отсюда, не показывайтесь моей несравненной дочери на глаза! Делать вам, видно, нечего, – разойдитесь по домам, чего вы тут столпились?.. Вот ведь какие бесстыжие! Эй, вам же говорю, – оглохли что ли? Такуи-джан, родненькая моя, пойдем лучше в сад, деревья в цвету, – за цветущее лицо свое душу отдам! Поля – в молодой траве, – за жизнь твою молодую – жизнь отдам? Что же мы здесь стоим? Пойдем, посмотрим, порадуемся…
6
Что мне еще сказать, что дополнить? Сердце мое все в огне, как только вспомню, что говорила, что делала несчастная мать.
Кто сам взрастил детей, тот, конечно, поймет материнское сердце. Но в силах ли немощный язык передать в словах каждую рану, каждую боль сердечную?
Злополучная мать, потеряв рассудок, не знала, что говорила, не знала, что делала.
Да и ферраши – а было их человек десять – даром что нехристи, хоть продолжали сердиться и угрожать, но, видя такие терзания матери, все же почувствовали к ней некоторую жалость. И они понимали, что не легко для матери вырастить дочь и так в один миг утратить.
Курица и та, когда цыпленок у нее пропадает, жизнь за него готова отдать – что ж говорить о человеке с его разумом?
Они тоже сбились с толку, – но то был приказ сардара. Если б они его не исполнили, не увезли бы девушку, – либо голову им отрубили бы, либо глаза выкололи. Выхода у них не было.
Кончилось тем, что они, поговорив между собой, решили и мать вместе с дочерью отвезти к сардару в крепость, выполнить свой долг, а там, что хотят, то пускай и делают. Приказали слугам седлать, одели оружие, доспехи, привязали шашки и подступили потихоньку к матери и дочери, чтоб их забрать и увезти с собой.
Такуи, Такуи, око мира, Такуи, неувядаемый цветок поднебесный! Такуи, рай, фиалка! Бесценная, единственная, несравненная Такуи! – каков должен быть язык, чтоб воздать ей достойную хвалу, какие глаза, чтоб наружности ее и образу подобие найти?
Белоснежное, лучезарное лицо ее, сиявшее как солнце и как роза рдевшее, превратилось в белое полотно, поблекло, застыло. Эти небесные очи, воспламенявшие и сжигавшие душу каждого, кто смотрел на них, – ввалились, закрылись, запали.
Такуи, юная Такуи, единственная дочь у матери, Такуи, та, что, глядя на кого-нибудь ангельским взором своим, наполняла его беспредельною радостью, – теперь окоченелая, Одеревенелая, бездыханная и бессловесная, лежала на земле, лицом к небу, словно уже не на этом свете была она, но вознеслась к ангелам, пребывает в раю и наслаждается своей непорочностью.
Ее темные-темные брови, сверкающие глаза, гранатовые щеки, ее словно тонким пером очерченные губы, ясный лоб, мраморный тонкий нос, ее соловьиный язык, золотистая шея, – все, все оцепенело, окаменело, онемело.
Когда поганая рука коснулась ее, лишь «ах» успела она выговорить. Испустила вздох, ослабела, лишилась чувств и, когда привели ее к порогу двери, затрепетала еще раз, как зарезанная молодка, и смолкла. Шея перегнулась, ослабела, голова свисла через порог, лежала по одну сторону, а тело – по другую. Половина ее золотистых волос прикрывала ее невинное лицо и грудь, другая, перепутавшись, рассыпалась по земле. Одна из нежных рук ее бессильно покоилась на груди, другая лежала на земле в оцепенении. Жилы ее высохли, дыхание остановилось, душа ее вознеслась в небо.
Да и могло ли быть инче? До той поры уши ее обидного слова не слышали, глаза – горького дня не видели, никто при ней грубого разговора не смел завести. Как роза цвела, как фиалка выросла. Ни разу нога ее не ударилась о камень, в палец ее никогда не вонзалась заноза.
Ей уже минуло пятнадцать лет, а она о делах житейских вовсе ничего еще не знала. Девушки, подруги ее, и за порогом, и по крышам гуляли, время проводили, а она уткнется, бывало, коленками в колени матери и либо шьет, либо вышивает, а то прибирает в доме и на дворе, либо присматривает за скотиной и за всем вообще хозяйством.
Ежели птица пролетала над ее головой, она, зардевшись, едва дыша, вся перепутанная, кидалась домой, так, чтобы и тени ее никто не успел увидеть.
Занозит ли мать себе палец, заболит ли у нее что, дочь готова была душу свою вынуть и отдать ей. Не было камня, не было травы, где бы ни припадала она с молитвою, прося бога о милосердии.
Увидев нищего, изо рта своего доставала она кусок и ему отдавала, чтобы тот благословил ее и пожелал ей долголетия.
И в сад она выходила в тот час, когда свет еще не отделился от тьмы. Возвращалась же из сада, когда уже начинало смеркаться, движение прекращалось и наступала тишина.
Кто желал ее увидеть, должен был спрятаться за дерево или за угол и лишь оттуда лицезреть ее непорочный лик, восхищаться светом небесных ее очей.
Даже цветы, казалось, заслышав ее шаги, радовались, ликовали, распускались пышнее.
Птицы, завидев ее лицо, словно оживлялись, подымали головку из-под крыла, заливались, чирикали, щебетали, отряхивались, хлопали крыльями.
Когда она притрагивалась к голове ягненка или же гладила его, казалось, и это невинное животное понимало, что к нему коснулась рука ангела, а не человека. Стоило ей чуть-чуть отойти, крик его оглашал весь мир, жег сердце человеческое, – так он блеял, нигде не находя себе места. Нередко спал он на ее нежной коленке, ел траву из милой, благоуханной руки ее.
Когда случалось, что засыпала она на зеленой луговине на фиалках, под розовым кустом или под тутовым деревом, или вблизи журчащего ручейка, – мнилось, что с неба сошел свет и озарил берег.
Нередко, когда она так спала, мать осторожно подходила к ней, тихонько прижималась лицом к ее лицу, либо брала ее голову к себе на колени, накрывала ее и крестила, чтобы она выспалась сладко и отдохнула. Когда же подходило время просыпаться, мать опахивала ей лицо и тихонько похлопывала ладонью, чтобы она встала и успела подышать вечерней прохладой, чтобы полюбовалась на захождение солнца и, набрав плодов и цветов, вместе с нею шла домой. И часто, когда она пробуждалась так, с розами в одной руке, с пучком фиалок в другой, казалось, горы, ущелья, деревья, кусты, и цветы, и травы приходили от нее в восхищение и ловили ее дыхание, чтобы вдохнуть в себя, надышаться им, окрепнуть от него и зазеленеть.
Ветерок шелестел в ее волосах, и раз коснувшись лица ее, уже не хотел ни далее лететь, ни возвращаться обратно, все кружил над ее головой, все играл с ее волосами.
Когда наклонялась она над розой, роза сама тянулась к ней, как бы желая поймать ее дыхание, похитить у нее Цвет ланит и стать оттого еще прекраснее, еще благоуханней.
Соловей, почувствовав ее присутствие, позабывал свою Розу и начинал воспевать ее, сгорал и томился от тоски по ней.
Часто, когда она произносила что-нибудь или пела сама для себя, ей казалось, что это ангелы говорят с ней, откликаются, вторят ее голосу.
Утренняя роса с ликованием спускалась на землю, чтобы пасть на ее непорочное лицо. Последний луч вечерний отворачивался и закрывал глаза, чтобы она поскорее уснула, чтоб поскорее ночь прошла п он мог бы вновь прийти поутру, удостоиться свидания с нею, вдохновиться ее светом и возрадоваться.
Сон сходил к ее очам, как небесный ангел к святому: простирал крылья над лицом ее, навевал на нее небедные грезы, ласкал, пробуждал и снова заключал в объятия.
Ах, где я найду слова? Каждый ее поворот, каждое слово, взгляд, каждое движение глаз и губ ее – были чудесны.
Раскроет она лучистые глаза свои или губы, майораном благоухающие, – и человек уже ни есть, ни пить не хочет, а только лишь смотреть, любоваться на стройный стан ее, у ног ее испустить дух, из рук ее принять смерть.
И вот, этот ангел небесный, этот ангел невинный находился в руках зверей!
Какое нужно иметь каменное, жестокое сердце, чтобы, увидав ее или услыхав рассказ о ее жизни, не содрогнуться от ужаса? Какая мать в подобную минуту .не схватила бы шашку и не вонзила бы себе в грудь? Какой сосед или прохожий, глядя на ее лучезарное лицо, не зажмурил бы глаза, чтобы заплакать и тем облегчить свое сердце?
Но бедный наш сельский люд столько подобных дел навидался и наслышался, что и слезы иссякли, и глаза перестали видеть.
Как раз в это время ферраши, приметя, что мать и дочь, обе обессилили от горя, уже не голосят и даже не дышат, сочли за благо взять их в таком расслабленном состоянии и увезти, чтобы они – не слишком мучились и страдали.
Двое из них уже сели на коней и устраивали места для обеих женщин, один – для матери, другой – для дочери впереди, перед собою и, ничего не подозревая, думали уже, что хорошо справились со своим делом, – как вдруг засверкала шашка.
Как бы хотели они помочь, как бы хотели все, что есть у них, отдать, чтоб вызволить бедняжек!.. о кто же мог что-нибудь сделать? Раз сардар приказал, – кто же посмеет руку поднять?
Попробуй, пикни хоть раз, – тотчас дом твой и все твое добро подожгут, а самих приставят к жерлу пушечному да и выстрелят. Не приведи бог! Врагу своему не пожелаю попасть в лапы нехристей. Каким прахом посыпать себе голову?..
Что хотят, то и делают. Ни суда на них нет, ни расправы. Сколько армянский народ подобных бед видел, а нет того, чтоб сговориться и себя спасти. Девушек, к примеру, утаскивали, мальчиков уводили, а там обращали в магометову веру, от своей веры отступаться заставляли. Часто и голову отрезали, жгли, замучивали. Ни дом армянину не принадлежал, ни скот, ни все добро, ни сам он, ни жена его. Удивительно, что даже при таких бедствиях, при стольких ужасах еще появлялось у этих людей веселье в глазах, улыбка на лицах.
Итак, как я уже сказал, сбежалось с сотню человек, и все стояли, засунув руки за пазуху, и глядели с крыш.
Плач и стенанья наполнили мир.
Ферраши с пеной у рта продолжали неистовствовать: то направляли ружья на толпу, грозясь всех пристрелить, то отгоняли людей прочь, но те, как перепуганные овцы, вновь возвращались, потом вновь отбегали и снова возвращались смотреть.
Что делалось с бедной, несчастной матерью – не приведи бог! И камнями-то она голову себе колотила, и землей-то себя посыпала, бегала туда, сюда, как растерявшая цыплят наседка, била себя по голове, по ногам. И столько она себя по голове и по коленам ударяла, столько кричала, просила помощи и плакала, рвала на себе волосы, столько раздирала себе лицо в кровь, что в глазах у нее света не осталось, ни силы в теле, ни языка во рту.
Голос ее стал глух, дыханье сперло, она мотала головой и дергала ногами, сама себя избивала, ударялась головой о камни, или же, ползая по земле, лизала ее, бросалась фер-рашам в ноги или хватала их за руки, желая вырвать шашку вонзить себе в сердце. Когда они били ее в грудь, пинали ногами и отшвыривали в сторону, она с протянутыми Руками бросалась к дочери и обнимала ее за шею. И даже, если ферраши били ее по голове ногою или кулаком, плетью или ружейным прикладом, она все равно уже не могла оторваться, ничего уже не понимала. Несчастная хотела бы вспороть себе живот и обратно туда вложить свою ненаглядную.
– Такуи-джан, что же это? На свадьбе твоей что ли пляшу? Где ж жених? Почему поп нейдет? Где хна? Принесите хну, – я покрашу руки моей доченьке. Что же барабан и зурна молчат? Эй, гости! Что ж это вы зря стоите на краю крыши, руки за пазуху заложили?.. Или меня не любите? Пляшите же! Разве гости на свадьбе стоят так без всякого участия? Что глядите? Расходы, авось, мои, не из вашего кармана, – ешьте, пируйте, посулите же моей дочери счастья в жизни! Дочь у меня такая, что я ее на зеницу ока не променяю. Не можете вы что ли повеселиться ради нее, мое сердце успокоить?
Да… во сне это или наяву происходит?.. Или уж у меня голова не на плечах? Приданое готово… нет, нет… жених ведь поехал в Тифлис, не мог же он так скоро вернуться?.. Эти зачем пришли? Ведь тюрки армянского хлеба не едят… Да, да, признала: это знакомые наши приехали поглядеть, как у моей доченьки на свадьбе веселятся! Не плачь, ненаглядная ты моя! Такуи-джан! И тело и душу свою в жертву тебе отдам. Да пока я жива, кто ж посмеет пальчика твоего коснуться?.. Волосы твои золотистые, Такуи-джан, брови твои, пером писанные… доченька ты моя, – душу отдам за колыбель твою! Такуи-джан!.. роза раскрытая, пучечек фиалковый, солнышко мое, жизнь ты моя, венец мой и гордость, дочка ты моя!.. Открои глаза свои, за очи твои душу отдам, открой ты ротик свои, – за несравненные, розой благоухающие уста твои жизнь отдам!.. Так ли ты любишь бедную старую мать свою? Так-то ты на мою ласку отвечаешь?.. Ах, ты стесняешься… ну, хочешь, скажу, чтоб они все ушли?..
Эй, люди! Уходите, убирайтесь отсюда, не показывайтесь моей несравненной дочери на глаза! Делать вам, видно, нечего, – разойдитесь по домам, чего вы тут столпились?.. Вот ведь какие бесстыжие! Эй, вам же говорю, – оглохли что ли? Такуи-джан, родненькая моя, пойдем лучше в сад, деревья в цвету, – за цветущее лицо свое душу отдам! Поля – в молодой траве, – за жизнь твою молодую – жизнь отдам? Что же мы здесь стоим? Пойдем, посмотрим, порадуемся…
6
Что мне еще сказать, что дополнить? Сердце мое все в огне, как только вспомню, что говорила, что делала несчастная мать.
Кто сам взрастил детей, тот, конечно, поймет материнское сердце. Но в силах ли немощный язык передать в словах каждую рану, каждую боль сердечную?
Злополучная мать, потеряв рассудок, не знала, что говорила, не знала, что делала.
Да и ферраши – а было их человек десять – даром что нехристи, хоть продолжали сердиться и угрожать, но, видя такие терзания матери, все же почувствовали к ней некоторую жалость. И они понимали, что не легко для матери вырастить дочь и так в один миг утратить.
Курица и та, когда цыпленок у нее пропадает, жизнь за него готова отдать – что ж говорить о человеке с его разумом?
Они тоже сбились с толку, – но то был приказ сардара. Если б они его не исполнили, не увезли бы девушку, – либо голову им отрубили бы, либо глаза выкололи. Выхода у них не было.
Кончилось тем, что они, поговорив между собой, решили и мать вместе с дочерью отвезти к сардару в крепость, выполнить свой долг, а там, что хотят, то пускай и делают. Приказали слугам седлать, одели оружие, доспехи, привязали шашки и подступили потихоньку к матери и дочери, чтоб их забрать и увезти с собой.
Такуи, Такуи, око мира, Такуи, неувядаемый цветок поднебесный! Такуи, рай, фиалка! Бесценная, единственная, несравненная Такуи! – каков должен быть язык, чтоб воздать ей достойную хвалу, какие глаза, чтоб наружности ее и образу подобие найти?
Белоснежное, лучезарное лицо ее, сиявшее как солнце и как роза рдевшее, превратилось в белое полотно, поблекло, застыло. Эти небесные очи, воспламенявшие и сжигавшие душу каждого, кто смотрел на них, – ввалились, закрылись, запали.
Такуи, юная Такуи, единственная дочь у матери, Такуи, та, что, глядя на кого-нибудь ангельским взором своим, наполняла его беспредельною радостью, – теперь окоченелая, Одеревенелая, бездыханная и бессловесная, лежала на земле, лицом к небу, словно уже не на этом свете была она, но вознеслась к ангелам, пребывает в раю и наслаждается своей непорочностью.
Ее темные-темные брови, сверкающие глаза, гранатовые щеки, ее словно тонким пером очерченные губы, ясный лоб, мраморный тонкий нос, ее соловьиный язык, золотистая шея, – все, все оцепенело, окаменело, онемело.
Когда поганая рука коснулась ее, лишь «ах» успела она выговорить. Испустила вздох, ослабела, лишилась чувств и, когда привели ее к порогу двери, затрепетала еще раз, как зарезанная молодка, и смолкла. Шея перегнулась, ослабела, голова свисла через порог, лежала по одну сторону, а тело – по другую. Половина ее золотистых волос прикрывала ее невинное лицо и грудь, другая, перепутавшись, рассыпалась по земле. Одна из нежных рук ее бессильно покоилась на груди, другая лежала на земле в оцепенении. Жилы ее высохли, дыхание остановилось, душа ее вознеслась в небо.
Да и могло ли быть инче? До той поры уши ее обидного слова не слышали, глаза – горького дня не видели, никто при ней грубого разговора не смел завести. Как роза цвела, как фиалка выросла. Ни разу нога ее не ударилась о камень, в палец ее никогда не вонзалась заноза.
Ей уже минуло пятнадцать лет, а она о делах житейских вовсе ничего еще не знала. Девушки, подруги ее, и за порогом, и по крышам гуляли, время проводили, а она уткнется, бывало, коленками в колени матери и либо шьет, либо вышивает, а то прибирает в доме и на дворе, либо присматривает за скотиной и за всем вообще хозяйством.
Ежели птица пролетала над ее головой, она, зардевшись, едва дыша, вся перепутанная, кидалась домой, так, чтобы и тени ее никто не успел увидеть.
Занозит ли мать себе палец, заболит ли у нее что, дочь готова была душу свою вынуть и отдать ей. Не было камня, не было травы, где бы ни припадала она с молитвою, прося бога о милосердии.
Увидев нищего, изо рта своего доставала она кусок и ему отдавала, чтобы тот благословил ее и пожелал ей долголетия.
И в сад она выходила в тот час, когда свет еще не отделился от тьмы. Возвращалась же из сада, когда уже начинало смеркаться, движение прекращалось и наступала тишина.
Кто желал ее увидеть, должен был спрятаться за дерево или за угол и лишь оттуда лицезреть ее непорочный лик, восхищаться светом небесных ее очей.
Даже цветы, казалось, заслышав ее шаги, радовались, ликовали, распускались пышнее.
Птицы, завидев ее лицо, словно оживлялись, подымали головку из-под крыла, заливались, чирикали, щебетали, отряхивались, хлопали крыльями.
Когда она притрагивалась к голове ягненка или же гладила его, казалось, и это невинное животное понимало, что к нему коснулась рука ангела, а не человека. Стоило ей чуть-чуть отойти, крик его оглашал весь мир, жег сердце человеческое, – так он блеял, нигде не находя себе места. Нередко спал он на ее нежной коленке, ел траву из милой, благоуханной руки ее.
Когда случалось, что засыпала она на зеленой луговине на фиалках, под розовым кустом или под тутовым деревом, или вблизи журчащего ручейка, – мнилось, что с неба сошел свет и озарил берег.
Нередко, когда она так спала, мать осторожно подходила к ней, тихонько прижималась лицом к ее лицу, либо брала ее голову к себе на колени, накрывала ее и крестила, чтобы она выспалась сладко и отдохнула. Когда же подходило время просыпаться, мать опахивала ей лицо и тихонько похлопывала ладонью, чтобы она встала и успела подышать вечерней прохладой, чтобы полюбовалась на захождение солнца и, набрав плодов и цветов, вместе с нею шла домой. И часто, когда она пробуждалась так, с розами в одной руке, с пучком фиалок в другой, казалось, горы, ущелья, деревья, кусты, и цветы, и травы приходили от нее в восхищение и ловили ее дыхание, чтобы вдохнуть в себя, надышаться им, окрепнуть от него и зазеленеть.
Ветерок шелестел в ее волосах, и раз коснувшись лица ее, уже не хотел ни далее лететь, ни возвращаться обратно, все кружил над ее головой, все играл с ее волосами.
Когда наклонялась она над розой, роза сама тянулась к ней, как бы желая поймать ее дыхание, похитить у нее Цвет ланит и стать оттого еще прекраснее, еще благоуханней.
Соловей, почувствовав ее присутствие, позабывал свою Розу и начинал воспевать ее, сгорал и томился от тоски по ней.
Часто, когда она произносила что-нибудь или пела сама для себя, ей казалось, что это ангелы говорят с ней, откликаются, вторят ее голосу.
Утренняя роса с ликованием спускалась на землю, чтобы пасть на ее непорочное лицо. Последний луч вечерний отворачивался и закрывал глаза, чтобы она поскорее уснула, чтоб поскорее ночь прошла п он мог бы вновь прийти поутру, удостоиться свидания с нею, вдохновиться ее светом и возрадоваться.
Сон сходил к ее очам, как небесный ангел к святому: простирал крылья над лицом ее, навевал на нее небедные грезы, ласкал, пробуждал и снова заключал в объятия.
Ах, где я найду слова? Каждый ее поворот, каждое слово, взгляд, каждое движение глаз и губ ее – были чудесны.
Раскроет она лучистые глаза свои или губы, майораном благоухающие, – и человек уже ни есть, ни пить не хочет, а только лишь смотреть, любоваться на стройный стан ее, у ног ее испустить дух, из рук ее принять смерть.
И вот, этот ангел небесный, этот ангел невинный находился в руках зверей!
Какое нужно иметь каменное, жестокое сердце, чтобы, увидав ее или услыхав рассказ о ее жизни, не содрогнуться от ужаса? Какая мать в подобную минуту .не схватила бы шашку и не вонзила бы себе в грудь? Какой сосед или прохожий, глядя на ее лучезарное лицо, не зажмурил бы глаза, чтобы заплакать и тем облегчить свое сердце?
Но бедный наш сельский люд столько подобных дел навидался и наслышался, что и слезы иссякли, и глаза перестали видеть.
Как раз в это время ферраши, приметя, что мать и дочь, обе обессилили от горя, уже не голосят и даже не дышат, сочли за благо взять их в таком расслабленном состоянии и увезти, чтобы они – не слишком мучились и страдали.
Двое из них уже сели на коней и устраивали места для обеих женщин, один – для матери, другой – для дочери впереди, перед собою и, ничего не подозревая, думали уже, что хорошо справились со своим делом, – как вдруг засверкала шашка.