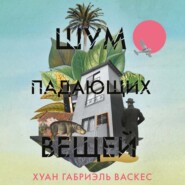По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайная история Костагуаны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И пятнадцать китайских кули, покоящихся на длинных столах для препарирования в столичном университете, пятнадцать китайских кули, у которых уже проступают темные пятна на спине (если они лежат на спине) или на груди (если наоборот), учат рассеянного студента, где у человека печень и какова длина толстого кишечника, а потом гордо говорят хором: «И мы там были! Мы прорубили путь в сельве, мы разрыли эти болота, мы положили рельсы и шпалы». Один из китайцев нашептывает свою историю моему отцу, а тот, склонившись над окоченевшим трупом, из чисто возрожденческого любопытства смотрит, что это там под ребром, и вслушивается даже внимательнее, чем ему самому кажется. Что же там под ребром? Отец просит пинцет, и пинцет выуживает из тела бамбуковую палочку. И бессовестный болтливый китаец начинает рассказывать, как терпеливо он эту палочку заточил, как аккуратно, мастерски вонзил ее в илистую почву и как сильно обрушился всем своим весом на заостренный конец.
– Самоубийца? – спрашивает отец (не самый умный вопрос, признаем).
Нет, возражает китаец, он не сам лишил себя жизни, жизни его лишила меланхолия, а до нее – малярия… Его лишило жизни то, как больные товарищи вешались на веревках, выданных им для строительных работ, то, как они похищали у надсмотрщиков пистолеты, чтобы пустить себе пулю в лоб, его лишило жизни осознание, что в этом болотистом краю невозможно построить достойное кладбище, и вот так-то жертвы сельвы и разъехались по миру в бочках со льдом.
– Я, – говорит уже почти полностью посиневший и почти невыносимо воняющий китаец, – я, при жизни строивший Панамскую железную дорогу, после смерти помогу оплачивать ее строительство, как и остальные девять тысяч девятьсот девяносто восемь мертвых рабочих – китайцев, негров и ирландцев, – которые сейчас посещают университеты и больницы по всему свету. Ах, как далеко заносит тело…
Вот что рассказывает мертвый китаец моему отцу.
Но мой отец слышит нечто иное.
Он слышит не историю личных трагедий и видит в китайце не безымянного и бездомного рабочего, которого невозможно похоронить по-человечески. Он видит в нем мученика, а в истории железной дороги – настоящую эпопею. Поезд против сельвы, человек против природы. Мертвый китаец – посланник грядущего, свидетель Прогресса. Он рассказывает, что на том самом судне «Фалкон» был пассажир, больной холерой, – прямой виновник двух тысяч смертей в Картахене и нескольких сотен в Боготе. Но мой отец лишь восхищается этим пассажиром, способным бросить все и устремиться за мечтой о золоте сквозь сельву-убийцу. Китаец рассказывает про кабаки и бордели, которыми кишит Панама с самого приезда иностранцев, а для отца каждый пьяный рабочий – рыцарь Круглого стола, каждая проститутка – амазонка. Семьдесят тысяч шпал – семьдесят тысяч обетов будущего. Железнодорожная линия, легшая через перешеек, – пуп земли. Мертвый китаец – уже не просто посланник, он ангел благовещения, думает отец, и он явился донести в его печальную, подобную палой листве боготинскую жизнь неясное, но блистательное предначертание жизни лучшей.
Слово имеет защита: руку мертвому китайцу мой отец отрезал вовсе не из безумия. Не из безумия – напротив, никогда прежде он не ощущал такой трезвости в мыслях – отнес ее мясникам в Чапинеро, чтобы очистили, и положил на солнце (столь редкое в Боготе), чтобы высохла. Укрепил ее бронзовыми винтами на небольшом пьедестале, кажется мраморном, и поставил на полке в библиотеке, между лишенным обложки изданием «Крестьянской войны в Германии» Энгельса и миниатюрным портретом моей бабушки с гребнем в волосах (холст, масло, школа Грегорио Васкеса). Нарочно распрямленный указательный палец каждой из своих обнаженных фаланг говорил отцу, по какому пути ему следует отправиться.
Друзья, бывавшие у отца в тот период, подтверждали: так оно и есть, пястные и запястные кости устремлены в сторону Панамского перешейка, подобно тому, как мусульманин смотрит в сторону Мекки. Но я, как бы мне ни хотелось увести рассказ туда, куда указывает сухой, бесплотный перст, должен сперва сосредоточиться на кое-каких происшествиях из жизни моего отца, который в одно прекрасное утро 1854 года от Рождества Христова вышел на улицу и узнал от знакомых, что его отлучили от церкви. С «Запрета на тела» прошло уже столько времени, что он не сразу связал одно с другим. Однажды в воскресенье, пока мой отец принимал временный титул мастера в своей масонской ложе, бдительный падре Эчаваррия назвал его имя с амвона церкви Святого Фомы. Мигель Альтамирано обагряет руки кровью безвинных. Мигель Альтамирано торгует душами умерших, и подельник его – Диавол. Мигель Альтамирано, объявил падре Эчаваррия своим верным прихожанам и фанатикам, – настоящий враг Бога и Церкви.
Мой отец, как диктовали обстоятельства и требовали предшествовавшие события, отнесся к отлучению несерьезно. Всего в нескольких шагах от пышных и святых врат церкви находилась самая что ни на есть скромная, и уж конечно, не святая дверь типографии; в то же воскресенье, поздно вечером отец вручил колонку для El Comunero.
(Или для El Temporal? Уточнения, вероятно, излишни, но все же меня терзает неспособность проследить историю листков и газет, публиковавшихся отцом. La Opiniоn? El Granadino? La Opiniоn Granadina или El Comunero Temporal? Бесполезно. Господа присяжные читатели, простите мне мое беспамятство.)
Так или иначе, отец написал колонку, неважно – для какой газеты. Далее я не буквально повторяю его статью, но, думается мне, верно передаю ее дух. «Одно отсталое духовное лицо из тех, что превратили веру в суеверие, а христианское служение – в языческое сектантство, присвоило себе право отлучить меня от церкви, пренебрегая решением прелата и в особенности здравым смыслом», – объявил он всей Боготе. «Нижеподписавшийся, доктор земных наук, глашатай общественного мнения и защитник ценностей цивилизации, получил в этом качестве широкое и неограниченное право представлять народ, который решил отплатить духовному лицу той же монетой. Посему пресвитер Эчаваррия, да поможет ему Бог, отлучается настоящим посланием от сообщества цивилизованных людей. С амвона Святого Фомы он изгнал нас из своей общины, а мы с амвона Гутенберга изгоняем его из своей. Решение подлежит исполнению».
Почти неделю ничего не происходило. Но в следующую субботу мой отец и его товарищи-радикалы встретились в кафе Le Boulevardier, неподалеку от университетского дворика, с актерами испанской труппы, гастролировавшей тогда по Латинской Америке. На их спектакль, вольное переложение «Мещанина во дворянстве» – мещанина заменил снедаемый сомнениями семинарист, – уже успел ополчиться архиепископ, а этого для El Comunero или El Granadino было достаточно. Мой отец, бывший редактором раздела «Разное» (да, и его тоже), предложил актерам большое интервью; к тому времени оно уже закончилось, редактор убрал записную книжку и ручку «Ватерлоо», привезенную другом из Лондона, и теперь собравшиеся обсуждали за бренди падре Эчаваррию. Актеры гадали, что случится на предстоящей мессе, ставили на кон целые реалы, пытаясь предсказать содержание воскресной проповеди, и тут начался проливной дождь, и прохожие сбились, как курицы, под навесом у дверей, совершенно загородив вход в кафе. Запахло мокрыми руанами[2 - Руана – верхняя одежда в виде прямоугольного куска шерстяной ткани, накидывающегося на плечи. – Примеч. ред.], с брюк и сапог текла вода, пол стал скользким. И тогда мощное сопрано приказало моему отцу встать и уступить место.
Отец никогда не видел падре Эчаваррию: новость об отлучении долетела до него через знакомых, а диспут до той поры разворачивался на страницах прессы. Он поднял глаза и увидел совершенно сухую сутану и уже сложенный черный зонт, кончик которого упирался в лужицу серебристой и переливчатой, словно ртуть, воды, а ручка без труда выдерживала вес женственных рук. Снова зазвучало сопрано:
– Место, еретик!
Я вынужден верить тому, что рассказывал отец много лет спустя: он не ответил, но не из дерзости, а потому что весь эпизод, достойный водевиля, – священник в кафе, сухой священник в окружении промокших людей, священник, чей женский голос сглаживает его вызывающие замашки, – так поразил его, что он не нашел ответа. Эчаваррия воспринял молчание как знак презрения и снова пошел в атаку:
– Место, нечестивец!
– Что-что?
– Место, богохульник! Место, еврей-убийца!
А потом он легонько стукнул отца по коленке кончиком зонта, всего раз или два, и в эту минуту разразилось страшное.
Словно кукла на пружине, отец отбил удар зонта (ладонь стала влажной и немного покраснела) и поднялся. Эчаваррия что-то возмущенно прошипел сквозь зубы – «Да как вы смеете!» или нечто в этом роде. Пока он шипел, отец в минутном приступе благоразумия обернулся, чтобы забрать сюртук и выйти, не глядя на товарищей, но не успел вновь обратить лицо вперед, как падре размахнулся и дал ему пощечину. Не заметил он – как сам часто впоследствии говорил, робко надеясь, что это примут на веру, – и следующего: его рука, будто движимая собственной волей, сжалась в кулак и с невероятной силой, с плеча, врезалась прямо в искривленный возмущением рот под напудренной безусой губой падре Эчаваррии. Челюсть глухо хрустнула, сутана как бы поплыла по воздуху назад, сапоги под сутаной поскользнулись в луже, и зонт упал на пол за секунду до хозяина.
«Видел бы ты! – говорил мне отец через много лет, стоя у моря с рюмкой бренди. – В ту минуту тишина была громче дождя».
Актеры повскакали с мест. Друзья-радикалы повскакали с мест. Каждый раз, вспоминая эту историю, я думаю: если бы отец оказался тогда один, а не в кафе, где собирались студенты, ему пришлось бы столкнуться с разъяренной толпой, желающей немедленно посадить его на кол; а так, если не считать пары разрозненных оскорблений, долетевших неизвестно от кого, и ледяного взгляда двух незнакомцев, которые помогли Эчаваррии подняться, сунули ему в руки зонт и отряхнули сутану (не упустив случая похлопать по священнослужительской ягодице), ничего не произошло. Эчаваррия покинул Le Boulevardier, изрыгая проклятия, каких никто никогда не слышал от церковника в Санта-Фе-де-Богота, и угрозы, достойные марсельского матроса, но тем дело и кончилось. Мой отец поднес руку к лицу, убедился, что щека горит, попрощался со своей компанией и ушел под дождем домой. Через два дня перед рассветом кто-то постучал в дверь. Служанка открыла и никого не увидела. Причина проста: стучала не рука, а молоток, приколотивший листовку.
На анонимке не значилось, в какой типографии ее напечатали, но в остальном все было яснее ясного: всех верующих призывали отказывать еретику Мигелю Альтамирано в приветствии, хлебе, воде и крове; еретика Мигеля Альтамирано объявляли одержимым бесами, а потому убить его как собаку, без всяких угрызений совести, почиталось отныне актом добродетели, который наверняка будет вознагражден божественным провидением.
Отец сорвал листок с двери, вернулся в дом, отыскал ключи от чулана и достал оттуда один из двух пистолетов, прибывших в сундуке моего деда. Выходя, он задумался, не следует ли уничтожить улики, то есть клочки бумаги, застрявшие под гвоздем, но потом понял, что предосторожность оказалась бы напрасной: тот же самый листок встретился ему десять или пятнадцать раз на коротком пути от дома до типографии, где печатали La Opiniоn. Более того: на улице на отца показывали пальцами и громко обличали – обвинители-католики без всякого суда объявили его врагом. Он давно был привычен к вниманию – но не к враждебности. Обвинители сурово смотрели с деревянных балконов, на шеях у них висели кресты, но отцу не было легче оттого, что сверху не доносилось оскорблений, – это являлось, скорее, подтверждением ожидающей его участи, куда более ужасной, чем простое общественное поругание. Он вошел в типографию и показал хозяевам, братьям Акоста, скомканный листок: не узнают ли они станок? Нет, не узнают. Вторую половину дня провел в Коммерческом клубе, выясняя, что думают товарищи. Радикальные общества уже приняли решение: они ответят огнем и мечом, подожгут каждую церковь и убьют каждого клирика, если Мигель Альтамирано подвергнется нападению. Он почувствовал себя менее одиноким, но понял, что городу грозит скорое несчастье. Так что с наступлением вечера он отправился в церковь Святого Фомы к падре Эчаваррии, полагая, что двое мужчин, обменявшихся оскорблениями, могут с той же легкостью обменяться извинениями, но в церкви никого не оказалось.
Или почти никого.
На скамье в заднем ряду лежал тюк или то, что мой отец, ослепленный внезапной сменой света и темноты, принял, пока его сетчатка со всеми своими колбочками и палочками привыкала к полумраку, за тюк. Пройдя вперед, к пресвитерию, проникнув дальше, на уже запретную для него территорию, отыскав дверь приходского дома, спустившись по двум истертым ступенькам, благоразумно и учтиво постучав дважды, он вернулся, выбрал место на случайной скамье, такое, чтобы видна была позолота в алтаре, и стал ждать, хоть и не вполне понимал, какими словами сможет переубедить фанатичного противника. И услышал:
– Это он.
Отец обернулся и заметил, что тюк разделился надвое. Одна половина, оказавшаяся фигурой в сутане (не падре Эчаваррией), уже выходила из церкви, и он видел только спину, а вторая, человек в руане и шляпе, смахивавший на огромный колокол с ногами, двинулась по проходу к алтарю. Отец догадался, что из-под соломенной шляпы, из черного пространства, в котором скоро проступят черты лица, его пристально рассматривают. Он огляделся. С картины за ним следил бородатый мужчина, погрузивший указательный палец (покрытый кожей и плотью, в отличие от пальца на мертвой руке китайца) в открытую рану Христа. На другой картине был мужчина с крыльями и женщина, отмечающая какое-то место в книге столь же плотским пальцем: отец узнал сцену Благовещения, но ангел не походил на китайца. Никто не собирался прийти ему на помощь; человек в руане тем временем бесшумно приближался, словно плыл по намасленной поверхности. Отец увидел его сандалии, закатанные штаны и под краем руаны грязное лезвие ножа.
Оба молчали. Отец понимал, что не может убить врага здесь – не потому что в свои тридцать четыре еще никого не убивал (когда-то да приходится начинать, а пистолетом он владел не хуже любого другого), а потому что в отсутствие свидетелей это было все равно что подписать себе приговор. Люди должны видеть: его вынудили, на него напали, заставили его защищаться. Он встал и пошел по боковому проходу к паперти; человек в руане не бросился к нему, но развернулся и тоже зашагал обратно по центральному проходу: так они и шли параллельно, скамья за скамьей, и мой отец думал, что будет делать, когда скамьи кончатся. Он быстро считал их в уме: шесть скамей, пять, четыре.
Три скамьи.
Две.
Одна.
Отец положил руку в карман и взвел курок. В дверях церкви параллельные линии начали сходиться, человек откинул край руаны и отвел руку с ножом назад. Отец поднял пистолет, прицелился в центр груди, подумал о печальных последствиях того, что собирался вот-вот совершить: подумал о любопытных, которые сбегутся в церковь на звук выстрела, подумал о суде, который признает его виновным в преднамеренном убийстве по свидетельству этих любопытных, подумал о моем деде, пронзенном штыком, и о китайце, пронзенном бамбуковой палкой, подумал о роте, которая поставит его к стенке и расстреляет, и сказал себе, что не создан для тюрьмы и эшафота, что убить нападающего – дело чести, но следующую пулю нужно будет направить себе в грудь.
И тогда он выстрелил.
«И тогда я выстрелил», – рассказывал мне отец.
Но выстрела не услышал, точнее, ему показалось, что от его выстрела пошло оглушительное эхо, неведомый миру грохот: это с соседней площади Боливара долетел гром множества разом разрядившихся орудий. Было за полночь, наступило 17 апреля, и почтенный генерал Хосе Мария Мело только что совершил военный переворот и объявил себя диктатором несчастной сбитой с толку республики.
Все верно: Ангел Истории спас моего отца, хоть и, как мы увидим, ненадолго, просто заменив одного врага другим. Отец выстрелил, но выстрела никто не услышал. Когда он вышел на улицу, все двери были заперты, все балконы пусты, пахло порохом и конским навозом, вдали слышались крики, стук каблуков по булыжной мостовой и, разумеется, настойчивые выстрелы. «Я сразу понял. Этот гул означал гражданскую войну», – говорил мне отец тоном провидца… Он любил примерить на себя эту роль и за время нашей жизни вместе (недолгой) часто клал мне руку на плечо, смотрел на меня, торжественно подняв бровь, и рассказывал, как предсказал то, предугадал се. Про какое-нибудь событие, в котором участвовал косвенно, как свидетель, он говорил: «Давно было понятно, чем это кончится». Или: «Уж не знаю, куда они глядели». Таков был мой отец, человек, которого к определенному возрасту так помотали Великие События – иногда он выходил из них невредимым, чаще нет, – что он развил в себе любопытный механизм защиты: предсказывать то, что вот уже много лет как произошло.
Но позвольте мне небольшое замечание, отступление в скобках, так сказать. Я всегда считал, что в ту ночь история моей страны доказала: у нее есть чувство юмора. Вот я упомянул Великое Событие. Беру лупу и рассматриваю его вблизи. И что я вижу? Чему обязан мой отец своей нежданной безнаказанностью? Перечислим быстренько факты: январским вечером генерал Мело в сильном подпитии покидает офицерскую пирушку и на площади Сантандера, неподалеку от своей казармы, натыкается на капрала по фамилии Кирос, несчастного рассеянного юношу, оказавшегося в такой час на улице без увольнительной. Генерал как полагается отчитывает его, капрал выходит из себя, отвечает дерзко, и Мело не находит ничего лучшего, чем выхватить саблю и одним ударом срубить бедняге голову. Огромный скандал в боготинском обществе, громкие протесты против военщины и насилия. Прокурор обвиняет, судья вот-вот выдаст ордер на арест. Мело с безупречной логикой рассуждает: лучшая защита – это даже не нападение, а диктатура. Под его командованием – целая армия ветеранов, и он умело пользуется ею в своих целях. Можно ли его за это упрекать?
Впрочем, признаю: все это – не более чем дешевые слухи, типичные побасенки, – наш национальный спорт, – но caveat emptor[3 - Пусть покупатель остерегается (лат.).], а я уж буду рассказывать как хочу. Согласно другим версиям, капрал Кирос поздно возвращается в казарму после уличной потасовки и к моменту встречи с Мело он уже ранен; некоторые утверждают даже, будто на смертном одре Кирос узнает, какие обвинения предъявлены генералу, и освобождает его от всякой ответственности. (Не правда ли, красивая история? Столько в ней этакой мистики – «учитель и ученик», «наставник и протеже». Рыцарская версия – моему отцу она точно нравилась.) Но вне зависимости от различных объяснений один факт остается неопровержимым: гладко причесанный – будто корова языком лизнула – генерал Мело, смахивающий на Мону Лизу с двойным подбородком, стал инструментом, который история избрала, чтобы неистово высмеять судьбу наших юных республик, не доведенных до ума изобретений, навечно оставшихся без патента. Мой отец убил человека, но убийство кануло в забвение, когда другой человек, стремясь избежать грозящего ему, словно простому смертному, заключения, решил штурмом взять то великое, о чем всякий колумбиец говорит с гордостью: Свободу, Демократию, Государственные институты. И Ангел Истории, сидящий в партере, хохотал так, что свалился с кресла и уронил свой фригийский колпак.
Господа присяжные читатели, я не знаю, кто первым сравнил историю с театром (мне это право точно не принадлежит), но могу утверждать одно: этот прозорливец не был знаком с нашим колумбийским трагикомическим сюжетом, пьесой посредственных драматургов, сооружением криворуких сценографов, детищем нечистоплотных импресарио. Колумбия – пьеса в пяти актах, которую кто-то попытался написать классическим стихом, а получилась грубая проза, представленная переигрывающими актерами с отвратительной дикцией. Так вот, я возвращаюсь в наш маленький театрик (и еще не раз вернусь), к очередной сцене: двери и балконы заперты на засовы, кварталы вокруг Правительственного дворца призрачно пусты. Никто не слышал выстрела, прогремевшего в холодных каменных стенах, никто не видел, как мой отец выходит из церкви Святого Фомы, как он, словно тень, мчится по улицам, как в столь поздний час заходит в дом с еще не остывшим пистолетом. Маленькое происшествие оказалось стерто Великим Событием: крохотную смерть обыкновенного жителя квартала Эхипто затмили грядущие Неисчислимые Потери, каковым покровительствует Святая Дева-Война. Но, как я уже сказал, мой отец всего лишь сменил противника: преследователь от церкви был уничтожен, зато теперь за дело взялись военные. В новой Боготе, где заправлял Мело с дружками-мятежниками, таких радикалов, как мой отец, боялись за недюжинный талант к организации беспорядков – не зря те посвящали долгие годы изучению революций и политических смут, – и не прошло и суток с той минуты, когда человек в руане, а точнее его труп, рухнул на пол церкви Святого Фомы, как по всему городу начались аресты. К радикалам, студентам и членам Конгресса являлись вооруженные и не слишком любезные гости – люди Мело; темницы полнились; многие вожаки опасались за свою жизнь.
Отцу об этом сообщили не его товарищи. Некий лейтенант предательской армии пришел к нему ночью и разбудил ударами приклада об оконную раму. «Тут я и подумал, что конец мне настал», – рассказывал отец много лет спустя. Но оказалось совсем не так: на лице лейтенанта читались разом гордость и вина. Отец покорно отпер дверь, но тот не стал заходить. Еще до рассвета, сказал он, прибудет отряд и арестует отца.
– Откуда вы знаете?
– Знаю, потому что отрядом командую я, – сказал лейтенант. – Я сам и отдал этот приказ.
И, сделав масонское приветствие, исчез.
Только тогда отец понял, кто это был: один из членов «Звезды Текендамы».
Так что, собрав самое необходимое, в частности злосчастный пистолет и костлявую длань, отец укрылся в типографии братьев Акоста. И обнаружил, что многим его товарищам пришла в голову та же мысль: новая оппозиция уже начинала обдумывать, как вернуть страну в русло демократии. Раздавались крики: «Смерть тирану!» (Скорее благоразумный шепот, потому что патрули тревожить раньше времени тоже не годилось.) В ту ночь среди тискальщиков и переплетчиков, которые только изображали беспристрастность, среди этих железных людей, таких мирных с виду, но способных развернуть целую революцию, если потребуется, в окружении сотен или даже тысяч деревянных ящичков, содержавших, по-видимому, все возможные протесты, подстрекательства, угрозы, манифесты, ответные манифесты, обвинения, разоблачения и опровержения политического мира, собрались вожаки радикалов, чтобы вместе выйти из захваченной столицы и спланировать с вооруженными силами в провинциях кампанию по возвращению власти. Отца приняли с радостью и совершенно буднично заявили, что намерены назначить его командовать полком. Тот присоединился к повстанцам, отчасти потому что в компании чувствовал себя защищенным, отчасти потому что идеалисты всегда с трепетом относятся к идее товарищества, но в глубине души он уже принял решение, и оно не менялось с самого начала его пути.
Здесь я ускорюсь. Прежде я посвящал несколько страниц событиям одного дня, а теперь моя история требует уместить в пару строк события многих месяцев. В сопровождении слуги, под покровом непроглядной равнинной ночи до зубов вооруженные защитники государственности выехали из Боготы. По склону горы Гваделупе они поднялись к пустынным плоскогорьям, где даже суровые эспелеции[4 - Эспелеция, или фрайлехон, – древовидное растение с толстым стволом без ветвей, произрастающее в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре. – Примеч. ред.] умирали от холода, а потом спустились в теплые края на купленных по пути своенравных и прожорливых мулах, прибыли на берег реки Магдалена и спустя восемь часов плавания на утлом каноэ оказались в Онде, которую и объявили ставкой сопротивления. В последующие месяцы мой отец набирал людей, добывал оружие, отправлял солдат в пикеты, был добровольцем в войсках генерала Мануэля Марии Франко, потерпел поражение в Сипакира, слышал, как генерал Эррера предсказал собственную смерть, и видел, как это пророчество сбылось, пытался собрать другое временное правительство в Ибаге, но неудачно, созывал распущенный диктатором конгресс, лично составил батальон из молодых людей, покинувших Боготу, или Санта-Фе, и присоединил его к войскам генерала Лопеса, в решающие дни получал запоздалые, но радостные известия о победах в Босе, Лас-Крусес и Лос-Эхидос, узнал, что третьего декабря вся девятитысячная армия собирается вступить в Санте-Фе, или Боготу, и пока его товарищи праздновали, поедая форель по-дьявольски и распивая такое количество бренди, какого он и не видел никогда, решил, что отпразднует с ними, выпьет свой бренди и доест свою форель, а потом скажет им: он не станет участвовать в триумфальном шествии, не станет входить в возвращенный город.
Да, объяснит он, ему не нужно возвращаться, потому что город, хоть и восстановлен для демократии, для него утрачен навсегда. Он больше не будет там жить, ибо тамошняя жизнь кажется ему завершенной, принадлежащей кому-то другому. В Боготе он убил, в Боготе прятался, в Боготе у него ничего не осталось. Но они, разумеется, не поймут, а те, кто поймет, откажутся верить или попытаются разубедить его словами вроде «город твоих предков», «город твоей борьбы» или «город, где ты увидел свет», и тогда ему придется показать им в качестве неопровержимого и достоверного доказательства своего нового места назначения руку мертвого китайца с пальцем, неизменно, словно по волшебству, указывающим на провинцию Панама.
II