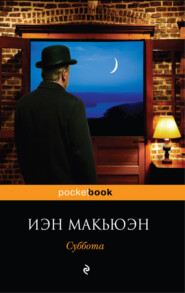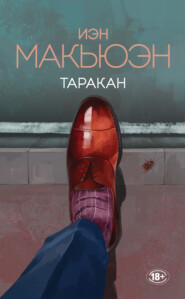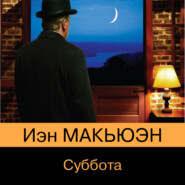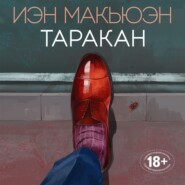По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Упражнения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она разрешила Роланду взять дневники на ночь. Он читал их после ужина, а потом перед сном, когда они легли рядом в кровати, Алиса начала читать первый, а он к этому времени уже дочитывал эпизод с «очень занятной» вечеринкой с британскими офицерами в Суассоне, «в чудесном доме с парком и озером». Больше всего Роланда поразила доверительная интонация и точность ее прозы. Больше того, она явно обладала даром блистательных и довольно смелых описаний. Полторы страницы, посвященные ее роману с американским лейтенантом Бернардом Шиффом, удивили его. Джейн Фармер писала, что никогда в жизни не встречала столь щедрого на ласки любовника, «столь экстравагантно старающегося доставить женщине удовольствие», что сильно отличало его от знакомых ей английских мужчин, которых интересовало лишь поспешное «туда-сюда». Ни на секунду не забывая о том, что родители его жены находятся за этой тонкой стенкой, он шепотом читал описание орального секса Джейн с Шиффом. Алиса сказала ему шепотом: «Она, скорее всего, забыла об этом. Она бы умерла от мысли, что я это могу прочесть».
Два дня спустя они оба прочли мюнхенские дневники от начала до конца. Перед обедом они пошли прогуляться по Либенау, вдоль набережной Гросе-Ауэ до замка. Алиса пребывала в возбужденном состоянии, не в силах забыть прочитанное, которое ее немного смутило, если не сказать покоробило. Почему мать никогда не упоминала об этих дневниках? Почему она дала их прочитать Роланду, а не ей? Джейн следует их опубликовать. Но она не посмеет. Генрих никогда ей этого не позволит. Внутри семьи «Белая роза» была его собственностью, хотя помимо него было еще немало уцелевших. Он давал интервью нескольким ученым, историкам, журналистам. Он не был важным деятелем движения и никогда не делал вид, что был. С ним консультировались, когда решили поставить фильм о тех событиях. Но увидев, что получилось в итоге, он был крайне разочарован. Им не удалось отобразить реальные события и реальных людей. «Шолли, Ганс и Софи, они были совсем не такие, они и выглядели совершенно иначе!» Он так сказал, хотя и признался, что едва был с ними знаком. Газетные статьи, научные эссе, книги, которые стали затем выходить, его также не радовали. «Их там не было, откуда им знать. Страх! Теперь это все стало историей – это уже не настоящее. Все это только слова. Они не понимают, как молоды мы были. Им не понять наших чувств тогда. Сегодняшние журналисты все сплошь атеисты. Они не желают вникать в то, насколько сильна была в нас религиозная вера».
Ни одно описание «Белой розы» его не удовлетворяло. И дело было не в точности деталей. Ему было больно сознавать – то, что для них было живым переживанием, теперь превратилось в голую идею, в туманное представление, возникшее в сознании чужих людей. Ничто не могло соответствовать его воспоминаниям. Даже если дневники его жены и были способны вновь оживить далекое прошлое, они грозили отвести ему неправильную роль в тех событиях – так считала Алиса, и Роланд полагал, что она права. Ее отец был упрямец с допотопными взглядами. Как это так? Джейн – независимая женщина, колесившая по Франции и Германии и занимавшаяся сексом с первыми встречными! Опубликовать дневники, пускай даже в маленьком частном издательстве, – это просто немыслимо! Джейн никогда не пошла бы наперекор его воле. Она сделала лишь одну мятежную уступку – разрешила дочери и Роланду тайком сделать фотокопию дневников и взять их с собой в Лондон. Тоже своего рода публикация. Накануне отъезда они нашли типографию в Нинбурге и провели там целый день, дожидаясь, пока медленная, то и дело запинавшаяся машина снимет копии со всех страниц дневников. Они спрятали получившиеся 590 страниц в пакете для покупок. Когда они возвращались по набережной с этим пакетом, Алиса рассказывала Роланду об отце. Это был семидесятилетний добряк, с устоявшимися консервативными взглядами. Его воспоминания о движении «Белая роза» и его мнение о нем были непоколебимыми. И он не хотел их усложнять. Что же до орального секса – при мысли об отце, набожном и правоверном христианине, читающем об энергичных упражнениях какого-то лейтенанта сорок лет назад, Алиса разразилась таким безудержным хохотом, что ей пришлось даже привалиться к дереву.
Роланд вспомнил про их прогулку по Либенау, когда поднял с кухонного стола открытку и пошел наверх принять душ. Да, в то лето 1984 года, после того как Алиса прочитала дневники матери, у нее возникло странное, быстро менявшееся настроение. Поначалу они подробно обсуждали дневники, а потом тема сама собой забылась. Зимой они переехали в Клэпхем[24 - Район в юго-западной части Лондона.], вот-вот должен был родиться ребенок, Дафна и Питер ожидали своего третьего, и оба, предвкушая пополнение семейства, тогда много общались – повседневные заботы заставили их позабыть обо всем постороннем. А полузабытая фотокопия дневников была завернута в газету и убрана в ящик комода в спальне.
Подойдя к лестнице, он остановился и прислушался. Лоуренс не издавал ни звука. В спальне он сунул грязную одежду в корзину для грязного белья. Радиоактивная одежда, собравшая всю чернобыльскую пыль. Он почти уже верил в это. Он стоял в ванне под кое-как закрепленной лейкой душа, которая свисала из голой стены, и смывал с себя грязь. Воспоминания имеют короткий период полураспада. Когда они спешили по улочкам Либенау, чтобы не опоздать к ужину, он подумал, что эти дневники могут заставить Алису по-новому взглянуть на мать, больше ее любить, что ли, испытывать меньше желания с ней ссориться. Но произошло прямо противоположное. В последний день они буквально не могли находиться рядом. Словно надоевшая друг другу старая семейная пара, упустившая шанс вовремя расстаться, они то и дело обменивались колкостями. Шестидесятичетырехлетняя Джейн обращалась со своей дочкой как с соперницей, которую требовалось поставить на место. Стоило им вернуться с прогулки, как Алиса затеяла с матерью ссору из-за назначенного времени ужина. А сидя за столом, они принялись с жаром спорить по поводу политики Христианско-демократического и Erziehungsgeld – предложенного Гельмутом Колем законопроекта о пособиях по уходу за детьми. Ссора завершилась только после того, как Генрих, сжав кулак, стукнул им по столу. А сидя в саду, они стали цапаться из-за череды мероприятий во время детского семейного праздника в голландской рыбацкой деревне Хинделоопен. Когда Роланд, ложась в тот же вечер в постель, спросил у Алисы, какая кошка пробежала между ней и матерью, она ответила:
– Это наши обычные отношения. Я хочу домой.
А потом он проснулся среди ночи и увидел, как она плачет. Что было необычно. Она не сказала ему, в чем причина. Она уснула у него на локте, а он лежал на спине и размышлял о молодой Джейн Фармер и о поразивших ее впечатлениях от поездки в Мюнхен.
* * *
Лейтенант Шифф ее предупредил. Она хоть и следила за развитием военных действий, но пропустила сообщения о семидесяти крупных авианалетах на город. Она вылезла из джипа на перекрестке близ развалин бывшего центрального вокзала. Мюнхен лежал в руинах. И она чувствовала свою «личную ответственность». Смехотворное чувство, подумал Роланд. Город выглядел ужасно, писала она в дневнике, как Берлин. «Это куда страшнее, чем бомбежки Лондона». Наконец она подарила Бернарду прощальный поцелуй, не дав ему фальшивых обещаний, что они когда-нибудь еще увидятся. У него была жена и трое детей в Миннесоте, и он показывал ей фотографии своего счастливого семейства. Он укатил, а она подхватила чемодан и сжала в свободной руке «Бедекер» издания 20-х годов. Встав в теньке, раскрыла путеводитель и стала разглядывать складную карту города. Но она не могла понять, где находится: на улицах не было вывесок. Вокруг нее простиралась каменная пустыня, было, к несчастью, очень жарко. На дорогах из-под колес редких машин – в основном американских военных грузовиков – вздымались облака кирпичной пыли, взвесью висевшие в неподвижном воздухе. Все здания, возле которых она остановилась, были без крыш. А окна зияли «огромными дырами в форме неровных прямоугольников». Шестнадцать месяцев спустя после окончания войны щебенку и мусор сгребли в «аккуратные горы». Она с удивлением заметила неспешно скользивший по улице старенький трамвай с пассажирами. На улице было немало людей, поэтому она убрала карту и воспользовалась школьными знаниями немецкого. Ее акцент не вызвал у пешеходов враждебности. Впрочем, и особой доброжелательности они не проявили. Через час, едва не заблудившись из-за неверных или плохо ею понятых указаний, куда идти, она нашла нужный дом – пансион близ Гизела-штрассе, рядом с университетом и неподалеку от Английского сада.
Она была удивлена – как все время удивлялась, колеся по Франции, тому, что есть отели и специально обученные люди, которые меняли постельное белье и готовили еду из того, что можно было найти в продаже. Быстро же после разрушительной войны все вернулось к нормальной жизни. В других местах с едой были перебои. Сгоревшие танки на обочинах шоссе были привычной подробностью пейзажей. Везде валялся оставшийся после войны мусор. В одной французской деревушке она видела лежавшее поперек мостовой почерневшее крыло сбитого истребителя. По непонятным ей причинам никто не собирался его убирать. Шоссейные дороги и уцелевшие железнодорожные вокзалы были забиты толпами людей, лишенных всего, уцелевших евреев из концлагерей, бывших солдат и военнопленных, беженцев из советской зоны оккупации. Десятки тысяч были заключены в фильтрационные лагеря. Повсюду она видела «бездомных, грязь, голод, горе и ожесточение».
Две трети города лежало в руинах. Но были здесь и укромные уголки, где сохранилась нормальная жизнь и куда не упала ни одна бомба. Ее крошечный номер на четвертом этаже был покрыт пылью и пропах влажной затхлостью, но на кровати лежало пухлое стеганое одеяло – что в ту пору казалось заезжей англичанке настоящей экзотикой. Стоя у окна и глядя туда, где, по ее предположению, протекала река, она могла «почти убедить себя, что недавнего безумия никогда не было». Этот пансион, насколько она могла судить, был полностью заселен американскими офицерами и сотрудниками гражданской администрации. Спускаясь по лестнице из своего номера, она слышала из-за закрытых дверей перестук пишущих машинок. Над лестничными пролетами висел густой аромат табачного дыма.
На следующее утро она совершила короткую прогулку до главного здания университета на Людвиг-штрассе. Там ее направили на второй этаж. Она прошла по длинному коридору с колоннадой, наполненному студентами. Еще более неожиданный признак нормальной жизни. Она остановилась перед кабинетом администрации, чтобы еще раз мысленно пробежаться по своему запасу немецких слов. В прямоугольном зале с высокими окнами она увидела не меньше десятка то ли секретарей, то ли делопроизводителей. Но сколько она ни искала глазами стол приема посетителей, не нашла, и тогда она, не обращаясь ни к кому конкретно, громко произнесла по-немецки заученную из учебника фразу. Все головы повернулись к ней.
– Entschuldigung. Guten Morgen![25 - Прошу прощения. Доброе утро! (нем.)]
И далее она пояснила, что пишет статью о движении «Белая роза» для известного лондонского журнала. Может ли кто-нибудь помочь ей найти людей, к кому она могла бы обратиться? Она была готова к не слишком дружелюбной реакции. Шесть главных членов движения, Ганс и Софи Шолль, трое друзей-студентов и один профессор были приговорены к смерти и казнены на гильотине. Затем последовали и другие казни. Когда новость об этом распространилась по городу, две тысячи студентов собрались на митинг и шумно одобрили эти казни. Предатели. Коммунистические выродки. А что будет сейчас? Еще слишком мало времени прошло, да и это было настолько позорно, что, возможно, они едва ли готовы как-то выразить свои чувства помимо смущенного молчания. Но вопреки ее ожиданиям раздались одобрительные возгласы. Две машинистки встали из-за столов и, улыбаясь, устремились к ней.
Три года назад эти сотрудники университетской администрации вполне могли бы с негодованием сплюнуть при одном только упоминании о «Белой розе». В новой ситуации Мюнхенский университет решил отождествить себя с мятежной группой, выразить чувство гордости ее мужеством и четкой моральной позицией. Никакая другая колыбель немецкой науки не могла бы похвастаться таким количеством мучеников. Шолли, Алекс Шморель, Вилли Граф, Кристоф Пробст, профессор Курт Губер были славными мюнхенцами. Перед лицом всеобъемлющей и жестокой государственной власти их сопротивление имело сугубо интеллектуальную направленность. «Эти дети были так юны, так отважны!» Кто мог бы пытаться разубедить администрацию университета, включая ее низших сотрудников, в том, что эти борцы символизировали возврат храма науки к своему истинному предназначению? Свободомыслие! «А ведь некогда, – писала Джейн в дневнике, – это был университет, связанный с именами Макса Вебера и Томаса Манна, – и вот он вновь стал таким!»
Первой к ней подошла толстушка лет шестидесяти в очках, которые увеличивали ее глаза и придавали сходство с «добродушной лягушкой». Она взяла Джейн за локоть и развернула к шкафу с документами. Потом достала оттуда тонкую пачку фотокопий и передала ей:
– Hier ist alles, was Sie wissen m?ssen.
«Здесь все, что вам нужно знать».
Это были копии шести брошюр «Белой розы» объемом меньше двух страничек каждая, которые через Швейцарию и Швецию доставлялись в Лондон. Там их размножали на копировальных машинах миллионными тиражами и сбрасывали с английских военных самолетов по всей Германии. Джейн ничего этого не знала и оттого чувствовала себя дурой. Она-то считала листовки редкостью, думая, что они все давным-давно собраны и уничтожены гестапо. Об этом наверняка знали Маггеридж и его знакомые. Скорее всего, все в редакции «Хорайзона» знали об этом и полагали, что и она тоже знает.
Другие сотрудники Мюнхенского университета написали ей имена и адреса. При этом возникали мелкие разногласия. Она слышала, как кто-то восклицал вполголоса: «Да она там больше не живет!» и «Он врет. Ни в чем он не участвовал!». Было названо имя сестры казненных – Инга Шолль. Она, вероятно, живет в семейном доме в Ульме. Нет, возразил кто-то, она в Мюнхене. Ходили слухи, что она пишет мемуары. Она долго сидела в концлагере и все еще приходила в себя. Возможно, она не захочет об этом говорить, уверяли одни. Нет, захочет, настаивали другие. В этой перепалке не чувствовалось враждебности. Общим настроением, по оценке Джейн, были энтузиазм и гордость.
В университетской администрации она провела час. За это время она не переставала волноваться, что войдет начальник и выразит свое недовольство суматохой, которую вызвала просьба Джейн. Но начальник уже находился в комнате. Это был «лохматый мужчина в темном костюме, который был ему велик на два размера». Именно он и объяснил ей, в какой последовательности следует читать копии листовок – первые четыре были напечатаны летом и осенью 1942 года и тайно распространены в Мюнхене и ближайших к нему городках. Последние две были написаны в начале следующего года после того, как Ганс Шолль, Пробст и Граф вернулись с Русского фронта, где служили санитарами. А самая последняя листовка появилась за день-два до того, как гестапо арестовало всю группу. Еще он обратил внимание Джейн на различия между пятой и шестой листовками.
Распрощавшись со всеми и поблагодарив за помощь, Джейн дала обещание прислать экземпляр журнала со своей статьей. На Людвиг-штрассе ею овладело нетерпение. Она остановилась на углу, вытащила скрепленные листки бумаги и прочитала первый заголовок: «Листовка «Белой розы». Ее немецкий был достаточно хорош, чтобы она смогла осилить первое предложение без словаря: «Ничто так не позорит цивилизованную нацию, как готовность без сопротивления позволить «управлять собой» клике авантюристов, оказавшейся во власти своих порочных инстинктов».
Она отвела полстраницы своего дневника впечатлениям от прочитанного. Роланд предположил, что она писала эти строки, уже прочитав все шесть брошюрок. «Ничто так не позорит цивилизованную нацию… Я словно читала перевод латинского текста, принадлежащего перу видного античного мыслителя… Это вводное заявление, выдержанное в столь возвышенном тоне, было написано современным человеком, студентом, всего-то двадцати с лишним лет, с жгучей страстью к интеллектуальной свободе и с безошибочным чувством бесценной художественной, философской и религиозной традиции, оказавшейся под угрозой уничтожения. Я ощутила восторг, это было потрясение сродни беспамятству… я словно влюбилась… Ганс Шолль, его сестра Софи и их друзья, чуть ли не единственные среди всех немцев, возвысили свои тишайшие голоса против тирании, не ради политики, но во имя самой цивилизации. И теперь они мертвы. Три года как мертвы, и я оплакивала их, стоя на углу Людвиг-штрассе. Мне так хотелось познакомиться с ними, так хотелось, чтобы они сейчас были со мной. Я шла обратно в отель, обуреваемая печалью, словно скорбя по своему погибшему возлюбленному».
Она не покидала номер, покуда не перечитала и не законспектировала все листовки. Как же это было опасно, какое мужество требовалось, чтобы назвать Третий рейх «духовной тюрьмой… механическим государственным аппаратом, в котором господствуют преступники и пьяницы» и утверждать, что «все слова, произнесенные Гитлером, являются ложью… Его рот – это зловонные врата ада». И все эти заявления были помещены в оправу научных идей прошлого. Гете, Шиллер, Аристотель, Лао-цзы. У нее возникло ощущение, будто она «делает упражнения по какому-то учебному предмету». Она вполне отдавала себе отчет в том, как близкое знакомство с авторами подобных текстов могло развить и обогатить любовь к свободе. Она вдруг почувствовала «злость, даже отвращение» к тому, что ее родители совершенно бездумно и потому, что она была девочкой, никогда не предлагали ей ту же привилегию, какой насладился ее брат, – получить университетское образование. Он все еще служил в армии – брат был капитаном Королевской артиллерии и участником славной войны. И она, сидя на кровати в своем крошечном номере мюнхенской гостиницы с видом на Английский сад, приняла решение, что как только вернется домой, как только отдаст статью в редакцию, то непременно поступит в университет. Будет изучать философию или литературу. А лучше и то и другое. Это будет ее личный акт… но чего именно? Сопротивления, уважения. Ее дань уважения «Белой розе». Она выписала отдельные фразы из листовок. «Самые вопиющие преступления» государства – это преступления, которые в массовом порядке попирают все стандарты человечности… Никогда не забывайте, что все граждане заслуживают того режима, с которым хотят ужиться… наше нынешнее государство – это диктатура зла». И из Аристотеля: «Деспот бесконечно предрасположен к разжиганию войн». В самом конце первой листовки, после двух величественных строк из «Пробуждения Эпименида» Гете, простая, проникнутая надеждой просьба тронула ее своим пафосом: «Пожалуйста, сделайте как можно больше копий этой листовки и распространите их».
«…После вторжения в Польшу 300 тысяч евреев было там уничтожено самым зверским образом». Ганс Шолль и его единомышленники страстно желали растормошить немецкий народ, избавить его от бездействия, от апатии «перед лицом этих отвратительных преступлений, преступлений, унижающих человеческий род… тупое безволие немецкого народа только поощряет всех этих фашистских преступников». Покуда они не предпримут решительных действий, никто не сможет снять с себя бремя вины, потому что каждый «виновен, виновен, виновен». Финальная фраза четвертой листовки: «Мы не будем молчать. Мы – твоя грешная совесть. «Белая роза» не оставит тебя в покое!» Но оставалась еще надежда, потому что еще не поздно: «Теперь, когда мы воочию увидели, что они такое, нашим первым и единственным долгом, святым долгом каждого немца должно стать уничтожение этих чудовищ!» В условиях тотальной и порочной власти государства единственная наша возможность – это «пассивное сопротивление». Тихий саботаж на фабриках, в лабораториях, в университетах и во всех сферах искусства. «Не жертвуйте средств на общественные нужды… Не участвуйте в сборе металлолома, тканей и тому подобных мероприятиях».
Тон последних двух листовок стал возвышенным. Эти брошюрки теперь назывались «Листовки Сопротивления» и «Борцы-собратья по Сопротивлению!». В пятой заявлялось, что после перевооружения Соединенных Штатов войне придет конец. Пора немецкому народу отречься от национал-социализма. Гитлер «ведет Германию в бездну. Гитлер не может выиграть войну, он может лишь ее продлить… Возмездие уже близко». «Верно, – строго заметила Джейн в своем дневнике, – но пока еще рано об этом говорить».
У оппозиционного движения «Белая роза», похоже, не было никакого политического проекта на будущее. Но потом в последней и самой короткой листовке, написанной в январе 1943 года, Джейн прочитала: «Только при широком сотрудничестве всех народов Европы можно проложить путь к возрождению… Германия завтрашнего дня будет федеративным государством».
Софи Шолль схватили, когда она распространяла эту шестую листовку в том самом университетском здании, где сегодня побывала Джейн. Вахтер заметил, как она разбрасывала листки из светового окна на крыше главного входа. Он донес на нее – и это был конец. К тому моменту немецкие войска получили отпор под Сталинградом. Там произошла кровопролитная битва беспрецедентных масштабов. И эта битва стала справедливо считаться переломным моментом в войне. «330 тысяч немцев были безжалостно отправлены на бессмысленную смерть и уничтожение благодаря блестящей стратегии, разработанной бывшим рядовым, сражавшимся на фронте Первой мировой войны. Спасибо тебе, фюрер!» В последнем абзаце последней листовки содержался обращенный к молодым немцам призыв восстать «во имя интеллектуальных и духовных ценностей… интеллектуальной свободы… высокой идейности». Немецкая молодежь должна «уничтожить своих угнетателей… и учредить новую Европу духа… Погибшие в Сталинграде молят нас действовать». И последняя пронзительная фраза: «Наш народ готов восстать против национал-социалистического порабощения Европы, охваченный энтузиазмом нового обретения свободы и чести». Этими словами, исполненными воодушевления и надежды, текст завершался. После произведенных арестов события завертелись очень быстро: состоялся показательный процесс с предрешенным финалом, после чего последовали и первые казни. Головы трех молодых людей, обладавших горячими сердцами и беспримерным мужеством, отсекли от их тел. Софи Шолль, самой юной из них, был всего двадцать один год.
Джейн полчаса лежала на кровати, в полном изнеможении и экзальтации. Она предалась, как было написано в ее дневнике, «приятному порыву самокритики». Сейчас ее собственная жизнь казалась ей мелкой и бесцельной. Позади громоздился бесформенный ворох недель. Она прожила эти годы войны словно в забытьи, печатая в министерском машбюро какие-то дурацкие письма. За все годы она ни разу не осмелилась совершить нечто запретное, помимо выкуренной тайком сигаретки в четырнадцатилетнем возрасте в роще рододендронов за школьным стадионом. Во время немецких бомбежек Лондона ей всегда везло, но разве это можно считать личным достижением? Она переживала тяготы войны вместе со всеми, как все. Она ни разу не встала на чью-то защиту, ни разу не рискнула жизнью ради идеи, ради принципа. И что теперь? Она не ответила на свой вопрос. «Голод дал о себе знать. Я не ела весь день». Но в тот вечер еды в гостиничном ресторанчике не оказалось. Она пошла бродить по университетскому кварталу в поисках недорогой забегаловки. «Я чувствовала себя по-другому, я становилась другим человеком. Я была готова начать новую жизнь». Наконец она нашла киоск, где купила «отвратительную сосиску на куске плесневелого хлеба. Сосиску спасла только горчица».
Логичным ответом на вопрос «И что теперь?» было еще раз пробежаться по списку людей, связанных с «Белой розой», написать статью и отправиться в Ломбардию. Среди руин Мюнхена жизнь показалась ей «вполне многообещающей». Она вообразила себя почетным членом группы Сопротивления. Она продолжит их работу, поможет построить новую Европу, о которой они мечтали. Тут мог быть ценен даже скромный вклад, такой, как желание облагородить британскую кухню, как она написала в игривом тоне, «описывая искусство оссо буко!». Спустя четверть века, узнав, что ее страна наконец-то присоединилась к европейскому проекту, она испытала восторг при мысли о том, что это соответствовало мечтам ее молодости. Между тем, находясь здесь, она в последующие десять дней посвятила себя попытке написания истории «Белой розы».
Ее первой ошибкой стало предположение, будто люди, с которыми МИ-6 посоветовала ей связаться, обладают некоей привилегированной информацией. Она обошла чуть ли не весь город со своим «Бедекером» под мышкой, да все без толку. Три наводки оказались бесполезными. В первом адресе значился многоквартирный дом начала века, и от него остались одни развалины. Вторым в списке оказался небольшой дом на узкой улочке в Швабинге, но там сейчас жила итальянская семья, и они ничего не знали. Третий дом, тоже в Швабинге, уцелел, но при взгляде на него стало понятно, что в нем уже много лет никто не жил. В хаосе войны, а потом в суматохе послевоенных месяцев никто не задерживался в одном месте надолго. Ей больше повезло с наводками, полученными в университете, хотя и тут многие имена и адреса никуда не привели. Первым ее успехом стала часовая беседа с подругой Эльзы Гебель – бывшей политической заключенной, участницей движения, занимавшейся учетом арестованных гестапо. Гебель тесно общалась с Софи Шолль в ее последние дни на свободе и даже провела с ней четыре дня в одной камере. Это были сведения, что называется, не из первых рук, но Джейн поверила своей собеседнице Стефани Руде, энергичной и умной женщине. Гебель собиралась написать собственные воспоминания о тех событиях, и они вполне могли бы войти в книгу, которую писала Инге Шолль. Стефани не сомневалась, что Шолль обрадовалась бы, если бы Гебель смогла поговорить с Джейн.
Софи Шолль призналась тогда Эльзе, что всегда была уверена: если ее поймают за распространением листовок или за выведением краской слова «Свобода!» на мюнхенских стенах, это будет стоить ей жизни. После первого ночного допроса она вернулась в камеру, тихая и спокойная. Когда ей предложили дать признание в том, что ошибалась в своих взглядах на национал-социализм, она отказалась. Ошибались, заявила она, те, кто ее арестовал. Но узнав, что Кристоф Пробст также оказался в застенках, она пала духом. У него было трое маленьких детей. Потом она вновь взяла себя в руки, обретя опору в религиозной вере и убежденности в правоте их дела. Она убедила себя, что вторжение сил союзников не за горами – и тогда война закончится в считаные недели. Она осталась убеждена в том, что национал-социализм – это зло, и считала, что если Гансу, ее брату, суждено умереть, то и она тоже умрет. На заседаниях «народного суда» она сохраняла спокойствие. После вынесения приговора ее перевели в Штадельхаймскую тюрьму, куда также отправили ее брата и Пробста. Перед казнью Шоллям позволили повидаться с родителями.
Все, что Джейн услышала во время этого и других интервью, должно было оформиться в легенду. «Белая роза» стала хрестоматийным материалом школьных учебников истории, сюжетом плохих стихотворений, темой сентиментальных рассуждений о святом долге, драматических кинолент и назидательных детских книжек, а также бесконечных научных штудий и лавины докторских диссертаций. История «Белой розы» стала преданием, в котором послевоенная Германия нуждалась как в основополагающем нарративе нового федеративного государства. Она стала сверкающим мифом, настолько удачно освоенным и с энтузиазмом подхваченным официозной пропагандой, что в последующие годы она должна была неминуемо провоцировать цинические усмешки или того хуже. А разве Ганс Шолль не был когда-то звеньевым в гитлерюгенде? А разве ваш обожаемый музыковед профессор Пробст не был антисемитом и разве влияние этих его настроений не просматривается в тексте второй листовки, где содержится вот такая любопытная оговорка: «вне зависимости от того, какую позицию мы занимаем в еврейском вопросе»? Многие немецкие левые осуждали Губера, традиционного консерватора, за то, что он, как и нацисты, был «антибольшевиком». Другие не могли понять, чем эти молодые христиане отличаются от прочих. Только военная мощь Соединенных Штатов и Советской России могла разгромить нацизм.
Но Джейн была убеждена, что для всякого, кто прочитает историю сопротивления одиночек, сражавшихся, покуда страна лежала в руинах, а половина населения голодала, и каждый немец только начал пробуждаться от ночного кошмара, в который все немцы, или почти все, внесли свою лепту, станет вдохновляющим откровением, началом покаяния. И она оказалась в нужное время в нужном месте, готовая написать и опубликовать первый подробный рассказ об этом сопротивлении.
В течение недели она поговорила с десятком людей, в той или иной мере имевших отношение к интересующей ее организации. Ей повезло получить получасовую аудиенцию с Фальком Гарнаком, который в то время случайно оказался в Мюнхене. В прежние годы он был директором Национального театра в Веймаре. Он был связан с многочисленными и разобщенными группами немецкого Сопротивления. Именно он в свое время договорился о встрече Ганса Шолля с берлинской группой противников режима. Но так вышло, что обговоренная заранее дата встречи оказалась днем казни Ганса. Разные источники рассказали Джейн о знаменитом официальном мероприятии, состоявшемся в Мюнхенском университете, когда перед собранием студентов, среди которых были и ветераны войны – инвалиды, выступил один из руководителей национал-социалистической партии гауляйтер Пауль Гизлер. В соответствии со своей линией пассивного сопротивления Шолли уклонились от участия в этой встрече. В напыщенной и язвительной речи Гизлер призвал немецких студенток беременеть ради фатерлянда. В этом, провозгласил он, заключается их патриотический долг. А женщин, кто «недостаточно привлекателен, чтобы найти себе партнера», он пообещал познакомить со своими адъютантами. Студенты встретили его речь громким улюлюканьем, топотом ног и свистом и покинули аудиторию – это было неслыханное выражение протеста против партии. Как выяснилось, «Белая роза» отнюдь не была такой уж одинокой. Джейн встретилась с Катариной Шюддекопф, а потом коротко пересеклась и с Гизелой Шертлинг, подружкой Ганса Шолля – так Джейн максимально сблизилась с ядром группы. Катарина показала ей фотографии Шоллей, Графа и Пробста. И Шюддекопф, и Шертлинг – обе отсидели в тюрьме за политическое инакомыслие.
Теперь у Джейн набралось достаточно фактического материала о шести главных активистах движения, включая профессора Губера. Вечером накануне ее двух последних интервью она написала первый абзац будущей статьи для «Хорайзона». Наутро она снова отправилась в Швабинг, на этот раз чтобы встретиться со старшекурсником факультета права Мюнхенского университета Генрихом Эберхардтом. Это благодаря его энтузиазму стены мюнхенских домов были покрыты надписями «Долой Гитлера!» и «Свобода!», и это он отправился в Штутгарт и другие города Германии, где распространял четвертую, пятую и шестую листовки. Несколькими годами ранее, когда служил во Франции, он был ранен в ногу крупнокалиберной пулей, признан «годным к нестроевой» и получил длинный отпуск для продолжения учебы. В группе он познакомился с разными людьми, но так и не стал полноценным членом движения. Он был знаком с Лео Самбергером, одним из молодых юристов, с ужасом и стыдом наблюдавших за ходом процесса над Шоллями и Пробстом. Джейн сочла, что с ним будет интересно побеседовать.
Как всегда пунктуальная, Джейн приехала на встречу ровно в десять. Комната Генриха на первом этаже общежития, что показалось ей необычным, была просторная, со вкусом обставленная и хорошо освещенная благодаря застекленной двери, что вела в садик. Когда он ее поприветствовал, Джейн слегка вздрогнула, узнав его. У нее возникло ощущение, будто все ее прошлые знакомства были всего лишь подготовкой к этой встрече. Иначе говоря, это ощущение несколько исказило и обмануло уже сложившиеся у нее суждения. Высокий молодой парень с тихим голосом и легкой хромотой, который пожал ей руку и жестом пригласил присесть на стул, был словно двойник Шолля, Пробста, Шморелла и Графа, вместе взятых. Подобно им всем, он держал в руке трубку, но сейчас незажженную. Она отметила в нем энергичность и привлекательность Ганса, открытый честный взгляд Кристофа, изящество Алекса и мечтательное глубокомыслие Вилли – вкупе с зачесанной назад, как у него, гривой темных волос. Джейн сделала мгновенный вывод: Генрих был олицетворением «Белой розы». Даже в тот волнующий момент она отдавала себе отчет в том, что находится в странном, возможно, полубредовом состоянии, но ей было все равно. Она была очарована им. У нее немного тряслись руки, когда она присела на стул и вытащила из сумки записную книжку. Важным тоном, за которым, подумала она, скрывалась его добродушная ирония, он похвалил ее блестящий немецкий. А когда он встал со стула и пересек комнату, чтобы сварить ей чашку своего жуткого кофе, она заметила на его письменном столе открытые книги по правоведению и фотоснимок в рамке – как она предположила, его родителей. И ни малейшего признака подруги. Она взяла кофе, изо всех сил стараясь держать ее так, чтобы чашка не дребезжала о блюдце. Она терпеливо отвечала на его вежливые вопросы о ее путешествии из Англии, об обстановке в Париже и в Лондоне, о карточках на питание. Она из всех сил старалась произвести на него хорошее впечатление.
После обмена учтивыми репликами Джейн аккуратно вывела разговор к теме суда. Что узнал Генрих от своего друга Самбергера? Теперь, когда их беседа плавно перетекла к сопротивлению, Генриха больше заинтересовало обсуждение других групп, с которыми контактировала «Белая роза». Сам он был родом из Гамбурга, города, имевшего славную традицию враждебного отношения к Гитлеру. Ганс Шолль навел там контакты с радикалами, которых интересовали диверсии в стиле французского Сопротивления. Они даже предприняли попытку раздобыть нитроглицерин. Еще они установили связи с ячейками во Фрайбурге и Бонне. Штутгарт был отдельный случай. И, наконец, была еще берлинская группа, находившаяся под непосредственным влиянием «Белой розы». Он говорил тихим спокойным голосом, и ей нравилось его звучание. Но его рассказ о многочисленных антинацистских группах в разных уголках Германии вызвал у нее глухой протест. Он только все усложнял. И она с досадой думала о том, что не сможет втиснуть в 5 тысяч слов все подробности о разрозненных и малоэффективных группах сопротивления, особенно тех, что возникли после Сталинградской битвы и нескончаемых бомбежек рейнских городов. Ей хотелось узнать как можно больше только о «Белой розе». Она же была связана этой узкой темой. Почему же Генрих настойчиво уходил от нее? Она упрямо задавала ему наводящие вопросы, и он наконец начал выкладывать ей все, что узнал от своего друга и прочих людей. Его голос стал еще тише и каким-то монотонным. Джейн даже подалась вперед, чтобы лучше его слышать. Ее дневники изобиловали обрывками тюремных и судебных слухов, среди которых попадалось немало сведений из третьих рук, и все это было записано не свойственным ей меленьким почерком, похожим на паучью вязь. От сильных переживаний, наверное, ее рука местами дрожала. Все, буквально все, даже тюремные охранники, даже следователь гестапо Роберт Мор, отмечали, с каким спокойствием и достоинством держались осужденные. Мор был поражен, сколь смиренно восприняла Софи Шолль грядущую смерть. Прощальные письма семье и друзьям, которые Гансу, Софи и Кристофу посоветовали написать, не были доставлены. Вместо этого нацистские власти убрали их в архив. На суде родители Шоллей пришли лишь на самое последнее заседание. Мать упала в обморок, потом очнулась. Судья Фрайслер был известен своими безжалостными приговорами. В его глазах подсудимые умерли еще задолго до начала суда. И когда огласили приговор, Софи отказалась сделать традиционное заявление. Ганс попытался выступить в защиту Кристофа, отца троих детей, в том числе новорожденного. Но Фрайслер оборвал его на полуслове.
Для приведения смертного приговора в исполнение осужденных перевезли в Штадельхаймскую тюрьму на окраине Мюнхена. Охрана немного смягчила правила и позволила Шоллям увидеться с родителями. Жена Пробста все еще лежала в больнице, ослабев от полученной во время родов инфекции. Софи была необычайно красива. Она немного поела сладостей, которые принесла им мать и от которых отказался Ганс. Софи вызвали первой, и она безропотно удалилась. А когда настал черед Ганса, он положил голову на плаху и выкрикнул что-то о свободе – но тут описания расходились.
Генрих замолчал. Он, видимо, заметил, как у Джейн на глаза навернулись слезы. Потом он сообщил, может быть, чтобы ее утешить, что судья Фрайслер погиб при бомбежке.
А потом он сделал добрый жест, который изменил жизни их обоих. Генрих перегнулся через стол и накрыл руку Джейн своей. Отвечая на его ласку, через несколько секунд она повернула ладонь вверх, и их пальцы переплелись. Они слегка пожали друг другу руки. То, что произошло потом, не описано в ее дневнике, но Джейн заметила, что вышла из комнаты Генриха часов в девять вечера. То есть одиннадцать часов спустя. А на следующее утро она написала записку коллеге Курта Губера с извинениями за то, что не пришла на свое последнее интервью.
Джейн не была профессиональной журналисткой. Если в своих изысканиях она оказалась чересчур близка к теме, то сейчас она погрузилась в нее целиком, если не сказать утонула в ней. И какая разница, увлеклась ли она Генрихом или «Белой розой». Охваченной половодьем сильных чувств, она и сама не могла толком этого понять. Ей нужно было и то и другое. Ее слезы, заставившие его положить свою руку на ее руку, были вызваны тем, что она вообразила, как легко сам Генрих мог бы оказаться на плахе. И его обаяние, ум, доброта и отвага могли быть уничтожены одним ударом лезвия.
В течение недели она переехала из своего номерка в пансионе в комнату Генриха в Швабинге. Наступили холодные осенние вечера, но у него в комнате ей было теплее, чем где бы то ни было в Лондоне. Ее жизнь так стремительно поменялась! Она даже подумать не могла, какая же она импульсивная! Днем и ночью они не расставались ни на миг. Генрих отложил подготовку к экзамену по праву. У Джейн не было времени писать статью. Но она не беспокоилась, потому что, когда они бродили по городу, она все равно искала материал о «Белой розе». Генрих показал ей, где жил Ганс Шолль в то время, когда дом принадлежал Карлу Муту, и где члены группы частенько встречались со своими друзьями. Именно там Генрих познакомился с Вилли Графом и Шоллями.
Вместе они пошли к Штадельхаймской тюрьме и на Перлахское кладбище неподалеку, но могил найти не смогли. Возможно, они не там искали. Или же местные власти во времена гауляйтера Гизлера не хотели потакать почитанию казненных мучеников.
Однажды вечером, вскоре после того как она к нему переехала, Генри показал Джейн свое самое ценное сокровище. Оно лежало под стопкой книг, завернутое в траченные молью занавески, между старыми листами картона. Он прятал его всю войну. Это было первое издание альманаха «Синий всадник», опубликованного в 1912 году, своеобразный манифест группы художников-экспрессионистов, работавших в Мюнхене и в его пригородах незадолго до Первой мировой войны. Национал-социалисты считали их искусство «дегенеративным» и подвергли запрету, их картины конфисковывали и распродавали, уничтожали или прятали. Очень скоро, уверял Генрих, когда полотна Кандинского, Марка, Мюнтер, Веревкиной, Макке и многих других вновь вернутся на стены картинных галерей, это издание будет стоит кучу денег. Это был подарок ему на двадцатилетие от зажиточного дядюшки, любившего современное искусство и утратившего почти всю свою коллекцию. С тех пор для Джейн и Генриха «Синий всадник» стал общим любимым увлечением. От розы к всаднику, от белого к синему, от войны к миру – мощное движение, радостно совершавшееся вместе. У Генриха еще был альбом репродукций, датируемый концом 20-х годов, и хотя почти все иллюстрации в нем были черно-белые, Джейн начала разделять его тягу к, как он говорил, «нерепрезентативному цвету».
В необычно теплый для середины октября день они выехали из Мюнхена на позаимствованном у знакомых стареньком мотоцикле и, проехав шестьдесят километров в южном направлении, оказались в городке Мурнау. Это была их дань уважения. Влюбленная пара Василий Кандинский и Габриэла Мюнтер приехали сюда в 1911 году и были очарованы этим местом. Они сняли дом, который впоследствии стал центром группы «Синий всадник». Они утверждали, что и сам городок, и его окрестности послужили для них мощным стимулом к творчеству. Джейн и Генрих тоже были очарованы, бродя по узким улочкам. Возможно, они смотрели на яркие осенние цвета окружающих деревьев и лугов глазами Габриэлы Мюнтер. Как они слышали, у нее до сих пор был свой дом в Мурнау. Много позднее они узнали, что, как и Генрих, она прятала от национал-социалистских властей работы «Синего всадника», но гораздо более обширную коллекцию, в том числе и несколько полотен Кандинского. И так случилось, что когда в январе 1947 года Джейн уже была беременна и они тихо поженились в том же месяце, ими бесповоротно овладела захватывающая идея поселиться в Мурнау. Они сняли там дом и весной переехали.
К тому времени, как они распаковывали вещи и обживали свое трехэтажное шале, Джейн смирилась с тем фактом, что ей никогда не закончить статью о «Белой розе». Она была влюблена, на уже видимой стадии беременности и мысленно свыкалась с новой жизнью. Генрих нашел работу в конторе местного стряпчего, занимавшегося оформлением купли-продажи сельскохозяйственных земель. Она была поглощена обустройством комнаты для будущего ребенка. Обуреваемая чувством вины и написав массу черновиков, она наконец составила объяснительное письмо в редакцию «Хорайзона». Коннолли обошелся с ней так великодушно, что у нее не хватило духу написать ему лично. Поэтому она написала Соне Браунелл, сославшись на то, что в условиях разрухи и голода в Мюнхене оказалось просто невозможно найти что-то про «Белую розу». И она, конечно, не смогла признаться, что в результате поисков вышла замуж за одного из ее членов. По причинам, связанным со здоровьем, она не сможет заскочить в Ломбардию. И еще она пообещала со временем вернуть все выделенные ей на поездку деньги. Отправив письмо, она успокоилась. Но почувствовала угрызения совести, когда в конце года вышла книга Инги Шолль. А ведь ее статья могла быть напечатана первой. Но она не сомневалась, что книга Шолль написана лучше, с большим знанием подробностей и более эмоционально, и потому ее появление имело больше оснований, чем публикация ее статьи, если бы она смогла ее дописать. И тем не менее горькое сожаление преследовало потом ее всю жизнь. Генрих постепенно уходил в себя, как бы замыкался в своей раковине – он никогда не делал вид, что считает себя ровней Шоллю, Пробсту или Графу. Он стал мелким провинциальным стряпчим, ревностным верующим, человеком здравых и твердых убеждений и активным участником деятельности местного отделения ХДС.
Джейн связала свою судьбу с домом. Очень скоро все их милые соседи сошлись во мнении, что ее немецкий, ее певучий баварский говор, почти безукоризнен. Она так и не поступила в университет по примеру своего брата, не стала известной писательницей, не пересекла Альпы, чтобы собрать секреты классического оссо буко и поделиться ими с мало что смыслящими в кулинарии англичанами. Только после того, как они с Генрихом в 1955 году переехали на север, она начала свыкаться с мыслью, что ей уготована тихая жизнь и скучный брак. Тот самый дядюшка, который когда-то подарил Генриху альманах «Синий всадник», оставил ему по завещанию дом в Либенау близ Нинбурга. Джейн предпочла бы остаться в Мурнау, но перед перспективой жить в доме, не платя за него аренду, как сказал Генрих, устоять было невозможно. И, переехав в Либенау, они уже больше не снимались с места. По медицинским показаниям, которые Джейн никогда не разъясняла, она больше не могла иметь детей. В 1951 году Генрих защитил диссертацию по правоведению в Мюнхенском университете и со временем стал партнером в юридической фирме в Нинбурге. Джейн не замечала, как у нее постепенно вошло в привычку послушно исполнять любые прихоти мужа. А он, в свою очередь, не замечал развившуюся у него манеру диктовать свою волю и неосознаваемую уверенность, что ее дело – прислуживать ему в доме. Люди, хорошо знавшие Джейн, иногда наблюдали в ее поведении вспышки резкости, даже раздражения или разочарования. Много лет спустя, рассказывая зятю за ужином о так и не состоявшейся поездке в сельские районы Северной Италии, она насмешливо воскликнула: «А ведь я могла бы стать Элизабет Дэвид!»[26 - Британская писательница-кулинар (1913–1992), автор многих книг рецептов для домашней кухни.]
Но это было в далеком будущем. Судя по финальной записи в ее последнем дневнике, она тем летом 1947 года пребывала в состоянии блаженства. Она наводила красоту и уют в комнатах их нового дома, поставила горшки с травянистыми растениями у кухонной двери, посадила овощи на грядках и устроила цветники в саду, а по выходным плавала в тихих водах Штаффельзее вместе со своим молодым мужем-красавцем Генрихом Эберхардтом, оказавшимся среди миллионов немцев одним из сотен смельчаков, которые сопротивлялись нацистской тирании.
Иногда семейная пара наблюдала издалека, как семидесятилетняя Габриэла Мюнтер идет по улице. Только один раз, после довольно нервной дискуссии, они решились к ней подойти. Она стояла в одиночестве перед мясной лавкой. Они поблагодарили художницу за ее искусство, которое не только доставило им огромную радость, но и привлекло их в прекрасный Мурнау. Она пробормотала несколько слов и заторопилась прочь, но они восприняли ее милую улыбку как своего рода благословение. В те солнечные месяцы Джейн печалилась о своих заброшенных проектах гораздо меньше, чем потом, когда она слишком сильно об этом переживала. Ей было «куда радостнее, чем стоило бы, находиться в стране», разбитой и обнищавшей из-за катастрофической войны, и впереди ее ожидало еще больше радостей. На этой восторженной ноте дневник обрывался. В октябре того же года родилась Алиса.
Два дня спустя они оба прочли мюнхенские дневники от начала до конца. Перед обедом они пошли прогуляться по Либенау, вдоль набережной Гросе-Ауэ до замка. Алиса пребывала в возбужденном состоянии, не в силах забыть прочитанное, которое ее немного смутило, если не сказать покоробило. Почему мать никогда не упоминала об этих дневниках? Почему она дала их прочитать Роланду, а не ей? Джейн следует их опубликовать. Но она не посмеет. Генрих никогда ей этого не позволит. Внутри семьи «Белая роза» была его собственностью, хотя помимо него было еще немало уцелевших. Он давал интервью нескольким ученым, историкам, журналистам. Он не был важным деятелем движения и никогда не делал вид, что был. С ним консультировались, когда решили поставить фильм о тех событиях. Но увидев, что получилось в итоге, он был крайне разочарован. Им не удалось отобразить реальные события и реальных людей. «Шолли, Ганс и Софи, они были совсем не такие, они и выглядели совершенно иначе!» Он так сказал, хотя и признался, что едва был с ними знаком. Газетные статьи, научные эссе, книги, которые стали затем выходить, его также не радовали. «Их там не было, откуда им знать. Страх! Теперь это все стало историей – это уже не настоящее. Все это только слова. Они не понимают, как молоды мы были. Им не понять наших чувств тогда. Сегодняшние журналисты все сплошь атеисты. Они не желают вникать в то, насколько сильна была в нас религиозная вера».
Ни одно описание «Белой розы» его не удовлетворяло. И дело было не в точности деталей. Ему было больно сознавать – то, что для них было живым переживанием, теперь превратилось в голую идею, в туманное представление, возникшее в сознании чужих людей. Ничто не могло соответствовать его воспоминаниям. Даже если дневники его жены и были способны вновь оживить далекое прошлое, они грозили отвести ему неправильную роль в тех событиях – так считала Алиса, и Роланд полагал, что она права. Ее отец был упрямец с допотопными взглядами. Как это так? Джейн – независимая женщина, колесившая по Франции и Германии и занимавшаяся сексом с первыми встречными! Опубликовать дневники, пускай даже в маленьком частном издательстве, – это просто немыслимо! Джейн никогда не пошла бы наперекор его воле. Она сделала лишь одну мятежную уступку – разрешила дочери и Роланду тайком сделать фотокопию дневников и взять их с собой в Лондон. Тоже своего рода публикация. Накануне отъезда они нашли типографию в Нинбурге и провели там целый день, дожидаясь, пока медленная, то и дело запинавшаяся машина снимет копии со всех страниц дневников. Они спрятали получившиеся 590 страниц в пакете для покупок. Когда они возвращались по набережной с этим пакетом, Алиса рассказывала Роланду об отце. Это был семидесятилетний добряк, с устоявшимися консервативными взглядами. Его воспоминания о движении «Белая роза» и его мнение о нем были непоколебимыми. И он не хотел их усложнять. Что же до орального секса – при мысли об отце, набожном и правоверном христианине, читающем об энергичных упражнениях какого-то лейтенанта сорок лет назад, Алиса разразилась таким безудержным хохотом, что ей пришлось даже привалиться к дереву.
Роланд вспомнил про их прогулку по Либенау, когда поднял с кухонного стола открытку и пошел наверх принять душ. Да, в то лето 1984 года, после того как Алиса прочитала дневники матери, у нее возникло странное, быстро менявшееся настроение. Поначалу они подробно обсуждали дневники, а потом тема сама собой забылась. Зимой они переехали в Клэпхем[24 - Район в юго-западной части Лондона.], вот-вот должен был родиться ребенок, Дафна и Питер ожидали своего третьего, и оба, предвкушая пополнение семейства, тогда много общались – повседневные заботы заставили их позабыть обо всем постороннем. А полузабытая фотокопия дневников была завернута в газету и убрана в ящик комода в спальне.
Подойдя к лестнице, он остановился и прислушался. Лоуренс не издавал ни звука. В спальне он сунул грязную одежду в корзину для грязного белья. Радиоактивная одежда, собравшая всю чернобыльскую пыль. Он почти уже верил в это. Он стоял в ванне под кое-как закрепленной лейкой душа, которая свисала из голой стены, и смывал с себя грязь. Воспоминания имеют короткий период полураспада. Когда они спешили по улочкам Либенау, чтобы не опоздать к ужину, он подумал, что эти дневники могут заставить Алису по-новому взглянуть на мать, больше ее любить, что ли, испытывать меньше желания с ней ссориться. Но произошло прямо противоположное. В последний день они буквально не могли находиться рядом. Словно надоевшая друг другу старая семейная пара, упустившая шанс вовремя расстаться, они то и дело обменивались колкостями. Шестидесятичетырехлетняя Джейн обращалась со своей дочкой как с соперницей, которую требовалось поставить на место. Стоило им вернуться с прогулки, как Алиса затеяла с матерью ссору из-за назначенного времени ужина. А сидя за столом, они принялись с жаром спорить по поводу политики Христианско-демократического и Erziehungsgeld – предложенного Гельмутом Колем законопроекта о пособиях по уходу за детьми. Ссора завершилась только после того, как Генрих, сжав кулак, стукнул им по столу. А сидя в саду, они стали цапаться из-за череды мероприятий во время детского семейного праздника в голландской рыбацкой деревне Хинделоопен. Когда Роланд, ложась в тот же вечер в постель, спросил у Алисы, какая кошка пробежала между ней и матерью, она ответила:
– Это наши обычные отношения. Я хочу домой.
А потом он проснулся среди ночи и увидел, как она плачет. Что было необычно. Она не сказала ему, в чем причина. Она уснула у него на локте, а он лежал на спине и размышлял о молодой Джейн Фармер и о поразивших ее впечатлениях от поездки в Мюнхен.
* * *
Лейтенант Шифф ее предупредил. Она хоть и следила за развитием военных действий, но пропустила сообщения о семидесяти крупных авианалетах на город. Она вылезла из джипа на перекрестке близ развалин бывшего центрального вокзала. Мюнхен лежал в руинах. И она чувствовала свою «личную ответственность». Смехотворное чувство, подумал Роланд. Город выглядел ужасно, писала она в дневнике, как Берлин. «Это куда страшнее, чем бомбежки Лондона». Наконец она подарила Бернарду прощальный поцелуй, не дав ему фальшивых обещаний, что они когда-нибудь еще увидятся. У него была жена и трое детей в Миннесоте, и он показывал ей фотографии своего счастливого семейства. Он укатил, а она подхватила чемодан и сжала в свободной руке «Бедекер» издания 20-х годов. Встав в теньке, раскрыла путеводитель и стала разглядывать складную карту города. Но она не могла понять, где находится: на улицах не было вывесок. Вокруг нее простиралась каменная пустыня, было, к несчастью, очень жарко. На дорогах из-под колес редких машин – в основном американских военных грузовиков – вздымались облака кирпичной пыли, взвесью висевшие в неподвижном воздухе. Все здания, возле которых она остановилась, были без крыш. А окна зияли «огромными дырами в форме неровных прямоугольников». Шестнадцать месяцев спустя после окончания войны щебенку и мусор сгребли в «аккуратные горы». Она с удивлением заметила неспешно скользивший по улице старенький трамвай с пассажирами. На улице было немало людей, поэтому она убрала карту и воспользовалась школьными знаниями немецкого. Ее акцент не вызвал у пешеходов враждебности. Впрочем, и особой доброжелательности они не проявили. Через час, едва не заблудившись из-за неверных или плохо ею понятых указаний, куда идти, она нашла нужный дом – пансион близ Гизела-штрассе, рядом с университетом и неподалеку от Английского сада.
Она была удивлена – как все время удивлялась, колеся по Франции, тому, что есть отели и специально обученные люди, которые меняли постельное белье и готовили еду из того, что можно было найти в продаже. Быстро же после разрушительной войны все вернулось к нормальной жизни. В других местах с едой были перебои. Сгоревшие танки на обочинах шоссе были привычной подробностью пейзажей. Везде валялся оставшийся после войны мусор. В одной французской деревушке она видела лежавшее поперек мостовой почерневшее крыло сбитого истребителя. По непонятным ей причинам никто не собирался его убирать. Шоссейные дороги и уцелевшие железнодорожные вокзалы были забиты толпами людей, лишенных всего, уцелевших евреев из концлагерей, бывших солдат и военнопленных, беженцев из советской зоны оккупации. Десятки тысяч были заключены в фильтрационные лагеря. Повсюду она видела «бездомных, грязь, голод, горе и ожесточение».
Две трети города лежало в руинах. Но были здесь и укромные уголки, где сохранилась нормальная жизнь и куда не упала ни одна бомба. Ее крошечный номер на четвертом этаже был покрыт пылью и пропах влажной затхлостью, но на кровати лежало пухлое стеганое одеяло – что в ту пору казалось заезжей англичанке настоящей экзотикой. Стоя у окна и глядя туда, где, по ее предположению, протекала река, она могла «почти убедить себя, что недавнего безумия никогда не было». Этот пансион, насколько она могла судить, был полностью заселен американскими офицерами и сотрудниками гражданской администрации. Спускаясь по лестнице из своего номера, она слышала из-за закрытых дверей перестук пишущих машинок. Над лестничными пролетами висел густой аромат табачного дыма.
На следующее утро она совершила короткую прогулку до главного здания университета на Людвиг-штрассе. Там ее направили на второй этаж. Она прошла по длинному коридору с колоннадой, наполненному студентами. Еще более неожиданный признак нормальной жизни. Она остановилась перед кабинетом администрации, чтобы еще раз мысленно пробежаться по своему запасу немецких слов. В прямоугольном зале с высокими окнами она увидела не меньше десятка то ли секретарей, то ли делопроизводителей. Но сколько она ни искала глазами стол приема посетителей, не нашла, и тогда она, не обращаясь ни к кому конкретно, громко произнесла по-немецки заученную из учебника фразу. Все головы повернулись к ней.
– Entschuldigung. Guten Morgen![25 - Прошу прощения. Доброе утро! (нем.)]
И далее она пояснила, что пишет статью о движении «Белая роза» для известного лондонского журнала. Может ли кто-нибудь помочь ей найти людей, к кому она могла бы обратиться? Она была готова к не слишком дружелюбной реакции. Шесть главных членов движения, Ганс и Софи Шолль, трое друзей-студентов и один профессор были приговорены к смерти и казнены на гильотине. Затем последовали и другие казни. Когда новость об этом распространилась по городу, две тысячи студентов собрались на митинг и шумно одобрили эти казни. Предатели. Коммунистические выродки. А что будет сейчас? Еще слишком мало времени прошло, да и это было настолько позорно, что, возможно, они едва ли готовы как-то выразить свои чувства помимо смущенного молчания. Но вопреки ее ожиданиям раздались одобрительные возгласы. Две машинистки встали из-за столов и, улыбаясь, устремились к ней.
Три года назад эти сотрудники университетской администрации вполне могли бы с негодованием сплюнуть при одном только упоминании о «Белой розе». В новой ситуации Мюнхенский университет решил отождествить себя с мятежной группой, выразить чувство гордости ее мужеством и четкой моральной позицией. Никакая другая колыбель немецкой науки не могла бы похвастаться таким количеством мучеников. Шолли, Алекс Шморель, Вилли Граф, Кристоф Пробст, профессор Курт Губер были славными мюнхенцами. Перед лицом всеобъемлющей и жестокой государственной власти их сопротивление имело сугубо интеллектуальную направленность. «Эти дети были так юны, так отважны!» Кто мог бы пытаться разубедить администрацию университета, включая ее низших сотрудников, в том, что эти борцы символизировали возврат храма науки к своему истинному предназначению? Свободомыслие! «А ведь некогда, – писала Джейн в дневнике, – это был университет, связанный с именами Макса Вебера и Томаса Манна, – и вот он вновь стал таким!»
Первой к ней подошла толстушка лет шестидесяти в очках, которые увеличивали ее глаза и придавали сходство с «добродушной лягушкой». Она взяла Джейн за локоть и развернула к шкафу с документами. Потом достала оттуда тонкую пачку фотокопий и передала ей:
– Hier ist alles, was Sie wissen m?ssen.
«Здесь все, что вам нужно знать».
Это были копии шести брошюр «Белой розы» объемом меньше двух страничек каждая, которые через Швейцарию и Швецию доставлялись в Лондон. Там их размножали на копировальных машинах миллионными тиражами и сбрасывали с английских военных самолетов по всей Германии. Джейн ничего этого не знала и оттого чувствовала себя дурой. Она-то считала листовки редкостью, думая, что они все давным-давно собраны и уничтожены гестапо. Об этом наверняка знали Маггеридж и его знакомые. Скорее всего, все в редакции «Хорайзона» знали об этом и полагали, что и она тоже знает.
Другие сотрудники Мюнхенского университета написали ей имена и адреса. При этом возникали мелкие разногласия. Она слышала, как кто-то восклицал вполголоса: «Да она там больше не живет!» и «Он врет. Ни в чем он не участвовал!». Было названо имя сестры казненных – Инга Шолль. Она, вероятно, живет в семейном доме в Ульме. Нет, возразил кто-то, она в Мюнхене. Ходили слухи, что она пишет мемуары. Она долго сидела в концлагере и все еще приходила в себя. Возможно, она не захочет об этом говорить, уверяли одни. Нет, захочет, настаивали другие. В этой перепалке не чувствовалось враждебности. Общим настроением, по оценке Джейн, были энтузиазм и гордость.
В университетской администрации она провела час. За это время она не переставала волноваться, что войдет начальник и выразит свое недовольство суматохой, которую вызвала просьба Джейн. Но начальник уже находился в комнате. Это был «лохматый мужчина в темном костюме, который был ему велик на два размера». Именно он и объяснил ей, в какой последовательности следует читать копии листовок – первые четыре были напечатаны летом и осенью 1942 года и тайно распространены в Мюнхене и ближайших к нему городках. Последние две были написаны в начале следующего года после того, как Ганс Шолль, Пробст и Граф вернулись с Русского фронта, где служили санитарами. А самая последняя листовка появилась за день-два до того, как гестапо арестовало всю группу. Еще он обратил внимание Джейн на различия между пятой и шестой листовками.
Распрощавшись со всеми и поблагодарив за помощь, Джейн дала обещание прислать экземпляр журнала со своей статьей. На Людвиг-штрассе ею овладело нетерпение. Она остановилась на углу, вытащила скрепленные листки бумаги и прочитала первый заголовок: «Листовка «Белой розы». Ее немецкий был достаточно хорош, чтобы она смогла осилить первое предложение без словаря: «Ничто так не позорит цивилизованную нацию, как готовность без сопротивления позволить «управлять собой» клике авантюристов, оказавшейся во власти своих порочных инстинктов».
Она отвела полстраницы своего дневника впечатлениям от прочитанного. Роланд предположил, что она писала эти строки, уже прочитав все шесть брошюрок. «Ничто так не позорит цивилизованную нацию… Я словно читала перевод латинского текста, принадлежащего перу видного античного мыслителя… Это вводное заявление, выдержанное в столь возвышенном тоне, было написано современным человеком, студентом, всего-то двадцати с лишним лет, с жгучей страстью к интеллектуальной свободе и с безошибочным чувством бесценной художественной, философской и религиозной традиции, оказавшейся под угрозой уничтожения. Я ощутила восторг, это было потрясение сродни беспамятству… я словно влюбилась… Ганс Шолль, его сестра Софи и их друзья, чуть ли не единственные среди всех немцев, возвысили свои тишайшие голоса против тирании, не ради политики, но во имя самой цивилизации. И теперь они мертвы. Три года как мертвы, и я оплакивала их, стоя на углу Людвиг-штрассе. Мне так хотелось познакомиться с ними, так хотелось, чтобы они сейчас были со мной. Я шла обратно в отель, обуреваемая печалью, словно скорбя по своему погибшему возлюбленному».
Она не покидала номер, покуда не перечитала и не законспектировала все листовки. Как же это было опасно, какое мужество требовалось, чтобы назвать Третий рейх «духовной тюрьмой… механическим государственным аппаратом, в котором господствуют преступники и пьяницы» и утверждать, что «все слова, произнесенные Гитлером, являются ложью… Его рот – это зловонные врата ада». И все эти заявления были помещены в оправу научных идей прошлого. Гете, Шиллер, Аристотель, Лао-цзы. У нее возникло ощущение, будто она «делает упражнения по какому-то учебному предмету». Она вполне отдавала себе отчет в том, как близкое знакомство с авторами подобных текстов могло развить и обогатить любовь к свободе. Она вдруг почувствовала «злость, даже отвращение» к тому, что ее родители совершенно бездумно и потому, что она была девочкой, никогда не предлагали ей ту же привилегию, какой насладился ее брат, – получить университетское образование. Он все еще служил в армии – брат был капитаном Королевской артиллерии и участником славной войны. И она, сидя на кровати в своем крошечном номере мюнхенской гостиницы с видом на Английский сад, приняла решение, что как только вернется домой, как только отдаст статью в редакцию, то непременно поступит в университет. Будет изучать философию или литературу. А лучше и то и другое. Это будет ее личный акт… но чего именно? Сопротивления, уважения. Ее дань уважения «Белой розе». Она выписала отдельные фразы из листовок. «Самые вопиющие преступления» государства – это преступления, которые в массовом порядке попирают все стандарты человечности… Никогда не забывайте, что все граждане заслуживают того режима, с которым хотят ужиться… наше нынешнее государство – это диктатура зла». И из Аристотеля: «Деспот бесконечно предрасположен к разжиганию войн». В самом конце первой листовки, после двух величественных строк из «Пробуждения Эпименида» Гете, простая, проникнутая надеждой просьба тронула ее своим пафосом: «Пожалуйста, сделайте как можно больше копий этой листовки и распространите их».
«…После вторжения в Польшу 300 тысяч евреев было там уничтожено самым зверским образом». Ганс Шолль и его единомышленники страстно желали растормошить немецкий народ, избавить его от бездействия, от апатии «перед лицом этих отвратительных преступлений, преступлений, унижающих человеческий род… тупое безволие немецкого народа только поощряет всех этих фашистских преступников». Покуда они не предпримут решительных действий, никто не сможет снять с себя бремя вины, потому что каждый «виновен, виновен, виновен». Финальная фраза четвертой листовки: «Мы не будем молчать. Мы – твоя грешная совесть. «Белая роза» не оставит тебя в покое!» Но оставалась еще надежда, потому что еще не поздно: «Теперь, когда мы воочию увидели, что они такое, нашим первым и единственным долгом, святым долгом каждого немца должно стать уничтожение этих чудовищ!» В условиях тотальной и порочной власти государства единственная наша возможность – это «пассивное сопротивление». Тихий саботаж на фабриках, в лабораториях, в университетах и во всех сферах искусства. «Не жертвуйте средств на общественные нужды… Не участвуйте в сборе металлолома, тканей и тому подобных мероприятиях».
Тон последних двух листовок стал возвышенным. Эти брошюрки теперь назывались «Листовки Сопротивления» и «Борцы-собратья по Сопротивлению!». В пятой заявлялось, что после перевооружения Соединенных Штатов войне придет конец. Пора немецкому народу отречься от национал-социализма. Гитлер «ведет Германию в бездну. Гитлер не может выиграть войну, он может лишь ее продлить… Возмездие уже близко». «Верно, – строго заметила Джейн в своем дневнике, – но пока еще рано об этом говорить».
У оппозиционного движения «Белая роза», похоже, не было никакого политического проекта на будущее. Но потом в последней и самой короткой листовке, написанной в январе 1943 года, Джейн прочитала: «Только при широком сотрудничестве всех народов Европы можно проложить путь к возрождению… Германия завтрашнего дня будет федеративным государством».
Софи Шолль схватили, когда она распространяла эту шестую листовку в том самом университетском здании, где сегодня побывала Джейн. Вахтер заметил, как она разбрасывала листки из светового окна на крыше главного входа. Он донес на нее – и это был конец. К тому моменту немецкие войска получили отпор под Сталинградом. Там произошла кровопролитная битва беспрецедентных масштабов. И эта битва стала справедливо считаться переломным моментом в войне. «330 тысяч немцев были безжалостно отправлены на бессмысленную смерть и уничтожение благодаря блестящей стратегии, разработанной бывшим рядовым, сражавшимся на фронте Первой мировой войны. Спасибо тебе, фюрер!» В последнем абзаце последней листовки содержался обращенный к молодым немцам призыв восстать «во имя интеллектуальных и духовных ценностей… интеллектуальной свободы… высокой идейности». Немецкая молодежь должна «уничтожить своих угнетателей… и учредить новую Европу духа… Погибшие в Сталинграде молят нас действовать». И последняя пронзительная фраза: «Наш народ готов восстать против национал-социалистического порабощения Европы, охваченный энтузиазмом нового обретения свободы и чести». Этими словами, исполненными воодушевления и надежды, текст завершался. После произведенных арестов события завертелись очень быстро: состоялся показательный процесс с предрешенным финалом, после чего последовали и первые казни. Головы трех молодых людей, обладавших горячими сердцами и беспримерным мужеством, отсекли от их тел. Софи Шолль, самой юной из них, был всего двадцать один год.
Джейн полчаса лежала на кровати, в полном изнеможении и экзальтации. Она предалась, как было написано в ее дневнике, «приятному порыву самокритики». Сейчас ее собственная жизнь казалась ей мелкой и бесцельной. Позади громоздился бесформенный ворох недель. Она прожила эти годы войны словно в забытьи, печатая в министерском машбюро какие-то дурацкие письма. За все годы она ни разу не осмелилась совершить нечто запретное, помимо выкуренной тайком сигаретки в четырнадцатилетнем возрасте в роще рододендронов за школьным стадионом. Во время немецких бомбежек Лондона ей всегда везло, но разве это можно считать личным достижением? Она переживала тяготы войны вместе со всеми, как все. Она ни разу не встала на чью-то защиту, ни разу не рискнула жизнью ради идеи, ради принципа. И что теперь? Она не ответила на свой вопрос. «Голод дал о себе знать. Я не ела весь день». Но в тот вечер еды в гостиничном ресторанчике не оказалось. Она пошла бродить по университетскому кварталу в поисках недорогой забегаловки. «Я чувствовала себя по-другому, я становилась другим человеком. Я была готова начать новую жизнь». Наконец она нашла киоск, где купила «отвратительную сосиску на куске плесневелого хлеба. Сосиску спасла только горчица».
Логичным ответом на вопрос «И что теперь?» было еще раз пробежаться по списку людей, связанных с «Белой розой», написать статью и отправиться в Ломбардию. Среди руин Мюнхена жизнь показалась ей «вполне многообещающей». Она вообразила себя почетным членом группы Сопротивления. Она продолжит их работу, поможет построить новую Европу, о которой они мечтали. Тут мог быть ценен даже скромный вклад, такой, как желание облагородить британскую кухню, как она написала в игривом тоне, «описывая искусство оссо буко!». Спустя четверть века, узнав, что ее страна наконец-то присоединилась к европейскому проекту, она испытала восторг при мысли о том, что это соответствовало мечтам ее молодости. Между тем, находясь здесь, она в последующие десять дней посвятила себя попытке написания истории «Белой розы».
Ее первой ошибкой стало предположение, будто люди, с которыми МИ-6 посоветовала ей связаться, обладают некоей привилегированной информацией. Она обошла чуть ли не весь город со своим «Бедекером» под мышкой, да все без толку. Три наводки оказались бесполезными. В первом адресе значился многоквартирный дом начала века, и от него остались одни развалины. Вторым в списке оказался небольшой дом на узкой улочке в Швабинге, но там сейчас жила итальянская семья, и они ничего не знали. Третий дом, тоже в Швабинге, уцелел, но при взгляде на него стало понятно, что в нем уже много лет никто не жил. В хаосе войны, а потом в суматохе послевоенных месяцев никто не задерживался в одном месте надолго. Ей больше повезло с наводками, полученными в университете, хотя и тут многие имена и адреса никуда не привели. Первым ее успехом стала часовая беседа с подругой Эльзы Гебель – бывшей политической заключенной, участницей движения, занимавшейся учетом арестованных гестапо. Гебель тесно общалась с Софи Шолль в ее последние дни на свободе и даже провела с ней четыре дня в одной камере. Это были сведения, что называется, не из первых рук, но Джейн поверила своей собеседнице Стефани Руде, энергичной и умной женщине. Гебель собиралась написать собственные воспоминания о тех событиях, и они вполне могли бы войти в книгу, которую писала Инге Шолль. Стефани не сомневалась, что Шолль обрадовалась бы, если бы Гебель смогла поговорить с Джейн.
Софи Шолль призналась тогда Эльзе, что всегда была уверена: если ее поймают за распространением листовок или за выведением краской слова «Свобода!» на мюнхенских стенах, это будет стоить ей жизни. После первого ночного допроса она вернулась в камеру, тихая и спокойная. Когда ей предложили дать признание в том, что ошибалась в своих взглядах на национал-социализм, она отказалась. Ошибались, заявила она, те, кто ее арестовал. Но узнав, что Кристоф Пробст также оказался в застенках, она пала духом. У него было трое маленьких детей. Потом она вновь взяла себя в руки, обретя опору в религиозной вере и убежденности в правоте их дела. Она убедила себя, что вторжение сил союзников не за горами – и тогда война закончится в считаные недели. Она осталась убеждена в том, что национал-социализм – это зло, и считала, что если Гансу, ее брату, суждено умереть, то и она тоже умрет. На заседаниях «народного суда» она сохраняла спокойствие. После вынесения приговора ее перевели в Штадельхаймскую тюрьму, куда также отправили ее брата и Пробста. Перед казнью Шоллям позволили повидаться с родителями.
Все, что Джейн услышала во время этого и других интервью, должно было оформиться в легенду. «Белая роза» стала хрестоматийным материалом школьных учебников истории, сюжетом плохих стихотворений, темой сентиментальных рассуждений о святом долге, драматических кинолент и назидательных детских книжек, а также бесконечных научных штудий и лавины докторских диссертаций. История «Белой розы» стала преданием, в котором послевоенная Германия нуждалась как в основополагающем нарративе нового федеративного государства. Она стала сверкающим мифом, настолько удачно освоенным и с энтузиазмом подхваченным официозной пропагандой, что в последующие годы она должна была неминуемо провоцировать цинические усмешки или того хуже. А разве Ганс Шолль не был когда-то звеньевым в гитлерюгенде? А разве ваш обожаемый музыковед профессор Пробст не был антисемитом и разве влияние этих его настроений не просматривается в тексте второй листовки, где содержится вот такая любопытная оговорка: «вне зависимости от того, какую позицию мы занимаем в еврейском вопросе»? Многие немецкие левые осуждали Губера, традиционного консерватора, за то, что он, как и нацисты, был «антибольшевиком». Другие не могли понять, чем эти молодые христиане отличаются от прочих. Только военная мощь Соединенных Штатов и Советской России могла разгромить нацизм.
Но Джейн была убеждена, что для всякого, кто прочитает историю сопротивления одиночек, сражавшихся, покуда страна лежала в руинах, а половина населения голодала, и каждый немец только начал пробуждаться от ночного кошмара, в который все немцы, или почти все, внесли свою лепту, станет вдохновляющим откровением, началом покаяния. И она оказалась в нужное время в нужном месте, готовая написать и опубликовать первый подробный рассказ об этом сопротивлении.
В течение недели она поговорила с десятком людей, в той или иной мере имевших отношение к интересующей ее организации. Ей повезло получить получасовую аудиенцию с Фальком Гарнаком, который в то время случайно оказался в Мюнхене. В прежние годы он был директором Национального театра в Веймаре. Он был связан с многочисленными и разобщенными группами немецкого Сопротивления. Именно он в свое время договорился о встрече Ганса Шолля с берлинской группой противников режима. Но так вышло, что обговоренная заранее дата встречи оказалась днем казни Ганса. Разные источники рассказали Джейн о знаменитом официальном мероприятии, состоявшемся в Мюнхенском университете, когда перед собранием студентов, среди которых были и ветераны войны – инвалиды, выступил один из руководителей национал-социалистической партии гауляйтер Пауль Гизлер. В соответствии со своей линией пассивного сопротивления Шолли уклонились от участия в этой встрече. В напыщенной и язвительной речи Гизлер призвал немецких студенток беременеть ради фатерлянда. В этом, провозгласил он, заключается их патриотический долг. А женщин, кто «недостаточно привлекателен, чтобы найти себе партнера», он пообещал познакомить со своими адъютантами. Студенты встретили его речь громким улюлюканьем, топотом ног и свистом и покинули аудиторию – это было неслыханное выражение протеста против партии. Как выяснилось, «Белая роза» отнюдь не была такой уж одинокой. Джейн встретилась с Катариной Шюддекопф, а потом коротко пересеклась и с Гизелой Шертлинг, подружкой Ганса Шолля – так Джейн максимально сблизилась с ядром группы. Катарина показала ей фотографии Шоллей, Графа и Пробста. И Шюддекопф, и Шертлинг – обе отсидели в тюрьме за политическое инакомыслие.
Теперь у Джейн набралось достаточно фактического материала о шести главных активистах движения, включая профессора Губера. Вечером накануне ее двух последних интервью она написала первый абзац будущей статьи для «Хорайзона». Наутро она снова отправилась в Швабинг, на этот раз чтобы встретиться со старшекурсником факультета права Мюнхенского университета Генрихом Эберхардтом. Это благодаря его энтузиазму стены мюнхенских домов были покрыты надписями «Долой Гитлера!» и «Свобода!», и это он отправился в Штутгарт и другие города Германии, где распространял четвертую, пятую и шестую листовки. Несколькими годами ранее, когда служил во Франции, он был ранен в ногу крупнокалиберной пулей, признан «годным к нестроевой» и получил длинный отпуск для продолжения учебы. В группе он познакомился с разными людьми, но так и не стал полноценным членом движения. Он был знаком с Лео Самбергером, одним из молодых юристов, с ужасом и стыдом наблюдавших за ходом процесса над Шоллями и Пробстом. Джейн сочла, что с ним будет интересно побеседовать.
Как всегда пунктуальная, Джейн приехала на встречу ровно в десять. Комната Генриха на первом этаже общежития, что показалось ей необычным, была просторная, со вкусом обставленная и хорошо освещенная благодаря застекленной двери, что вела в садик. Когда он ее поприветствовал, Джейн слегка вздрогнула, узнав его. У нее возникло ощущение, будто все ее прошлые знакомства были всего лишь подготовкой к этой встрече. Иначе говоря, это ощущение несколько исказило и обмануло уже сложившиеся у нее суждения. Высокий молодой парень с тихим голосом и легкой хромотой, который пожал ей руку и жестом пригласил присесть на стул, был словно двойник Шолля, Пробста, Шморелла и Графа, вместе взятых. Подобно им всем, он держал в руке трубку, но сейчас незажженную. Она отметила в нем энергичность и привлекательность Ганса, открытый честный взгляд Кристофа, изящество Алекса и мечтательное глубокомыслие Вилли – вкупе с зачесанной назад, как у него, гривой темных волос. Джейн сделала мгновенный вывод: Генрих был олицетворением «Белой розы». Даже в тот волнующий момент она отдавала себе отчет в том, что находится в странном, возможно, полубредовом состоянии, но ей было все равно. Она была очарована им. У нее немного тряслись руки, когда она присела на стул и вытащила из сумки записную книжку. Важным тоном, за которым, подумала она, скрывалась его добродушная ирония, он похвалил ее блестящий немецкий. А когда он встал со стула и пересек комнату, чтобы сварить ей чашку своего жуткого кофе, она заметила на его письменном столе открытые книги по правоведению и фотоснимок в рамке – как она предположила, его родителей. И ни малейшего признака подруги. Она взяла кофе, изо всех сил стараясь держать ее так, чтобы чашка не дребезжала о блюдце. Она терпеливо отвечала на его вежливые вопросы о ее путешествии из Англии, об обстановке в Париже и в Лондоне, о карточках на питание. Она из всех сил старалась произвести на него хорошее впечатление.
После обмена учтивыми репликами Джейн аккуратно вывела разговор к теме суда. Что узнал Генрих от своего друга Самбергера? Теперь, когда их беседа плавно перетекла к сопротивлению, Генриха больше заинтересовало обсуждение других групп, с которыми контактировала «Белая роза». Сам он был родом из Гамбурга, города, имевшего славную традицию враждебного отношения к Гитлеру. Ганс Шолль навел там контакты с радикалами, которых интересовали диверсии в стиле французского Сопротивления. Они даже предприняли попытку раздобыть нитроглицерин. Еще они установили связи с ячейками во Фрайбурге и Бонне. Штутгарт был отдельный случай. И, наконец, была еще берлинская группа, находившаяся под непосредственным влиянием «Белой розы». Он говорил тихим спокойным голосом, и ей нравилось его звучание. Но его рассказ о многочисленных антинацистских группах в разных уголках Германии вызвал у нее глухой протест. Он только все усложнял. И она с досадой думала о том, что не сможет втиснуть в 5 тысяч слов все подробности о разрозненных и малоэффективных группах сопротивления, особенно тех, что возникли после Сталинградской битвы и нескончаемых бомбежек рейнских городов. Ей хотелось узнать как можно больше только о «Белой розе». Она же была связана этой узкой темой. Почему же Генрих настойчиво уходил от нее? Она упрямо задавала ему наводящие вопросы, и он наконец начал выкладывать ей все, что узнал от своего друга и прочих людей. Его голос стал еще тише и каким-то монотонным. Джейн даже подалась вперед, чтобы лучше его слышать. Ее дневники изобиловали обрывками тюремных и судебных слухов, среди которых попадалось немало сведений из третьих рук, и все это было записано не свойственным ей меленьким почерком, похожим на паучью вязь. От сильных переживаний, наверное, ее рука местами дрожала. Все, буквально все, даже тюремные охранники, даже следователь гестапо Роберт Мор, отмечали, с каким спокойствием и достоинством держались осужденные. Мор был поражен, сколь смиренно восприняла Софи Шолль грядущую смерть. Прощальные письма семье и друзьям, которые Гансу, Софи и Кристофу посоветовали написать, не были доставлены. Вместо этого нацистские власти убрали их в архив. На суде родители Шоллей пришли лишь на самое последнее заседание. Мать упала в обморок, потом очнулась. Судья Фрайслер был известен своими безжалостными приговорами. В его глазах подсудимые умерли еще задолго до начала суда. И когда огласили приговор, Софи отказалась сделать традиционное заявление. Ганс попытался выступить в защиту Кристофа, отца троих детей, в том числе новорожденного. Но Фрайслер оборвал его на полуслове.
Для приведения смертного приговора в исполнение осужденных перевезли в Штадельхаймскую тюрьму на окраине Мюнхена. Охрана немного смягчила правила и позволила Шоллям увидеться с родителями. Жена Пробста все еще лежала в больнице, ослабев от полученной во время родов инфекции. Софи была необычайно красива. Она немного поела сладостей, которые принесла им мать и от которых отказался Ганс. Софи вызвали первой, и она безропотно удалилась. А когда настал черед Ганса, он положил голову на плаху и выкрикнул что-то о свободе – но тут описания расходились.
Генрих замолчал. Он, видимо, заметил, как у Джейн на глаза навернулись слезы. Потом он сообщил, может быть, чтобы ее утешить, что судья Фрайслер погиб при бомбежке.
А потом он сделал добрый жест, который изменил жизни их обоих. Генрих перегнулся через стол и накрыл руку Джейн своей. Отвечая на его ласку, через несколько секунд она повернула ладонь вверх, и их пальцы переплелись. Они слегка пожали друг другу руки. То, что произошло потом, не описано в ее дневнике, но Джейн заметила, что вышла из комнаты Генриха часов в девять вечера. То есть одиннадцать часов спустя. А на следующее утро она написала записку коллеге Курта Губера с извинениями за то, что не пришла на свое последнее интервью.
Джейн не была профессиональной журналисткой. Если в своих изысканиях она оказалась чересчур близка к теме, то сейчас она погрузилась в нее целиком, если не сказать утонула в ней. И какая разница, увлеклась ли она Генрихом или «Белой розой». Охваченной половодьем сильных чувств, она и сама не могла толком этого понять. Ей нужно было и то и другое. Ее слезы, заставившие его положить свою руку на ее руку, были вызваны тем, что она вообразила, как легко сам Генрих мог бы оказаться на плахе. И его обаяние, ум, доброта и отвага могли быть уничтожены одним ударом лезвия.
В течение недели она переехала из своего номерка в пансионе в комнату Генриха в Швабинге. Наступили холодные осенние вечера, но у него в комнате ей было теплее, чем где бы то ни было в Лондоне. Ее жизнь так стремительно поменялась! Она даже подумать не могла, какая же она импульсивная! Днем и ночью они не расставались ни на миг. Генрих отложил подготовку к экзамену по праву. У Джейн не было времени писать статью. Но она не беспокоилась, потому что, когда они бродили по городу, она все равно искала материал о «Белой розе». Генрих показал ей, где жил Ганс Шолль в то время, когда дом принадлежал Карлу Муту, и где члены группы частенько встречались со своими друзьями. Именно там Генрих познакомился с Вилли Графом и Шоллями.
Вместе они пошли к Штадельхаймской тюрьме и на Перлахское кладбище неподалеку, но могил найти не смогли. Возможно, они не там искали. Или же местные власти во времена гауляйтера Гизлера не хотели потакать почитанию казненных мучеников.
Однажды вечером, вскоре после того как она к нему переехала, Генри показал Джейн свое самое ценное сокровище. Оно лежало под стопкой книг, завернутое в траченные молью занавески, между старыми листами картона. Он прятал его всю войну. Это было первое издание альманаха «Синий всадник», опубликованного в 1912 году, своеобразный манифест группы художников-экспрессионистов, работавших в Мюнхене и в его пригородах незадолго до Первой мировой войны. Национал-социалисты считали их искусство «дегенеративным» и подвергли запрету, их картины конфисковывали и распродавали, уничтожали или прятали. Очень скоро, уверял Генрих, когда полотна Кандинского, Марка, Мюнтер, Веревкиной, Макке и многих других вновь вернутся на стены картинных галерей, это издание будет стоит кучу денег. Это был подарок ему на двадцатилетие от зажиточного дядюшки, любившего современное искусство и утратившего почти всю свою коллекцию. С тех пор для Джейн и Генриха «Синий всадник» стал общим любимым увлечением. От розы к всаднику, от белого к синему, от войны к миру – мощное движение, радостно совершавшееся вместе. У Генриха еще был альбом репродукций, датируемый концом 20-х годов, и хотя почти все иллюстрации в нем были черно-белые, Джейн начала разделять его тягу к, как он говорил, «нерепрезентативному цвету».
В необычно теплый для середины октября день они выехали из Мюнхена на позаимствованном у знакомых стареньком мотоцикле и, проехав шестьдесят километров в южном направлении, оказались в городке Мурнау. Это была их дань уважения. Влюбленная пара Василий Кандинский и Габриэла Мюнтер приехали сюда в 1911 году и были очарованы этим местом. Они сняли дом, который впоследствии стал центром группы «Синий всадник». Они утверждали, что и сам городок, и его окрестности послужили для них мощным стимулом к творчеству. Джейн и Генрих тоже были очарованы, бродя по узким улочкам. Возможно, они смотрели на яркие осенние цвета окружающих деревьев и лугов глазами Габриэлы Мюнтер. Как они слышали, у нее до сих пор был свой дом в Мурнау. Много позднее они узнали, что, как и Генрих, она прятала от национал-социалистских властей работы «Синего всадника», но гораздо более обширную коллекцию, в том числе и несколько полотен Кандинского. И так случилось, что когда в январе 1947 года Джейн уже была беременна и они тихо поженились в том же месяце, ими бесповоротно овладела захватывающая идея поселиться в Мурнау. Они сняли там дом и весной переехали.
К тому времени, как они распаковывали вещи и обживали свое трехэтажное шале, Джейн смирилась с тем фактом, что ей никогда не закончить статью о «Белой розе». Она была влюблена, на уже видимой стадии беременности и мысленно свыкалась с новой жизнью. Генрих нашел работу в конторе местного стряпчего, занимавшегося оформлением купли-продажи сельскохозяйственных земель. Она была поглощена обустройством комнаты для будущего ребенка. Обуреваемая чувством вины и написав массу черновиков, она наконец составила объяснительное письмо в редакцию «Хорайзона». Коннолли обошелся с ней так великодушно, что у нее не хватило духу написать ему лично. Поэтому она написала Соне Браунелл, сославшись на то, что в условиях разрухи и голода в Мюнхене оказалось просто невозможно найти что-то про «Белую розу». И она, конечно, не смогла признаться, что в результате поисков вышла замуж за одного из ее членов. По причинам, связанным со здоровьем, она не сможет заскочить в Ломбардию. И еще она пообещала со временем вернуть все выделенные ей на поездку деньги. Отправив письмо, она успокоилась. Но почувствовала угрызения совести, когда в конце года вышла книга Инги Шолль. А ведь ее статья могла быть напечатана первой. Но она не сомневалась, что книга Шолль написана лучше, с большим знанием подробностей и более эмоционально, и потому ее появление имело больше оснований, чем публикация ее статьи, если бы она смогла ее дописать. И тем не менее горькое сожаление преследовало потом ее всю жизнь. Генрих постепенно уходил в себя, как бы замыкался в своей раковине – он никогда не делал вид, что считает себя ровней Шоллю, Пробсту или Графу. Он стал мелким провинциальным стряпчим, ревностным верующим, человеком здравых и твердых убеждений и активным участником деятельности местного отделения ХДС.
Джейн связала свою судьбу с домом. Очень скоро все их милые соседи сошлись во мнении, что ее немецкий, ее певучий баварский говор, почти безукоризнен. Она так и не поступила в университет по примеру своего брата, не стала известной писательницей, не пересекла Альпы, чтобы собрать секреты классического оссо буко и поделиться ими с мало что смыслящими в кулинарии англичанами. Только после того, как они с Генрихом в 1955 году переехали на север, она начала свыкаться с мыслью, что ей уготована тихая жизнь и скучный брак. Тот самый дядюшка, который когда-то подарил Генриху альманах «Синий всадник», оставил ему по завещанию дом в Либенау близ Нинбурга. Джейн предпочла бы остаться в Мурнау, но перед перспективой жить в доме, не платя за него аренду, как сказал Генрих, устоять было невозможно. И, переехав в Либенау, они уже больше не снимались с места. По медицинским показаниям, которые Джейн никогда не разъясняла, она больше не могла иметь детей. В 1951 году Генрих защитил диссертацию по правоведению в Мюнхенском университете и со временем стал партнером в юридической фирме в Нинбурге. Джейн не замечала, как у нее постепенно вошло в привычку послушно исполнять любые прихоти мужа. А он, в свою очередь, не замечал развившуюся у него манеру диктовать свою волю и неосознаваемую уверенность, что ее дело – прислуживать ему в доме. Люди, хорошо знавшие Джейн, иногда наблюдали в ее поведении вспышки резкости, даже раздражения или разочарования. Много лет спустя, рассказывая зятю за ужином о так и не состоявшейся поездке в сельские районы Северной Италии, она насмешливо воскликнула: «А ведь я могла бы стать Элизабет Дэвид!»[26 - Британская писательница-кулинар (1913–1992), автор многих книг рецептов для домашней кухни.]
Но это было в далеком будущем. Судя по финальной записи в ее последнем дневнике, она тем летом 1947 года пребывала в состоянии блаженства. Она наводила красоту и уют в комнатах их нового дома, поставила горшки с травянистыми растениями у кухонной двери, посадила овощи на грядках и устроила цветники в саду, а по выходным плавала в тихих водах Штаффельзее вместе со своим молодым мужем-красавцем Генрихом Эберхардтом, оказавшимся среди миллионов немцев одним из сотен смельчаков, которые сопротивлялись нацистской тирании.
Иногда семейная пара наблюдала издалека, как семидесятилетняя Габриэла Мюнтер идет по улице. Только один раз, после довольно нервной дискуссии, они решились к ней подойти. Она стояла в одиночестве перед мясной лавкой. Они поблагодарили художницу за ее искусство, которое не только доставило им огромную радость, но и привлекло их в прекрасный Мурнау. Она пробормотала несколько слов и заторопилась прочь, но они восприняли ее милую улыбку как своего рода благословение. В те солнечные месяцы Джейн печалилась о своих заброшенных проектах гораздо меньше, чем потом, когда она слишком сильно об этом переживала. Ей было «куда радостнее, чем стоило бы, находиться в стране», разбитой и обнищавшей из-за катастрофической войны, и впереди ее ожидало еще больше радостей. На этой восторженной ноте дневник обрывался. В октябре того же года родилась Алиса.