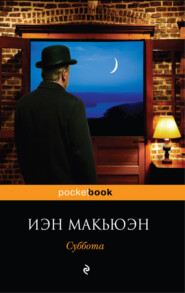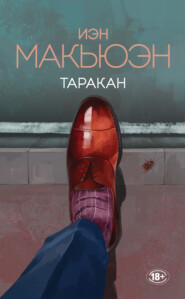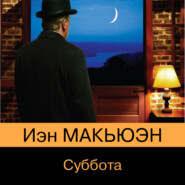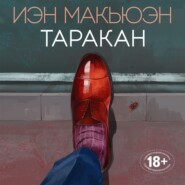По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искупление
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как беспомощно выглядели эти оправдания! Робби напоминал себе человека, тяжело больного туберкулезом, но притворяющегося, будто у него лишь простуда. Дважды нажав на рычаг перевода строк, он начал заново:
«Знаю, это едва ли меня оправдывает, но в последнее время рядом с тобой я впадаю в какое-то умственное расстройство. Чего стоит один проход босиком по твоему дому! И разве когда-нибудь раньше я разбивал старинные вазы?»
Прежде чем опять напечатать ее имя, он посидел немного, положив пальцы на клавиатуру.
«Си, не думаю, чтобы дело было в высокой температуре!»
Теперь вместо шутки получалась мелодрама или жалоба. Риторический вопрос звучал холодно, а за восклицательными знаками обычно прячется тот, кто не может выразиться яснее. Подобную пунктуацию Робби прощал только матери, в чьих письмах частокол из пяти восклицаний обозначал очень веселую шутку. Сдвинув валик назад, он забил последнюю фразу:
«Сесилия, не думаю, что во всем виновата лихорадка».
Теперь предложение оказалось лишенным всякого юмора и приобрело жалостливый оттенок. Восклицательный знак, пожалуй, следовало вернуть на место. Очевидно, его роль не сводится исключительно к тому, чтобы усиливать интонацию.
Робби еще с четверть часа пытался усовершенствовать текст с помощью мелких поправок, потом вставил в машинку чистую бумагу и начал печатать набело. Ключевые фразы выглядели так:
«Никто не осудил бы тебя, если бы ты сочла меня сумасшедшим за то, что я разулся при входе в твой дом или выхватил у тебя из рук старинную вазу. Дело в том, что в твоем присутствии я глупею и становлюсь почти безумным. Си, не думаю, что причиной тому – жар! Можешь ли ты простить меня? Робби».
Потом, балансируя на задних ножках стула, он несколько минут поразмышлял о том, что его «Анатомия» в последние дни неизменно открыта на одной и той же странице, придвинулся к столу и быстро застучал:
«В мечтах я целую твою промежность, твою сладостную влажную промежность. Мысленно я дни напролет предаюсь с тобой любви».
Ну вот – испортил. Испортил страницу. Робби выдернул лист из машинки, отложил в сторону и написал письмо от руки, сочтя, что это придаст посланию личностный оттенок, более соответствующий задаче. Взглянув на часы, он вспомнил, что нужно еще успеть начистить туфли, и встал из-за стола, не забыв пригнуть голову, чтобы не стукнуться о балку.
Он никогда не испытывал неловкости из-за своего социального положения. Как-то во время ужина в Кембридже во внезапно наступившей за круглым столом тишине некто, не симпатизировавший Робби, громко спросил его о родителях. Глядя прямо в глаза вопрошавшему, тот со всей любезностью ответил, что отец бросил их много лет назад, а его мать служит уборщицей и иногда подрабатывает в качестве ясновидящей. Его тон был исполнен спокойной терпимости к невежеству человека, задавшего вопрос. Робби детально изложил обстоятельства своей жизни, после чего вежливо поинтересовался родителями собеседника. Кое-кто считал, что такое поведение объяснялось невинностью или стремлением игнорировать существующее мироустройство, попыткой защититься от болезненных ударов судьбы. Некоторые даже полагали, что Робби был своего рода блаженным, который может пройти по враждебной гостиной, как маг по горячим углям, не причинив себе вреда. Но Сесилия знала: правда много проще. Все свое детство Робби свободно курсировал между бунгало и хозяйским домом. Джек Толлис был его покровителем, Леон и Сесилия – лучшими друзьями, по крайней мере в школьные годы. В университете, поняв, что он гораздо умнее большинства окружающих, Робби окончательно избавился от комплексов. Там даже заносчивость была ни к чему.
Грейс Тернер с радостью обстирывала его – как еще, если не считать горячих обедов, могла она выказать материнскую любовь двадцатитрехлетнему сыну? Но чистить обувь Робби предпочитал сам. В белой майке и брюках от костюма он сбежал по короткому лестничному маршу в одних носках, держа в руках черные спортивные башмаки. Перед гостиной был узкий коридорчик, заканчивавшийся входной дверью. В нее было вставлено «морозное» стекло, через которое с улицы проникал красновато-оранжевый свет. Этот свет делал неожиданно выпуклыми бежево-оливковые обои, разрисованные огненными сотами. Удивленный подобным эффектом, Робби, уже взявшись за дверную ручку, задержал на них взгляд, потом вошел в гостиную. Воздух в комнате был влажным, теплым и чуть соленым. Должно быть, только что кончился сеанс. Мать лежала на диване, положив ноги на валик, на кончиках пальцев болтались ковровые тапочки.
– Молли приходила, – сказала она и села, чтобы продемонстрировать готовность к беседе. – Рада тебе сообщить, что у нее все будет хорошо.
Поставив принесенный из кухни ящик с обувными принадлежностями, Робби сел в ближайшее к матери кресло и разложил на полу «Дейли скетч» трехдневной давности.
– Ты молодец, – сказал он. – Я слышал, ты занята, поэтому прошел прямо в ванную.
Он знал, что скоро нужно будет уходить, а до этого еще предстояло начистить туфли, но откинулся на спинку кресла, вытянулся во весь свой немалый рост и зевнул:
– Пора отделить зерна от плевел! Что я делаю со своей жизнью?
В его тоне было больше иронии, чем горечи. Сложив руки на животе, он уставился в потолок.
Мать посмотрела куда-то поверх его головы.
– Слушай, я чувствую, что-то происходит. Что с тобой творится? Только не вздумай этого отрицать.
Грейс Тернер начала служить у Толлисов через неделю после того, как сбежал Эрнест. У Джека Толлиса даже мысли не возникло выселить молодую женщину с ребенком из бунгало. Он нашел в деревне нового садовника и мастера, который не нуждался в жилье. Поначалу было решено, что домик останется за Грейс еще на пару лет, пока она не надумает переехать или снова не выйдет замуж. Ее добрый нрав и мастерство в полировке мебели – пристрастие Грейс именно к этой работе даже стало предметом семейных шуток – снискали ей популярность, но истинным спасением и возможностью вывести в люди Робби стала для нее пылкая любовь к шестилетней Сесилии и восьмилетнему Леону. Во время каникул Грейс разрешалось приводить с собой шестилетнего сына. Робби позволяли играть в детской и прочих комнатах, доступных детям, а также в саду. В лазанье по деревьям компанию ему составлял Леон, Сесилия была сестренкой, которая доверчиво держалась за его руку и для которой он был кладезем знаний. Несколько лет спустя, когда Робби завоевал стипендию на обучение в местной классической гимназии, Джек Толлис сделал первый шаг на пути долгосрочного патронажа, оплатив школьную форму и учебники юного Тернера. В том самом году родилась Брайони. Роды были трудными, и Эмилия долго хворала. Как незаменимая помощница в доме Грейс еще более укрепила свои позиции. На утро Рождества 1922 года Леон в высокой шляпе и брюках для верховой езды по поручению отца протопал по снегу к бунгало, держа в руках зеленый конверт. Поверенный мистера Толлиса уведомлял, что отныне бунгало официально принадлежит Грейс, независимо от того, будет ли она и дальше служить у Толлисов. Но Грейс не захотела уходить, просто теперь, когда дети выросли, вернулась к хозяйственным заботам, особое внимание уделяя безупречной полировке мебели.
Что касается Эрнеста, то ее легенда гласила, будто он отправился на фронт под чужим именем и не вернулся с войны. Иначе полное отсутствие у бывшего мужа Грейс желания узнать хоть что-то о собственном сыне выглядело бы бесчеловечным. Каждое утро, направляясь из своего бунгало в большой дом, Грейс размышляла о милостях, которые даровала ей судьба. Эрнеста она всегда немного побаивалась. Возможно, с ним она и не была бы так счастлива, как счастлива теперь, живя в собственном маленьком домике со своим гениальным сыном. Конечно, если бы мистер Толлис оказался другим человеком… Среди женщин, которые приходили к ней за шиллинг заглянуть в будущее, было немало таких, которых бросили мужья, еще больше – потерявших мужей на войне. Они вели весьма скромную жизнь, нуждались, и сама она легко могла бы оказаться на их месте.
– Ничего, – вопреки ее просьбе ответил Робби. – Со мной ничего не происходит. – Он смазал туфли гуталином и взял в руки щетку. – Значит, будущее Молли обещает быть радужным?
– В течение пяти лет ей предстоит снова выйти замуж. Она встретит мужчину с Севера, имеющего профессию, и будет очень счастлива.
– Меньшего она и не заслуживает.
В мирной тишине Грейс наблюдала, как Робби полирует свои туфли желтой бархоткой. Мышцы его красивых скул подергивались в такт движениям, а на руках то взбухали, то опадали, играя под кожей. Должно быть, есть высшая справедливость в том, что Эрнест подарил ей такого сына.
– Стало быть, ты уходишь?
– Леон приехал, я встретил его, когда он въезжал в поместье. Он уговорил меня прийти на ужин. С ним его друг, ну, тот, шоколадный магнат, знаешь?
– Конечно, я ведь полдня начищала серебро и убирала в его комнате.
Робби встал с туфлями в руке.
– Глядя на свое отражение в серебряной ложке, я буду видеть тебя.
– Да ладно тебе. Твои рубашки висят в кухне.
Он сложил в ящик обувные принадлежности, отнес его на место, в кухню, там же из трех висевших на плечиках рубашек выбрал льняную, кремовую. Когда Робби снова проходил через гостиную, ей захотелось еще немного задержать его:
– Эти маленькие Куинси… Бедные овечки. Один из мальчиков даже промочил постель.
Замешкавшись в дверях, Робби пожал плечами. Сегодня утром он видел их у бассейна. Визжа и хохоча, мальчишки пытались закатить на глубину его тачку и сделали бы это, не помешай он им. А Дэнни Хардмен, которому положено было работать, околачивался рядом, пялясь на их сестру.
– Ничего, они как-нибудь выживут, – сказал Робби.
Ему не терпелось поскорее уйти. Взбежав по лестнице через три ступеньки к себе в комнату, чтобы наскоро завершить туалет, он, наклонившись и глядя в зеркало на внутренней стенке дверцы гардероба, напомадил и причесал волосы, фальшиво при этом насвистывая. У него не было музыкального слуха, он не мог отличить одну ноту от другой, но, окончательно решившись идти на ужин, чувствовал себя взволнованным и, как ни странно, свободным. Хуже, чем есть, все равно быть не может. Методично, словно готовясь к рискованному путешествию или воинскому подвигу и наслаждаясь своей сноровистостью, он привычно положил в карман ключи, проверил бумажник – там лежала банкнота в десять шиллингов, почистил зубы, прикрыл рот ковшиком ладони и выдохнул, чтобы проверить чистоту дыхания, схватил со стола письмо, вложил его в конверт, набил портсигар, нащупал в кармане зажигалку. В последний раз осмотрел себя в зеркале: широко улыбнулся, приоткрыв зубы, повернулся в профиль, потом спиной – обозрел вид сзади через плечо. Наконец, охлопав карманы, ринулся вниз по лестнице, снова прыгая через три ступеньки, крикнул матери «пока» и вышел на узкую, мощенную кирпичом дорожку, бежавшую меж цветочных бордюров к воротцам в заборе из штакетника.
В последующие годы он нередко будет мысленно возвращаться к этим минутам, вспоминать, как, срезая угол, шагал через дубовую рощу по тропинке, потом вышел на дорогу там, где она сворачивала к озеру и вела дальше – к дому. Он не опаздывал, но с трудом сдерживал шаг. В насыщенности тех минут сплеталось множество отчетливых и смутных приятных ощущений: красноватая догорающая заря, неподвижный теплый воздух, напоенный ароматами высохших трав и разогретой земли, расслабленные после дневной работы в саду ноги и руки, кожа, гладкая от долгого лежания в ванне, ощущение прикосновения к ней рубашки и ткани костюма – его единственного костюма. Предвкушение и страх увидеть ее были тоже своего рода чувственным наслаждением. И надо всем этим, словно осеняя все вокруг, царил душевный подъем. Это могло причинять боль, рождать чувство страшной неловкости, из этого могло ничего хорошего не выйти, но Робби открыл для себя, что значит быть влюбленным, и испытывал приятное возбуждение. Радость вливалась в него и по другим притокам: он все еще гордился тем, что оказался лучшим в своем выпуске. А теперь вот и от Джека Толлиса пришло подтверждение: он готов субсидировать продолжение учебы Робби. Нет, впереди вовсе не изгнание, а новое приключение – внезапно Робби это отчетливо понял. Хорошо и правильно, что он решил изучать медицину. Он не мог бы объяснить причину своего оптимизма, просто был счастлив и, следовательно, обречен на успех.
Одно-единственное слово заключало в себе все, что он чувствовал, и объясняло, почему впоследствии он будет так часто вспоминать именно эти минуты. Свобода. Свобода в жизни, свобода в мышцах. Давным-давно, когда он еще ничего не слышал ни о какой классической гимназии, его записали на экзамен, который вскоре предстояло сдать. Как бы ни нравился ему Кембридж, этот университет тоже был не его выбором, а выбором честолюбивого классного наставника. Даже профессию предопределил Робби харизматический учитель. Но теперь наконец начинается самостоятельная взрослая жизнь. Робби словно сочинял рассказ, героем которого был сам, и начало истории немного шокировало его друзей. Парковый дизайн был не более чем богемной фантазией, равно как и сомнительная амбиция – так он сам анализировал свои психологические мотивы по Фрейду – заменить или превзойти отсутствующего отца. Школьное наставничество – через пятнадцать лет должность руководителя секции английского языка и литературы и табличка «М-р Р. Тернер, магистр искусств в области педагогики, Кембридж» – не находило отражения в сюжете, не было там и преподавания в университете. Несмотря на первое место в выпуске, изучение английской литературы казалось ему теперь лишь увлекательной интеллектуальной игрой, а чтение книг и рассуждения о них – не более чем желательным атрибутом цивилизованного существования. Но оно не было стержнем жизни, что бы ни говорил на лекциях доктор Ливис. Оно не являлось объектом священного поклонения, смыслом жизненно важных исканий пытливого ума, и даже не было первой и последней линией защиты перед лицом варварских орд, оно ничем не отличалось от изучения живописи, музыки или естественных наук.