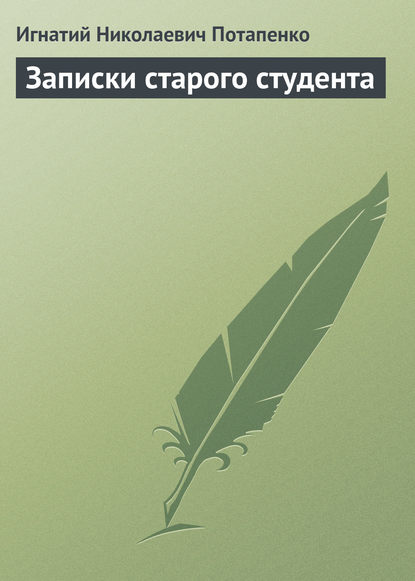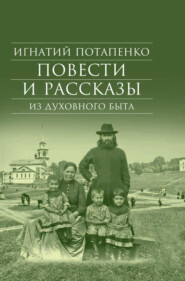По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки старого студента
Год написания книги
1889
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, а если по этому объявлению вас пригласят куда-нибудь в Приамурский край или Камчатку?
– Хоть на самый Шпицберген или южный полярный материк, – решительно заявил Забаров.
– Да вы знаете, что наша квартира мало чем отличается от Камчатки? Сегодня вот ещё ничего, протопили, а третьего дня у нас в комнате стоял мороз. Тут тропических растений не разведёшь!
– А как же с экзаменами?
– Придётся отложить. Пусть хоть она выдержит, – отвечал Забаров, указывая глазами на супругу, которая ёжилась в сереньком пледе.
– Так-с! – протянул я, желая переменить разговор на предмет, более касающийся лично меня. – Так у вас на деньги не разживёшься?
– У нас сорок копеек. Если хотите, поделимся! – отвечала хозяйка.
Я, разумеется, захотел поделиться.
– Но при дележе вы, конечно, как соединённые Богом воедино, принимаетесь за одно лицо, – заметил я, сообразив, что в противном случае сорок копеек придётся делить на три части. В ответ на это я получил двадцать копеек, и так как дома меня ждал голодный сожитель, то я поспешил проститься с гостеприимными хозяевами.
Каллистрат Иванович уже проснулся, но ещё потягивался под одеялом. Весть о двадцати копейках произвела на него приятное впечатление. Тотчас же от Марьи Карловны был потребован самовар. Эта почтительная особа, заметив, что место, на котором у нас помещался чай, было ничем не занято, поспешила заварить собственный. Наскоро мы составили домашний совет, на котором распределили наш капитал следующим образом: на семь копеек фунт хлеба, на девять полфунта сахару и на остальные четыре папиросы. Всё это было немедленно приобретено, и мы, увлёкшись временным счастьем, были совершенно довольны. Каллистрат Иванович, например, запивая хлеб сладким чаем, уверял, что его вчерашняя тревога была в сущности преувеличена, и вся неприятность произошла оттого, что он, вероятно, проглотил муху; что трупы, в особенности жирнейшие из них, как и всякое жирное вещество, должны быть очень питательны и полезны, в особенности для жителей севера, ибо известно, что каждый эскимос выпивает бочки тюленьего жиру. Словом, шёл весьма оживлённый разговор в этом роде.
Однако, первые порывы восторга, как и всё на свете, прошли, и нас посетили мысли о дальнейшем существовании. Дело в том, читатель, что большинство наших собратов по занятию, как вам, разумеется, известно, живёт исключительно уроками. Но большинство из этого большинства, как вам, быть может, и неизвестно, чаще всего уроков не имеет, тогда оно живёт… как бы вы думали – чем? Надеждами, занимая друг у друга по двугривенному, пока эти двугривенные, наконец, не истощатся, закладывая и продавая всё своё имущество, пока, наконец, не останутся такие вещи, которые татарин не решается оценить и которые, как неоценимые, остаются в чемоданах, если последние ещё не проданы. Мы с Каллистратом Ивановичем в то время подводились судьбой под последние пункты; мы как раз принадлежали к большинству из большинства и находились именно в той поре, когда татарину заглядывать в нашу квартиру было незачем. По примеру других, мы уже месяца два жили надеждами, и вы застаёте нас именно в тот момент, когда мы убедились, что надежды весьма не питательны, словом, вы застаёте нас, так сказать, в момент разочарования. Мы уж начинали, подобно некоторым насекомым, питаться запасом собственных организмов. Если бы вы, читатель, побывали в этот момент на нашем месте, то убедились бы, что это трагический момент.
Представьте, что у вас нет никаких шансов ни в настоящем, ни в будущем – решительно никаких. Надеяться вам не на кого, а сами вы человек слишком маленький, ничего не можете сделать. У вас нет того, что называется протекцией, и вы не чувствуете себя настолько дураком, чтоб надеяться, что вам повезёт… Представьте себе всё это… Нет, лучше не представляйте: ей-Богу, нехорошее положение…
– Как же быть, Каллистрат Иванович? – начал я после того, как восторг наш умерился. – Ну, положим, мы теперь напились чаю, так что до завтрашнего утра можем быть спокойны. Но что же дальше будет?
– Ну, об этом будем думать завтра. – ответил Каллистрат Иванович с беззаботностью, свойственною одним только птицам. – Знаешь ли, я теперь в прелестнейшем настроении духа; а если выпью ещё стакана три чаю, да заключу всё это папироской, то буду на седьмом небе. А эти минуты так редки, что, право, не стоит омрачать их воспоминанием о мирской суете.
– Ну, брат, положение такое, что надо серьёзно подумать.
– Самое лучшее положение! – восторженно говорил мой сожитель. – В желудке чувствуется некоторый материал для пищеварения. Я даже ощущаю, что началось пищеварение – это очень приятное чувство; ты замечал когда-нибудь?
– Признаюсь, очень давно не чувствовал этого вполне. А знаешь ли, что я придумал? Браво, очень остроумный способ! – воскликнул я, обрадованный собственной изобретательностью.
– Очень рад, рассказывай!
– И как мы этого раньше не придумали? Ведь у нас два костюма, один из них можно продать… Не правда ли, остроумно?
– Очень! – спокойно отвечал Каллистрат Иванович. – Сколько я понимаю, всё твоё остроумие клонится к тому, чтоб один из нас остался без костюма. Но твоё остроумие не ново. Ещё санкюлоты показали блестящий пример.
– И прекрасный пример, так как мы будем санкюлотами только в своей квартире, на улице же будем как все. Мы только иначе распределим своё время. Когда один уходит, другой будет сидеть дома, – продолжал я развивать свою идею.
– Итак, Каллистрат Иванович, у меня костюм собственный, мы его и продадим, а твой будет делиться.
Каллистрат Иванович в душе, очевидно, одобрял моё открытие, и так как он ничего не возражал, то я сейчас же занялся добыванием татарина. Пока татарин взбирался к нам по лестнице, я успел разоблачиться и забраться под одеяло. Каллистрат Иванович должен был торговаться, я же, в качестве только что проснувшегося, помогать ему. Результатом этой комбинации у нас явилось шесть рублей, которые представлялись неимоверно большим капиталом. В перспективе виделись: обед, чай, табак и даже представлялась возможность отдать выстирать бельё, которое давно уж нуждалось в этом.
Каллистрат Иванович ушёл в академию; я же выполз из-под одеяла и, предварительно полюбовавшись моим костюмом, который состоял в отсутствии всякого костюма, с совершенно спокойным сердцем продолжал мои занятия.
Звонок заставил меня встревожиться и запереть дверь. «Что, если какая-нибудь дама», – подумал я и уже приготовился сделать вид, что меня нет дома, как кто-то постучался в дверь.
– Отоприте! – говорил голос мужчины, в котором я тотчас же узнал жившего в том же дворе студента-ветеринара Шафиру.
Я отпер.
– Хе! Что это вы так налегке? – удивился гость, осматривая мой костюм.
Я объяснил причину.
– Да-с, скоро и мне придётся мало-помалу разоблачаться. Ах, не будет больше войны! – со вздохом говорил Шафира.
Шафира принадлежал к категории тех немалочисленных людей, которые чуть не с пелёнок видели себя окружёнными безвыходной бедностью. Он был еврей. Отец его занимался каким-то ничтожным ремеслом где-то в царстве польском и в продолжение уже многих лет не давал о себе знать. Много лет перебивался сын кое-как изо дня в день, поддерживая своё существование, и однако же успевал платить в академию, так как для евреев-ветеринаров единственный путь к освобождению от платы – принятие христианства. Внешний вид его всегда был жалок: в продолжение пяти лет его плечи не носили нового платья, вечно носил он какое-нибудь старое, приобретённое на толкучем рынке, обедал чуть ли не по праздникам только, чай пил у приятелей. Но вот нагрянула турецкая война, и обстоятельства Шафиры изменились. Он попал в качестве фельдшера на войну, где из порядочного жалованья сумел составить кое-какой остаток. У него завелось приличное бельё и платье; вот уже шесть месяцев он исправно каждый день обедал и вообще жил по-человечески. С полным правом применял он к себе поговорку: «не бывать бы счастью, да несчастье помогло!»
– Да, войны больше не будет! – продолжал вздыхать Шафира. – А моё сбережение совсем уже приходит к концу. Последний червонец разменял, и из него осталось всего рубль тридцать копеек. А что будет дальше – не знаю. Вот курс оканчиваю, а для чего – право, не могу сказать.
– Как для чего? будете ветеринарным врачом.
– Где? У кого? А вы забыли, что я еврей, и что евреям-ветеринарам не дают казённых мест. Прикажете надеяться на земство – но наше земство не больно охоче до ветеринарных врачей.
– А что вам стоит принять христианство?
– О, это очень дорого стоит! С одной стороны презрение за ренегатство, с другой – вечное глумление, вечная насмешливая улыбка… Вы не забывайте, что тот круг, с которым я связан кровью, стоит на первобытной ступени развития, он зверски фанатичен и умеет также сильно презирать ренегатство, как любить своих… Нет, я не могу этого сделать. Ну-с, – продолжал он, помолчав, – что же вы намерены сделать с вашими шестью рублями?
Я начал основательно высчитывать ему и, к своему ужасу, увидел, что за всеми мелкими расходами нам решительно ничего не остаётся на обед.
– Э, ничего, пустяки! – утешал меня Шафира. – Вот кстати и я возвращусь к своему обычному образу жизни.
И он начал с любовью вспоминать всевозможные случаи из той долголетней поры, когда он обедал только по праздникам. В этих разговорах мы не заметили, как прошло время, и Каллистрат Иванович возвратился. С ним вместе пришёл и Забаров, которого он встретил на улице и пригласил полюбоваться моим костюмом. Каллистрат Иванович был в восторге, лицо его сияло.
– Во первых, у Грубера я получил «sufficit» [достаточно – лат.], – объяснил он, – и во вторых, сейчас отправляюсь на урок.
– На урок? – переспросили мы все в один голос.
– Да-с, на урок, а вы как думали? Да ещё какой урок! – торжественно продолжал Каллистрат Иванович. – Сейчас же нужно составить приличный костюм.
Началось генеральное переодевание. Забаров должен был пожертвовать своими брюками, Шафира сюртуком. Кое-как приспособили галстук и другие принадлежности. Каллистрат Иванович был отправлен на урок. Гости, внезапно оставшиеся в полукостюмах, вместе со мной с нетерпением ждали его возвращения. Прошли часа два, послышался нетерпеливый звонок, и мой сожитель с шумом вбежал в комнату.
– Храбрость города берёт, а я взял город! Поздравьте, господа!
Мы поздравили.
– Где ж твой город?
– Он здесь! – ответил Каллистрат Иванович, показывая на сжатый кулак. – Много перенёс я страху, – это правда. Однако – всё по порядку. Прихожу по адресу – батюшки-святы! Швейцар в такой ливрее, что я его принял за египетского жреца, посмотрел он на меня грозно: «Кого, говорит, вам нужно?» Очевидно, мой внешний вид не позволял ему думать, чтобы мне там кого-нибудь было нужно. Я прочитал ему по записке. Он как будто удивился, однако, снисходительно показал. Иду по лестнице и не знаю – идти ли мне по ковру, или так, сбоку, ковёр – прелесть, что такое! Я бы не прочь из него костюм сделать – такой хороший. Звоню. Выходит маленький господин в сером пиджаке с серыми бакенбардами, с серыми маленькими глазками и выбритым подбородком. «Кого?» – спрашивает. Я вижу, что не лакей. «Я, – говорю, – по рекомендации такого-то»… Тут я вспомнил, что повара тоже являются с рекомендациями и прибавил: «Учитель». Как сказал я это слово, лицо маленького господина выразило такую радость, словно ему подарили миллион. «Ах, очень приятно познакомиться! Я ждал вас, а потому вот, как видите, сам даже вышел отпереть дверь!» Помог даже мне повесить плед. «По пледу узнаю, что вы истинный студент. Хаживали, хаживали и мы когда-то в пледах!» Он даже вздохнул: «Ах, было время! А знаете ли, я всегда находил, что плед – это самое удобное одеяние для зимы! Право». – «Но теперь ты нашёл более удобное, понимаю!» – подумал я и ждал, в какое святилище введут меня. «Пожалуйте, говорит, в мой кабинет». Пожаловали. Чёрт знает, чего только не оказалось в этом кабинете, но, господа, ей-Богу не могу сказать вам, что именно там оказалось, потому что многому не знаю ни названия, ни назначения. Тут я пригляделся к моему патрону. Несмотря на свой маленький рост, он довольно величествен, голову держит на подобие льва, так что лицо принимает чуть не горизонтальное положение: довольно плотен, хотя не толст, волос на голове носит очень мало… Отрекомендовался, домовладелец и гласный, фамилия какая-то знакомая, часто встречал в фельетонах. «Вы университетский?» – «Нет, – говорю, – медик». – «А-а!» – многозначительно произнёс домовладелец, и лицо его на минуту омрачилось, но сейчас же отошло. «Беспокойный народ – эти медики, впрочем, я вижу, что вы хороший человек!» Поблагодарил. Приглашают садиться. Я со всего размаху в кресло, которое оказалось до того мягким, что я совсем утонул в нём. Мне показалось, что я не так сел, как следует; но когда я увидел хозяина, также утонувшего в своём кресле, сомнения прошли. Патрон оказался красноречивым. Он говорил полчаса без умолку. Существенного, правда, мало: он очень любит студентов, сам был студентом, но у него благоразумие всегда брало перевес, он смотрит на многое сквозь пальцы, ибо молодость, горячая кровь и прочее. К «Московским Ведомостям» относится с презрением, ибо это камень, стоящий поперёк дороги истинным гуманным деятелям, но с удовольствием читает «Голос» и даже иногда помещает там свои маленькие грешки. Я решил приступить к делу и заговорил о цели моего посещения. «А, это пустяки! Мы, без сомнения, сойдёмся. Условия у меня хорошие, работы немного»… Всё это оказалось верно, и я поднялся с места, чтобы раскланяться. Мой патрон также поднялся и объявил, что всегда готов служить мне всей душой, напомнил ещё раз о своей любви к молодёжи. Я принял это к сведению. «Не можете ли, говорю, дать мне вперёд часть моего жалованья?» Патрона очевидно удивила такая бесцеремонность, да и в самом деле это, кажется, неприлично, – сразу, по первому знакомству, просить денег, да ещё за будущий труд. Ну, скривился, а всё-таки говорит: «С удовольствием, очень рад служить!» – и дал. Не дать нельзя было, потому что перед тем больно уж рассыпался в уверениях. Притом же он человек, очевидно, добрый, и моя просьба только немножко шокировала его. Заниматься с маленьким сыном, работы мало. А вот и город!
При этом он разжал кулак и положил на стол пятирублёвую бумажку.
– Как получил от патрона, так и принёс в руке. Спешил ужасно. Ну, господа, теперь мы смело можем идти обедать!
– Но как же мне быть? Не отправляться же в этом костюме? – спросил я, не видя исхода.