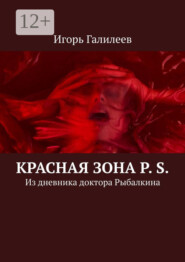По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На струнах души… Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А через рыдания слова уже в рев превратились. Но стучу по стеклу, только бы проснулась. И тут, смотрю, глаза её затрепетали, приоткрылись. Посмотрела на меня и снова веки без сил опустились, только слеза по щеке скользнула – значит, увидела меня, значит – поняла.
Жива, значит.
А в больничных коридорах уже свет загорелся, голоса громкие кругом. Дверь в мариночкину палату распахивается и врач с медсестрой забегают. Только это и помню…
Говорят, что я сам от переохлаждения без сознания упал – хорошо мешок с одеялами был, на него прямо. Ноги сильно отморозил, долго ещё ничего не чувствовали, как деревяшки. Потом больно ужасно стало. Поэтому меня уже Олежка своими витаминками подкармливал. Местной больничной легендой я стал, со всех отделений на меня посмотреть приходили. И кто чего только не рассказывал! Мол, меня к Мариночке в палату через её окно затащили. Вместе с одеялами теми. Говорят, что она меня к себе в кровать положила, отогревать. И что всю ночь сама на меня теплом своим дышала. В общем, вышло так, что спасла спасителя своего неудавшегося.
Сама она поправилась, конечно – не знаю точно: одеяла наши помогли или лечение. Но уже через месяц снова к нам пришла. С улыбкой и слезами. Рыцари, говорит, вы мои, сказочные…
Но сказка и в жизни случается. Выздоровел я. Не сразу, конечно, пришлось в столице в каком-то Центре побывать – там ещё с полгода полечился. Как оказалось, помогло. И только недавно узнал, что моё лечение больших денег стоило. Стал выяснять – следователем работаю всё-таки – кто оплатил. Думал, может, мать перед своей смертью или отец потерявшийся…
Оказалось, что Мариночка…
…Окно своё узнал сразу. Рука сама к голове так и оставшейся без волос поднялась. И сердце защемило что-то. Воспоминания хлынули. Опустился на лавочку осеннюю во дворе больничном – как и не уходил отсюда: все те же деревья голые, тот же запах щей из пищеблока и тишина…
Будто время здесь специально в кисель превратилось, чтобы жизнь на подольше растянуть.
Из дверей корпуса силуэт в белом халате вышел – лица не рассмотрю никак, слёзы мешают, а смахнуть вроде стыдно – взрослый же. Только вблизи по улыбке понял: Мариночка… С сединой уже, в очках на добрых и понимающих глазах. Остановилась, посмотрела внимательно.
– Ну, Славик, а ты говорил, что некрасивый вырастешь… А сам вон какой!
И улыбается сквозь слёзы… А мне сказать бы хоть что-то, но не могу никак. Ладонь её взял и лицом прижался, склонившись. А она меня по голове гладит, успокаивает:
– Не надо, Славик, не говори ничего. Хорошо же всё…
Да чего стесняться-то слез своих! Обнял её.
– Спасибо, – говорю, – и не только от себя…
И за больничный забор показываю. А там жена моя любимая платком слёзы вытирает, и двое сынишек – не поймут: чего это папка сопли на кулак наматывает.
– Все как обещали, – улыбаюсь, – так и случилось. Детей только двое пока, но это ведь дело – наживное…
С тех пор Марина Владимировна членом нашей семьи стала. Хотя, наверное, её семьёй я всегда был…
ПАНГАСИУС
Рассказ
О любви написано и сказано так много, что если бы все двухмерные буквы о ней соскрябать с бумаги и сложить в одну кучу, то, наверняка, гора получилась бы не меньше Эвереста. Тем не менее, я добавлю к ней и свою горсточку слов. И пусть, конечно, они не станут фундаментом. Но… Рассказать эту историю я обязан.
– Эй, ты куда конфеты понёс?! – заорала на весь гастроном щекастая продавщица из бакалейного отдела.
И уже вдогонку испугавшемуся пацану:
– Держи эту сволочь! Лю-юди! Что же это делается-то?! От горшка два вершка, а все туда же – жульничать!
Мальчишка на вид не больше восьми лет, застыл в дверях магазина – щеки красные от зарождающегося стыда. И от непонимания – чего не так сделал. Поэтому начал было оправдываться, но куда там…
– Тётенька, тётенька, я же не без спроса, я же спросил…
И тут продавщица схватила пацана за воротник матерчатой курточки, сопроводив действие подзатыльником.
– Кто? Кто тебе, я тебя спрашиваю, разрешил конфеты взять? А?
И ещё раз замахнулась. Но ударить не успела – её толстую руку перехватил парень в тельняшке с голубыми полосками без правой ноги по колено на костылях.
– Я разрешил, – парень пристально в глаза продавщице посмотрел – как зверя гипнотизировал, усмиряя. – Только не красть, а к кассе подойти и меня ждать. И уже у мальчишки спросил:
– Так ведь?
– Да, – пацан глаза спрятал, – так всё. Только там, на кассе этой, нет никого. Я постоял немного. Я же не знал…
И сил сдержать слёз уже не было, заплакал.
– Испугался я! – Из-за хлюпанья речь не очень связная получалась. – Они там, дяденька, кого-то грека… Убили вроде… Я к кассе-то подошёл, слышу, та, в синем фартуке, – и на вторую продавщицу кивнул, которая издалека за ними наблюдала, – этой вот говорит, что какому-то пангасиусу голову надо отрубить и потом уже завернуть получше, чтобы не нашёл никто…
И, видя появившуюся улыбку на лице парня на костылях, насупился.
– Да вы у них сами спросите! Так и сказала – голову отрубить!
– Так и сказала? – понарошку серьезно переспросил парень.
И продавщица размякла, брови выпрямились.
– Эх, дурень, – даже воротник куртки на мальчишке расправила. – Это рыба такая. С усами.
И тут про конфеты вспомнила:
– Но заплатить все равно придется. Ну, или обратно положить…
– Я за конфеты заплачу, – парень в тельняшке отставил один костыль к стене и достал кошелек из заднего кармана потертых джинсов. – Сколько надо-то?
– Валя! – вдруг шаляпиным гаркнула в сторону «синего фартука» могучая продавщица. – Валюша! За трехсотграммового «Ключика» сколько?
– Сорок копеек… – донеслось из-за стелажей.
Парень вынул мятый рубль и пацану вручил:
– На, на кассе пробей.
Мальчишка тыльной стороной ладони вытер нос и вслед за продавщицей зашел в пустой торговый зал. Через минуту вернулся, сдачу принёс. Десантник пацана по плечу похлопал, улыбнулся снова.
– Сдачу себе оставь. На мороженое.
И уже выходя из магазина неудобно перебирая костылями, обернулся:
– Много сладкого есть вредно. Особенно – чужого…