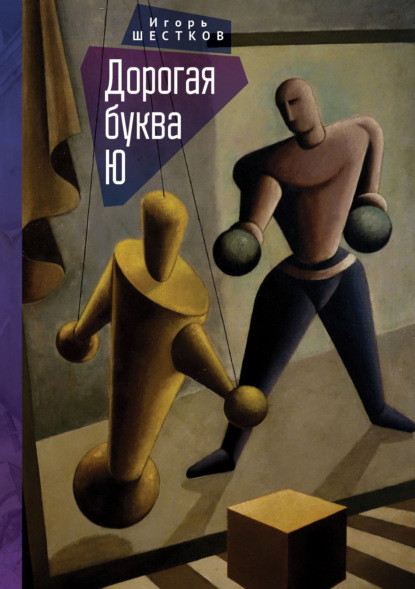По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорогая буква Ю
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Согласитесь, все, что на «Гранях» пишется – и старо и не оригинально. Все уже было и говорено и переговорено и переварено и забыто. От этих разговоров – колики. Говорить то не о чем. Все проболтала сорока лет сто назад.
В небесах от русских гениев тесно, а на земле – Вий стоит на страже. Там дубинки положены архангельские. Одна дорога – к муравьям, к мышам, в грязь. Хоть и это было и до совершенства даже доведено. Подполье. Подлавочье. Шесток.
…
На Россию я давно махнул рукой. И на себя, и на мир, и на Бога. Тут не нигилизм и распущенность, тут – простите, не вышло, стройте свои вертикали сами. А я в речке хочу поплавать. На другой стороне собачка лает. А во рту монетка медная.
Ни с кем мне не хочется спорить.
Умные люди приводят меня в ужас. Как они могут там жить?
Русские слова пропадают. Смеются боги… Всю жизнь гоготал как ящер над языком Набокова, – благородным, но без сока современности. С бабочками, но без гнилой капусты советского продмага. Фиолетовым стерильным языком чистилища… А теперь и сам попал под стекло.
…
«Грани» мне надоели. Реагируют на меня только бригадники. С ними воевать все равно, что честной женщине соревноваться с б…
И винить некого! Все мы, жившие в брежневскую эпоху, виноваты в том, что тогда происходило. Не одни только гэбисты и коммуняки. Они были молотом, а наковальней были мы. И сегодня – все виноваты в том, что происходит.
Хотите, чтобы я в эту Россию возвратился? Закукарекал и жертвой заделался на старости лет? С моим брюхом?
…
Империи нет, а бородавка осталась.
Сковырнешь – еще тысяча вырастет.
Последние месяцы мне непрерывно грозят в интернете. Как-то вычислили моих дочек… Грозят убить.
В сентябре 1990-го взял я перпендикулярный курс. Слез с печи. Захотел от русского языка оторваться. А он меня догнал. В полете. Вот и стал я стрелком. Стреляю. И все в молоко, в молоко.
Уползаю в подробности. В густую травку. Уж-замуж-невтерпеж. А там рыщет волчок.
…
Это Рождество проведу один.
Обижаю всех. Как старый павиан. Всех царапает, бьет, а потом сидит на высоком суку. Смотрит на виднеющееся за зеленым мохнатым ковром серое море. На его белесые волны. И тоскует. Не хочет смириться. Боится вкрадчивости. Знает, что во всем сам виноват. И от этого ему еще горше.
…
После первой моей большой выставки в Германии пригласил меня один критик в гости. Коллекцию старого китайского фарфора смотреть.
Я спросил, нравятся ли ему мои работы.
Критик ответил – ты делаешь такое же цветное чувственное говно, как и твои братья славяне. И наглые восточные евреи. Как в вашей литературе – истерические излияния, бессмысленные подробности, самолюбование, юродство, подлость и чернуха. Какие в жизни, такие и в искусстве. Посмотри на китайцев, – ни одной лишней линии, ни одного бессмысленного прибамбаса, а цвет – это атомное оружие, появляется только в хорошо отмеренных дозах. Какая сдержанность! Сила! А ты цветом пишешь, масло в масло льешь, сахар в сахар сыплешь. Пестрая блевотина, а не живопись. Старые иконы – это класс! А вы все – ослепшие в чувственном кретинизме провинциальные скоты!
Что-то тогда я ему возразил.
Но он был прав.
Я оставил цвет, перешел на тона.
Но чувственную природу сублимировать так и не сумел.
Пришлось загнать самого себя в текст как непослушное стадо бодливых яков – в загон.
Мое потерянное среди квадратных эпох поколение должно обрести голос. Родились мы после того, как генный остаток старой культуры разошелся, растворился, сгинул под жерновами сталинщины. Из нас наросло дикое мясо современности. За нами идущие смогли нас оттеснить. Раскрыть рот мы так и не успели… Пьем теперь чужое пиво на последней площадке…
…
О моей писанине мне с тобой говорить не хочется. Эти строки продавлены из фонетики в голый смысл. Колющие палочки. Клинопись. По линии отторжения реальности от сознания бежит слово… Тут музыки нет. Одни грубые ударные. Дым над водой летит. Задницы по-скрипачьи пердят. Ни тебе литературы, ни приподнятости, ни вековой культуры – только личное дерьмо.
Все обо мне и немного о погоде
В моем мире – тихо. На концерты я уже много лет не хожу, нет желания чужую карму ложками хлебать. Композиторскую, исполнительскую… Когда-то очень любил сумрачную музыку – Софроницкий играет Скрябина в его музее.
Потому что сентиментален, к глотке подступают спазмы, из глаз сыпется песок. В голове начинают потом звучать услышанные ноты, и нет от них спасения… Воспоминания лезут в душу, как мертвецы на палубу заблудившегося в Бермудском треугольнике судна.
Проза – белый квадрат, внутри него, о боги, тишина. Только хруст челюстей буковок и слышен. И их притоптывание. Дотошные, едкие насекомые. Проедают ткань судьбы. Но смирные – со странички никуда. Только гладь их глазами, слушай их перекличку и строй себе свои карточные домики.
…
Кто я? Как и все – биологическая машина с набором простых программ для получения удовольствия.
Редко думаю, не философствую (тоска берет), живу себе… Наслаждаюсь водой, воздухом, тишиной, едой и любовью.
Мой внутренний зверь настороженно слушает пространство. Внешнее и внутреннее.
Фиксирует ритмичный разговор сердца с смертью… Сколько ударов осталось?
Я с удовольствием смотрю. Смотрю на деревья, на картины любимых художников.
Еще больше радости доставляют мне облака и небо.
Стараюсь не нарушать тишину разговорами. Блаженное ничегонеделание – бессмысленными делами…
Хожу гулять с моей доброй подругой. Если я не говорю, она молчит.
Мы идем вдоль узкой речки, тополя шумят, над двадцатиметровой кирпичной трубой вьется легкий фиолетовый дымок, вороны каркают бешено, воробьишки чирикают, серо-белые облака летят над головой.
В небесах от русских гениев тесно, а на земле – Вий стоит на страже. Там дубинки положены архангельские. Одна дорога – к муравьям, к мышам, в грязь. Хоть и это было и до совершенства даже доведено. Подполье. Подлавочье. Шесток.
…
На Россию я давно махнул рукой. И на себя, и на мир, и на Бога. Тут не нигилизм и распущенность, тут – простите, не вышло, стройте свои вертикали сами. А я в речке хочу поплавать. На другой стороне собачка лает. А во рту монетка медная.
Ни с кем мне не хочется спорить.
Умные люди приводят меня в ужас. Как они могут там жить?
Русские слова пропадают. Смеются боги… Всю жизнь гоготал как ящер над языком Набокова, – благородным, но без сока современности. С бабочками, но без гнилой капусты советского продмага. Фиолетовым стерильным языком чистилища… А теперь и сам попал под стекло.
…
«Грани» мне надоели. Реагируют на меня только бригадники. С ними воевать все равно, что честной женщине соревноваться с б…
И винить некого! Все мы, жившие в брежневскую эпоху, виноваты в том, что тогда происходило. Не одни только гэбисты и коммуняки. Они были молотом, а наковальней были мы. И сегодня – все виноваты в том, что происходит.
Хотите, чтобы я в эту Россию возвратился? Закукарекал и жертвой заделался на старости лет? С моим брюхом?
…
Империи нет, а бородавка осталась.
Сковырнешь – еще тысяча вырастет.
Последние месяцы мне непрерывно грозят в интернете. Как-то вычислили моих дочек… Грозят убить.
В сентябре 1990-го взял я перпендикулярный курс. Слез с печи. Захотел от русского языка оторваться. А он меня догнал. В полете. Вот и стал я стрелком. Стреляю. И все в молоко, в молоко.
Уползаю в подробности. В густую травку. Уж-замуж-невтерпеж. А там рыщет волчок.
…
Это Рождество проведу один.
Обижаю всех. Как старый павиан. Всех царапает, бьет, а потом сидит на высоком суку. Смотрит на виднеющееся за зеленым мохнатым ковром серое море. На его белесые волны. И тоскует. Не хочет смириться. Боится вкрадчивости. Знает, что во всем сам виноват. И от этого ему еще горше.
…
После первой моей большой выставки в Германии пригласил меня один критик в гости. Коллекцию старого китайского фарфора смотреть.
Я спросил, нравятся ли ему мои работы.
Критик ответил – ты делаешь такое же цветное чувственное говно, как и твои братья славяне. И наглые восточные евреи. Как в вашей литературе – истерические излияния, бессмысленные подробности, самолюбование, юродство, подлость и чернуха. Какие в жизни, такие и в искусстве. Посмотри на китайцев, – ни одной лишней линии, ни одного бессмысленного прибамбаса, а цвет – это атомное оружие, появляется только в хорошо отмеренных дозах. Какая сдержанность! Сила! А ты цветом пишешь, масло в масло льешь, сахар в сахар сыплешь. Пестрая блевотина, а не живопись. Старые иконы – это класс! А вы все – ослепшие в чувственном кретинизме провинциальные скоты!
Что-то тогда я ему возразил.
Но он был прав.
Я оставил цвет, перешел на тона.
Но чувственную природу сублимировать так и не сумел.
Пришлось загнать самого себя в текст как непослушное стадо бодливых яков – в загон.
Мое потерянное среди квадратных эпох поколение должно обрести голос. Родились мы после того, как генный остаток старой культуры разошелся, растворился, сгинул под жерновами сталинщины. Из нас наросло дикое мясо современности. За нами идущие смогли нас оттеснить. Раскрыть рот мы так и не успели… Пьем теперь чужое пиво на последней площадке…
…
О моей писанине мне с тобой говорить не хочется. Эти строки продавлены из фонетики в голый смысл. Колющие палочки. Клинопись. По линии отторжения реальности от сознания бежит слово… Тут музыки нет. Одни грубые ударные. Дым над водой летит. Задницы по-скрипачьи пердят. Ни тебе литературы, ни приподнятости, ни вековой культуры – только личное дерьмо.
Все обо мне и немного о погоде
В моем мире – тихо. На концерты я уже много лет не хожу, нет желания чужую карму ложками хлебать. Композиторскую, исполнительскую… Когда-то очень любил сумрачную музыку – Софроницкий играет Скрябина в его музее.
Потому что сентиментален, к глотке подступают спазмы, из глаз сыпется песок. В голове начинают потом звучать услышанные ноты, и нет от них спасения… Воспоминания лезут в душу, как мертвецы на палубу заблудившегося в Бермудском треугольнике судна.
Проза – белый квадрат, внутри него, о боги, тишина. Только хруст челюстей буковок и слышен. И их притоптывание. Дотошные, едкие насекомые. Проедают ткань судьбы. Но смирные – со странички никуда. Только гладь их глазами, слушай их перекличку и строй себе свои карточные домики.
…
Кто я? Как и все – биологическая машина с набором простых программ для получения удовольствия.
Редко думаю, не философствую (тоска берет), живу себе… Наслаждаюсь водой, воздухом, тишиной, едой и любовью.
Мой внутренний зверь настороженно слушает пространство. Внешнее и внутреннее.
Фиксирует ритмичный разговор сердца с смертью… Сколько ударов осталось?
Я с удовольствием смотрю. Смотрю на деревья, на картины любимых художников.
Еще больше радости доставляют мне облака и небо.
Стараюсь не нарушать тишину разговорами. Блаженное ничегонеделание – бессмысленными делами…
Хожу гулять с моей доброй подругой. Если я не говорю, она молчит.
Мы идем вдоль узкой речки, тополя шумят, над двадцатиметровой кирпичной трубой вьется легкий фиолетовый дымок, вороны каркают бешено, воробьишки чирикают, серо-белые облака летят над головой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: