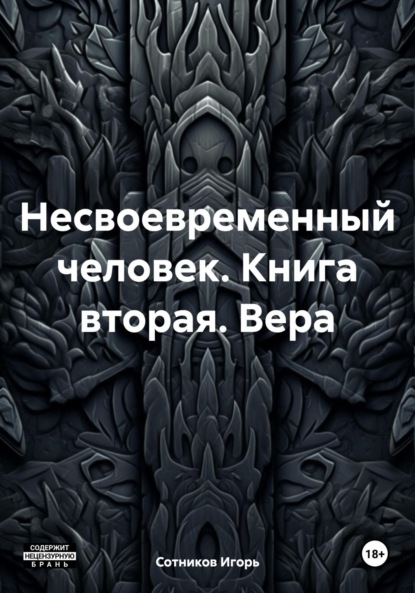По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Несвоевременный человек. Книга вторая. Вера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А как только работающий под прикрытием больного, врач терапевтического отделения Гай, всё выяснит, – так вот почему его бросили в отделение интенсивной психологической терапии, чтобы не быть узнанным своими коллегами, среди которых встречаются такие честолюбцы, что им нет никакого дела до общих показателей больницы, и они обязательно выдадут своего коллегу на растерзание больных, – то Левше вся прежняя кровожадность его лечащего врача, какой уж месяц, теперь уже знающий по чьей вине, не получающий премии, покажется цветочками перед тем, что его ждёт.
И Гай идёт на хитрость, назвав Макария не по его имени, а по своему незнанию всех этих костоправов и живодёров по имени, – он же здесь не работает, чтобы знать всех по именам, – описав его в соответственных чёрных красках. – Так это Макарий. – Догадался Левша. И, пожалуй, не будь Левша лицом вне подозрений насчёт симпатий к медицинскому персоналу, то у Гая могло бы закрасться сомнение в его благонадёжности. Однозначно Левша не столь непоколебим и беспощаден к своим идеологическим противникам, кем являются представители медицинского сообщества. И вполне возможно, что он даже замечен в связях, порочащих его – в той же процедурной, где кроме него и медсестры никого не остаётся. И кто знает, чем они там занимаются или займутся после того, как медсестра, голосом не терпящим возражений, отдаст Левше команду: «Снимайте немедленно ваши штаны!». А у Левши, быть может, ещё не окончательно потеряна его совесть и верность своим идеалам, и он хоть и взялся за свои штаны, но не снимает их так сразу, а пытается отсрочить своё падение.
– Прямо здесь? – взволнованным голосом интересуется Левша.
– Если вы хотите публичности, а сейчас все через одного такие, то можем это с вами сделать в коридоре. – Прямо издевается медицинская сестра, больше похожая на отъевшуюся попадью, – это значит, что поп не жмот и человек душевный, и не зажимает харчи (а этот её вид должен был служить алиби для Левши, мол, при такой конституции медсестры, разве можно меня заподозрить в чём-то ещё, кроме процедур – можно(!), притом, что процедура процедуре рознь), – начав в довесок ещё и ржать. А у неё, между прочим, в руках шприц, и при таком её сотрясении воздуха и себя вместе с ним, это небезопасно.
Левша же, посмотрев на дверь, ведущую в коридор, не согласился с этим предложением медсестры. – Тогда на кушетку, милок. К лесу передом, а ко мне задом, или наоборот? – сбилась с мысли и вследствие чего задумалась медсестра. А если уж медсестра в таком на счёт своих действий замешательстве, то, что уж говорить о Левше, который, конечно, не в первый раз подставляет свой зад под уколы, но может сейчас особенный случай и медсестре нужна его особенная часть тела, чтобы точечно доставить лекарства до своей области применения. И Левша стоит в растерянности и ждёт, что на его счёт решит медсестра. А медсестра в свою очередь не понимает, чего это её пациент упорствует и не хочет делать то, что ему хорошими пока словами сказали. И она даёт ему последний шанс, спрашивая. – И чего мы ждём?
Ну а Левша до этого момента знал, чего он ждал, – её уточняющей команды, – то после этого её вопроса уже ничего хорошего от неё не ждёт. И от того он молчит и только в ответ глупо глазами вращает. Ну а медсестра вот как раз такие на себя взгляды терпеть не может, она прекрасно знает, что они значат, – я вас не понимаю, и не собираюсь вас понимать по причине вашей толстокожести, – и они её естественно больше чем нервируют – она тут же выходит из себя.
– Ах, вот значит, как ты на меня и на всё это смотришь! – закипает в ярости медсестра, и Левша даже не понимает, как всё это с ним получилось – он взял, стянул с себя штаны и всех удивил тем, что брякнул: Не хотите к себе задом, тогда пусть будет по-вашему, передом.
Ну а то, как на всё это дело посмотрела медсестра-попадья, то этого эта история, выдуманная в центре по дискредитации сопротивления пациентов, ещё называемых центрами реабилитации, пока не применены все меры воздействия на Левшу, умалчивает, а сам Левша ни каким местом о ней слыхом не слыхивал. Его если и водили на уколы, что было крайне редко, то не в одиноком качестве, а в связанном по рукам и ногам, при обязательном сопровождении санитаров состоянии. И здесь причина и следствие находятся не в той последовательности, как можно изначально предположить – его связали не для того чтобы он не оказывал сопротивление в деле поставки укола, а ему крайне понадобился успокаивающий укол, по причине того его буйного поведения, которое и привело его к такой связанности.
Между тем из последующих слов Левши для Гая начинает проясняться, почему Левша так добродушно отозвался о Макарии. Как со слов Левши выясняется Гаем, то Левша не так-то прост, как он на первый взгляд всем кажется, и он по дьявольски коварен по отношению к своему идеологическому противнику, людям в медицинских халатах. И он не ограничивается прямым упорным сопротивлением врачам, пытаясь их своими дерзкими и неоднозначными ответами спутать с мысли, и отрицать очевидное, – я доктор, как бы вы мне доктор обратное не говорили и в качестве доказательств не тыкали мне в лицо мои плохие анализы и кардиограммы (я знаю, как обстоят у вас дела в регистратуре, одни манипуляции), буду утверждать, что я всецело здоров и только лишь немного ослаблен в силах, из-за того, что вы меня отсюда никуда не выпускаете, – а Левша ведёт свою многоходовочную игру с врачами.
Так отлично зная склонность врачебного персонала быть на острие своего профессионального значения, ещё в кругах простых и далёких от науки, а ближе к греховному, называемого честолюбием, где для него внутри и вокруг себя и авторитетов никаких нет, кроме разве что только себя, а для виду он, конечно, признаёт авторитет некоторых врачей, в своей сфере специализации признанных всем медицинским сообществом, и даже в своих разговорах на них ссылается (но не без своих сомнений), вовсю использует против врачей эту их слабость, которая по себе и не слабость, а необходимое для врача качество его самодисциплины. Ведь врачебное честолюбие подстёгивает врача к полной отдаче себя своему делу и пациенту. Что ещё в большей степени способствует его выздоровлению.
А не присутствуй в душе врача такого целеустремления, быть самым лучшим из лучших, то и его пациент при виде всей этой нейтральности к себе отношения со стороны своего лечащего врача (и это ещё нейтрально сказано), само собой решит, что дела его плохи, раз его врач не выказывает никакого оптимизма при виде него и его болезни, и пустит на самотёк лечение своей болезни. Но как говорится, в любом деле не без своих крайностей и заскоков, которые ничего хорошего не несут бросившимся в эту крайность людям, и не важно с какой стороны белого халата они находятся (тем, кто находится внутри это бросание в крайность грозит не поощрением со стороны руководства, тогда тем, кто находится вне его, от этого крайне не легче).
– Для меня в этой, и ни в какой другой жизни авторитетов нет! – вот в таком твёрдом убеждении своей гениальности, смотрит на своих коллег на медицинском поприще, любой из новоиспечённых врачей. И для таких его мыслей есть весьма существенные аргументы – 6 лет медицинского института, пару лет ординатуры и главное, он устоял на ногах при виде трупов в морге, тогда как всех остальных стошнило, рядами покосило на пол и вынесло под ручки санитарное руководство.
При этом новоиспечённый врач, как человек достаточно умный, чтобы понять, что это его понимание себя с гениальной буквы, не то чтобы не будет принято на ура его коллегами по медицинскому цеху, а это его убеждение, вполне возможно, что вызовет у них свои сомнения с ехидными замечаниями (ясно, что из зависти), вслух обо всём этом не заявляет, а заводит околичные разговоры со ссылками на гениальных людей из медицинской сферы деятельности, чтобы подвести всех этих людей, своих коллег, дюже завистливых, к пониманию своей бесспорной гениальности.
– Вот я думаю, – из глубины собой же пущенной струи сигаретного дыма, заводит свой разговор среди своих коллег по медицинскому цеху, уже даже не новоиспечённый доктор, а доктор со стажем своего непризнания, доктор Боткин. И у него, кажется, всё для своего признания есть, и знаково уважаемая среди докторов фамилия и громкие на всю клинику истории болезни его пациентов, а его всё равно до сих пор в этом качестве не замечают. Мол, и истории с его пациентами, не по медицинским аналогам громкие (они с криминальным подтекстом), и общего у него с великим предшественником только одно, человеческий организм. Пристрастно завистливы, одно слово.
– А так ли бесспорен авторитет мифического Гиппократа? – даже и не поймёшь, утверждает или вопрошает своё окружение в курилке доктор Боткин, взглядом обращаясь к своему идеологическому противнику и чуть ли не антагонисту, доктору Макарию, с кем у него сразу как-то не сложилось диалога, и у них были крайне противоположные взгляды, если не на всё, то на самое для доктора Боткина главное – на него самого. Ну а если твои фундаментальные основы подвергаются сомнению, то какая идти может речь о конструктивном сотрудничестве – одна только неприязнь и придирчивость друг к другу. И, конечно, доктор Макарий, видя перед собой, даже не доктора Боткина, а его переходящую все пределы дозволенности дерзость – посмел замахнуться на святое для каждого врача имя, и не просто имя, а фундамент и опору мысли для каждого врача, – не может не подавиться дымом при виде такой кощунственности, прозвучавшей в этих святых для каждого врача стенах. А как только он с трудом прокашлялся, то тут же встаёт на защиту всех униженных и оскорблённых этими словами доктора Боткина людей.
– Сегодня у него Гиппократ вызывает сомнения в своей историчности, а это по другому и не трактуется (а по сути это значит, что он низвергает авторитеты), а завтра, когда и авторитетов уже не будет, то на кого спрашивается, он предложит равняться? – вот как понимает всё сказанное Боткиным Макарий.
– А что вас так не устраивает у Гиппократа, может быть клятва? – с глубоким намёком на небрежность к исполнению своих обязанностей, с подковыркой задаёт вопрос Макарий, чем перекашивает лицо Боткина в злобе на то, что табачный дым попал ему в глаз.
– Вы как всегда утрируете. – Парирует ответ Макария Боткин. Ну а Макарий идёт на хитрость и проявляет глухоту своего слуха, который на уровне своей слышимости Боткина, делает невероятно интересные и смешные выводы. – Ай, яй, яй, господин Боткин, зачем же так открыто высказывать ваши нетрадиционные взгляды на лечение, – назидательно качая головой, говорит Макарий, – И я, конечно, понимаю вас и ваши целеустремления найти лекарство от всех болезней, ведь каждый врач, в том числе и я, всегда находится в поиске этой своей панацеи, но нельзя же быть столь близоруким, останавливаясь на том, что тебе больше всего ближе. – Макарий многозначительно, под смешки своих сторонников, то есть всех вокруг, уставился взглядом на ту близорукость рук Боткина, около которой находились в своей близи его руки и на которую Макарий так пространственно намекал.
– Хотя и в этом я вас понимаю, – с воодушевлением, которое придаёт раздувшийся от возмущения вид Боткина, продолжает Макарий, – все нынешние болезни в основном носят не природного свойства характер, а причиной их возникновения стала современная среда, с её направлением на отстранение человека от любого рода деятельности. А вот этот застой мысли и физики тела, и ведёт к облегчению рассудочной жизни человека, который и раньше ничего вокруг дальше себя не видел, – я мера всему и всё вокруг подчинено моему обустройству, – а сейчас, когда это всё воплотилось в реальное его обустройство, то он уже идейно обращается к себе за поисками ответов на любого рода вопросы, видя только в себе ответы.
И вполне наверняка, Боткин нашёл бы, что этому Макарию возразить, и это не была бы пустая отговорка: меня не так все поняли, – если бы в этот момент со стороны дверей ведущих в соседнее от курилки помещение, вдруг не донеслись знаковые звуки, которые всегда сопровождают действия людей заглянувших сюда не только покурить. А так как связь между этими звуками и ведшимся разговором Макарием определённо прослеживалась, и можно даже сказать больше, Боткин не сомневался в том, что Макарий непременно всем этим воспользуется, чтобы его ещё больше принизить, то на этом разговор между ними заканчивается, и Боткин немедленно покидает своды этого помещения, но при этом обещает не забывать Макария и обязательно вернуться.
Так что зная в каких сложных отношениях пребывали между собой эти люди науки, а об этом всём, уж никто не знает откуда, знал Левша, не представляет большого труда сбивать мысль и накалять внутреннюю обстановку своего лечащего врача, доктора Боткина. Правда лечащим врачом Левши был не доктор Боткин, а доктор Белоглазов, но это мало что для Левши меняло – у него на каждого врача этой больницы был собран свой компромат, который он соответственно специфики этого учреждения назвал историей болезни.
– И если в истории болезни пациента, пошагово, начиная со времени возникновения и описания симптомов, расписано течение его болезни, то в истории болезни доктора, – на этой мысли Левша памятливо заглядывает в одну из ячеек своей памяти, где находится картотека с этими историями болезни. После чего он по памяти выбирает для себя наиболее знаковое на данный момент лицо доктора, и начинает вчитываться в его историю болезни. – Так вот, – многозначительно говорит Левша, переворачивая первую страницу этой относительно других пухлой папки, – доктор Белоглазов. И в первую очередь возникает вопрос, почему этот доктор представляет для нас особый интерес? – задаётся риторическим вопросом Левша, для которого этот его вопрос не вопрос.
И он-то уж точно знает, почему ему так этот доктор Белоглазов интересен и почему его папка самая пухлая из всех. Да хотя бы потому, что он и есть лечащий врач Левши, и его к Левше интерес не мог не вызвать ответной реакции интереса у Левши. И если на первых порах такая заинтересованность к себе со стороны доктора Белоглазова вызывала симпатию со стороны Левши, на всё тех же порах занимавшего скорее настороженную позицию по отношению к медицинскому персоналу, чем другую, где в нём даже прослеживалась доверительность отношений к человеку в белом халате. То вот когда он услышал, и при том совершенно случайно, – когда он задержался в том самом, соседствующим с курилкой помещении, в одной из тамошних кабинок, – на кого опирается в своей работе и кто ходит в моральных авторитетах у его лечащего врача, доктора Белоглазова, то у Левши на всех одновременно врачей открылись свои было затуманенные признательностью глаза, и с этого момента в лице Левши на свет явился первый ненавистник и сопротивленец всей этой врачебной системы.
– Я, говорит Белоглазов, особо уважаю незабвенного Павлова Ивана Петровича. И благодаря его методике, я не одного пациента поставил на ноги и вывел в люди не припадочным, а человеком ответственным за свои неблаговидные поступки. – Вот прямо так, без всякого сожаления своих излеченных этой страшной методикой пациентов, и осуждения себя со стороны своих коллег, как и должно быть, заявляет доктор Белоглазов. И Левша хоть и находится за стеной в другом помещении, он прямо перед собой видит его усмехающееся лицо. И теперь Левша заодно видит, как он был наивен в том, что во всём доверился своему врачу, который, как сейчас им выясняется, о нём и вовсе не думал и даже в упор не видел, видя перед собой только его рефлексию.
– И глаза у него не белые, а стальные до своей жестокосердности и беспощадности к любого рода неповиновению. – Кусая в исступлении свой кулак руки, начал темнеть мыслями Левша по отношению к своему лечащему врачу.
А там, в курилке, между тем не успокаиваются, и все эти представители врачебного сообщества продолжают свои на бытовом уровне дискуссии. И если бы Левша своими ушами не услышал, о чём они между собой говорят и что их на самом деле волнует, – да те же самые неурядицы, которыми занят самый обычный человек, – то он бы ни за что в это не поверил. Ведь он до этого времени смотрел на врача с позиции своей недосягаемости его значимости, чуть ли не полубога – и это не плод разумения больного, воспалённого жаром от повышенной температуры, а это что ни на есть реальность и истина, подкрепленная логикой мышления человека. Ведь недосягаемость есть основная характеристика этих обожествлённых человеком существ, и значит, врач, заслуженно или не заслуженно, что не столь важно, вполне мог видеться в таком полу божественном качестве больными, и не обязательно в тяжёлом состоянии.
А тут, как Левшой прямо сейчас выясняется, врачей волнует всё тоже самое, что и его, и они дискутируют не о возвышенных вещах и мировых проблемах, а им интересней потрепаться о том, как там сегодня выглядит новенькая докторша и как бы половчее затащить её в койку. Ну а от этих последних слов, которые себе позволил высказать вслух всё тот же доктор Боткин, у Левши прямо ум за разум зашёл. – Если уж врач не знает, как затащить человека в койку, то, что он тогда за врач такой?! – Левша прямо-таки потрясён тем, как мир врачей пал в его глазах и обесценился в своей малой грамотности. В размышлениях о чём, Левша и погрузился в свои тяжёлые думы о природе характера жизни врачей. О которых он, как оказывается, совсем ничего не знает, а всё то, что он о них раньше знал и думал, есть всего лишь продукт мифотворчества.
– Сдаётся мне, что и Гиппократа никакого не было, а его специально придумали, чтобы было на кого ссылаться, когда от новоиспечённого лекаря требовали обоснований его применяемого метода по излечению хандры у какого-нибудь важного господина. – Принялся размышлять Левша.
– А вот скажи-ка мне ты, сучий потрох, на каких таких основаниях, ты решил, что именно такой подход к моему заболеванию самый верный? – задастся вопросом великий стратег, первый гражданин, демократ и балагур Эллады, Герофил, лёжа в неглиже и жаре под опахалами, и не имея возможности поднять голову по причине силы тяжести, навалившейся на него хандры, вперемежку с принятым вчера от неё, паскуды, алкоголем. А вот Аристофан вчера обещал совсем другое средство излечения от этого подлого состояния не увлечённости своей и жизнью местных горожанок в туниках, в сторону которых, Герофил был такой большой ходок.
– Только Дионисий со своими плодами сумеет излечить твой недуг. – Так живо и уверенно заявляет этот Аристофан, что Герофил тут же убеждён им. После чего Аристофан достаёт уже приготовленный кувшин с живительной влагой и Герофил, опоенный Аристофаном, даже не замечает, как у того трясутся руки и он половину целебной жидкости в виде вина, льёт мимо предоставленной ему чаши для лечебной жидкости. А затем, после нескольких подходов к этой чаше, он уже за собой всё того же не замечает, и ещё того, как и когда это он оказался на месте Аристофана, где теперь уже сам пытается разогнать в нём его хандру, которая в отличие от его хандры была куда как цепче, и она склонила Аристофана к тому, что он повалился на пол и не мог, ни бэ, ни мэ, сказать. Хотя ещё пять минут назад порывался сорвать с себя одежду своей скромности и сделать камин-аут – рассказать всем, что он не уважаемый всеми гражданин свободного на волеизъявления государства, а самый последний сатир, который жизни своей не представляет без этих своих сатирических пьес. А вот при чём здесь пьесы и склонность Аристофана ко вне сценическому поведению сатира, то этого Герофил так и не уразумел. А когда утром он себя на половину уразумел и при этом в состоянии крайне не близком от своего разумения, то ему сил хватило лишь на два слова: Воды и лекаря, падлы, ко мне (последние слова относятся не к свободным гражданам Эллады, и значит, не учитываются).
Так что когда перед добропорядочным, когда он не склонен прибегать к дарам Диониса, гражданином Герофилом, предстал выловленный на рынке представлявшийся себя лекарем от всех болезней, а от хандры, тьфу, за раз излечу, лекарь Аксплепиад, то Герофил уже горьким и крайне болезненным для его головы опытом наученный, не сразу в петлю доверия полез, а для должного понимания лекарем того, что от него требуется и что с ним тут шутки не будут шутить, призвав в наблюдатели самого верного своего раба Мавра (свободные граждане, так уж повелось, не могут чувствовать себя свободными, если кто-то рядом с ними не испытывает несвободу – а так он посмотрел на тяготы несвобод чуждых ему людей и тут же начинает переполняться свободными чувствами и гневными волеизъявлениями в сторону чужих несвобод), с огромным ножом на поясе для убедительности его незамедлительности действий, обратился к нему с этим первостепенной важности для обоих вопросом.
Ну а Акслепиад при виде такого обстоятельного подхода к своему здоровью со стороны своего нового клиента, сразу же понял, что тут нужен особый подход, и простыми отсылками к простым историям болезней не обойдёшься. И только попробуй только сослаться на лёгкость бытия рыболова из Пелопоннеса, у которого и имени нет, после того, как он ему оказал лекарскую помощь, то тебя тут же, за раз уличат в оскорблении чувств свободного гражданина – меня(!) сравнить с рыболовом! – Нет, тут нужно что-то обязательно мифическое придумать, а иначе кто ему поверит. А как не поверят, то тут-то Мавр и сделает своё дело. Ну а чем всякий миф характеризуется, всё верно, своей несопоставимостью с реальностью, и чем больше далеки от реальности озвученные в мифах факты, то тем миф ближе к реальности. Вот такая сама в себе исходность, идиома, получается.
– Я, свободный гражданин Эллады, а не какой-нибудь там уличный самозванец, который лечит ради своей потехи и наживы. А я человек учёный и все мои методы лечения проверены временем и базируются на научных изысканиях самого Гиппократа. – Не моргнув и глазом, что говорит о крайней степени честности, высказался Акслепиад.
– Гиппократ? – задумчиво вопросил себя Герофил. – Что-то знакомое. Кто таков, этот твой Гиппократ? – не найдя ответов у себя в голове, задаётся вопросом Герофил.
Ну а Акслепиад знает, что говорить этим людям, без сомнения смотрящих только в одну сторону, сторону Олимпа. – Да, люди нынче уже не те, что прежде, – с чувством глубоко сожаления заговорил Акслепиад, – нет в них прежнего благочестия, и они за своим собственным обожествлением, стали постепенно забывать богов. – И видимо Герофил ещё не до конца потерял связь со своим рассудком, и он, уловив, куда клонит лекарь, обрывает его на этом месте. – Ладно, на этом достаточно. Я уверовал в тебя. А теперь я слушаю, что ты мне предложишь для моего излечения. – Сказал Герофил и при этом так многозначительно посмотрел на Мавра, что у Акслепида всё желание лечить добрым словом улетучилось, а в голове только одни нехорошие слова остались.
– Я в своём подходе к излечению использую систему Эпикура. – Заговорил Акслепиад и, судя по вытянувшемуся лицу Герофила, то вот с системой Эпикура он был знаком (скорей всего с основными её принципами).
– Я бы вам для начала рекомендовал принять освежающую ванну, а затем с помощью прогулки укрепить свой дух. – Сказал Акслепиад. И Герофил ничего не имел против этого предложения Акслепиада, если бы не одно но, его тело его не слушалось и под своей тяжестью не могло встать на ноги. И Акслепиад не был бы врачевателем, если бы не мог предвидеть все те трудности, которые встают на пути выздоровления больного, и он, заметив сомнение в глазах Герофила, делает важное заявление. – А учитывая ваше состояние и имеющиеся у вас трудности на пути к этим оздоровляющим тело процедурам, то для восполнения сил в вашем организме, прописываю вам кружку живительной влаги из садов Диониса. – И только было Герофил собрался возмутиться, что он как раз благодаря своему поклонению этому подлецу Дионису, оказался в таком неподъёмном положении, как Акслепиад предупредительно подкрепляет это своё решение получившим в последнее время известность правилом подобия. – Подобное подобным лечат. – Акслепиад этим своим заявлением срезает любые поползновения Герофила на возмущение.
– Нет, так лечить нельзя! – уже и непонятно к какому времени, и к какому лечащему врачу относились эти слова Левши, но они, тем не менее, были сказаны. А если учесть тот момент, когда они были им произнесены себе в нос – это случилось тогда, когда он из памятливых архивов достал историю болезни доктора Белоглазова (на папке было написано «История взлёта и падения доктора Белоглазова в моих глазах») – то не трудно догадаться, о ком шла речь.
И вот Левша, имея для себя столь крепкие основания относиться к врачебному персоналу предвзято и грубо, и начал вести против него свою подрывную деятельность, играя на их честолюбивых чувствах. И он, зная об имеющихся во врачебном стане разногласиях между отдельными знаковыми врачами, умело использовал это в своём противостоянии с ними.
Так в каждом медицинском сообществе имелись свои знаковые фигуры, и хотя они все вышли из одних институтов, они, тем не менее, придерживались своего отдельного медицинского мировоззрения на свою профессию (а сколько врачей, столько и мнений на способы излечения болезни), и как следствие этого, эти знаковые фигуры медицины, становились приверженцами определённого подхода к лечению со своими принципами и методиками, которым они придерживались и продвигали в своей практике. И, конечно, тут не обходилось без своих спорных утверждений и противников.
Так что когда Левша за между делом, при разговоре о своём здоровье с доктором Белоглазовым, смел утверждать, а вот доктор Макарий иначе смотрит на пути выхода из того болезненного тупика, в котором он, Левша, оказался, следуя рекомендациям его, доктора Белоглазова, то Белоглазова прямо-таки на глазах Левши корёжило, а Левше вроде как становилось легче. И это можно сказать, тоже своя методика облегчения своего страдания. А то, что облегчение происходит за счёт других, то это всего лишь поверхностный взгляд на всё это, а если уж зрить в корень, то это всё есть результат взаимовыручки между людьми, по принципу сообщающихся сосудов.
Между тем Левша, верно догадавшись насчёт Макария, не стал развивать дальше мысль, а углубившись в собственные мысли, дал немного времени Гаю для собственных умозаключений. Когда же эта вдумчивая пауза проходит, Левша, видимо всё расставив по своим местам насчёт использования в будущем этой полученной от Гая информации, распрямляется в лице и с напускной или искренней, что поначалу и не поймёшь, доброжелательностью обращается к Гаю.
– Но всё же есть свои исключения из правил, – говорит Левша, – врач-ординатор со звучным именем Сирена. Это мы её так между собой прозвали, а так её зовут Варвара, – Левша делает оговорку, – при звуке её голоса обо всём забываешь, и как тебя звали в том числе. – Левша теперь уже мечтательно уходит в себя. Так проходит где-то с минуту, а для Левши может и целая история трагической любви. Где всей команде корабля, на котором он плыл, залепили уши воском, а его вместе с Одиссеем привязали к мачте корабля, когда их корабль приблизился к острову сирен, чтобы они могли услышать голос сирен и остаться живыми. И лучше бы Левша не послушал свою гордость, а залепил вместе со всеми свои уши воском и спокойно жил как раньше. А теперь разве это жизнь, после того, что он там вместе с Одиссеем на острове услышал. И если физически они с Одиссеем выжили, которого он, кстати, после этого на дух не переносит, как и тот его, то душой они умерли, оставив навсегда себя там, на острове.
В общем, Левша возвращается из своего мысленного углубления уже не таким одухотворённым, а с некоторой претензией к этому пустому миру, и делает разворот на 180% от прежнего своего рассуждения. – Хотя с ней не всё так просто, – рассудительно заявляет Левша, – и вполне возможно, что врачебный персонал посредством её использования проверяет нас на чувствительность и на восприятие окружающего мира. Живое, как известно, всегда тянется к красоте, и если в тебе ещё есть крупицы разума, а они отвечают в человеке за живое, то они обязательно среагируют на красоту и проявятся. – Эти слова Левши заставили задуматься Гая, как, впрочем, и самого Левшу, но только на совсем чуть-чуть. – А врачи тебя постараются поймать на этом. – Добавляет Левша, затем делает многозначительное лицо и говорит. – Но ничего, я тебе, если что помогу. Как возникнут сложности, то смотри на меня и я тебе подскажу, что нужно делать.
И тут Гай сам того не понимает, что на него нашло, – может от долгого вынужденного молчания у него возникла потребность словесно заявить о себе, – и он с долей строптивости в голосе, вопросительно возражает Левше. – А я что, своим умом не справлюсь. – Левша в ответ слегка отстраняется от Гая назад, откуда он изучающе на него смотрит и, улыбнувшись, делает свои выводы из увиденного в Гае. – Проявление крайней степени упёртости, со своим фанатичным уверованием во что-то исключительно своё, это то, что нужно, – сказал Левша, – а вот то, что ты в отстаивании своей правоты полагаешься только на себя, то это самая распространённая ошибка среди людей, симулирующих своё потерявшее равновесие состояние. В таком деле, как расстройство личности, должно иметь место…– но Левше не удаётся закончить своё предложение, а Гай не успевает возмутиться по поводу таких предположений на свой счёт со стороны Левши: « С какой стати, он решил его записать в симулянты?!», – так как дверь в палату открывается и находящихся в палате пациентов в момент обдаёт свежестью открытий со стороны двери, а Левшу как ветром сдуло от койки Гая. Гай же только было повернулся в сторону двери, чтобы зафиксировать для себя того, кто там вошёл, как он уже замечен вошедшими – сбивающей со всякой мысли и дыхания девушки высшей совершенности и находящимся в её тени доктором с прямолинейным взглядом на него своих светлых глаз, которые прямиком направились к нему.
– Ну что ж, – остановившись рядом с койкой Гая и окинув его с этой близи, заговорил, как уже понял Гай, доктор Белоглазов, – надеюсь, что тут у нас не самый рядовой случай, с отсылкой на расслоение личности, где каждый себя мнит многослойной, со своими сложностями идентификации, личностью типа луковицы. А здесь действительно уникальный случай. – И Белоглазов так неоднозначно посмотрел исподлобья на Гая, что Гай почувствовал себя припёртым к стенке – этот взгляд Белоглазова прямо говорил, что он его насквозь видит, и предупреждает, чтобы он даже не думал перед ним хитрить и юлить, а если уж записался в люди, которым понадобилась врачебная помощь, то должен быть откровенно честен в своих ответах. И если доктору потребуется информация о его беспорядочных связях на стороне, то нечего даже думать возмущаться: «Это моё личное дело и никого не касается!», и задаваться вопросами: «На кой вам всё это надо знать?», а нужно сразу же, без запинки и заминки на укрытие самых скверных фактов из своей биографии, рассказать о своей второй жизни небезупречного человека (может это нужно знать Варваре-Сирене, она ищет для себя достойного жениха, а ты, дурак, упираешься).
Но доктор Белоглазов одного не учёл – Гай не самый обычный пациент, а он и сам врач, и его на один, хоть и внушающий ужас и уважение взгляд, не проймёшь. И Гай всё также непоколебимо, без того трепета во взгляде, который невольно появляется в глазах больных своими болезнями пациентов, смотрит в ответ на доктора Белоглазова, который тут же подспудно ощутил, что с этим пациентом что-то не так и с ним ему, пожалуй, придётся повозиться. И только забравшийся на свою койку Левша, преисполнился воодушевлением, при виде того, как крепко отстаивает свои взгляды на себя новичок – не иначе у него крепко что-то в голове засело или свихнулось, раз он так держится.
Между тем, доктор Белоглазов, видя какую крепкую позицию занял Гай, предпринимает в его сторону явно провокационный шаг. Он берёт стоящий у койки стул и прямо-таки ведёт себя бесцеремонно и не по-джентельменски по отношению к сопровождающей его даме (ну и что, что она находится у него в подчинении) – он не предлагает ей на него присесть, а придвинув его ближе к голове Гая, сам на него садится. Да так уверенно и крепко, как будто делает вызов всей внутренней джентльменской конституции Гая. – Ну и что ты на это всё скажешь? – так и читается во взгляде Белоглазове вот эта его принципиальная позиция на себя – вы все постоите, а я, несмотря на всю вашу красоту и на ваши прекрасные ноги, требующие к себе осторожного обращения, буду сидеть на своём заду и в ус не дуть. Тем более у меня усов нет, ха-ха.
И Гай сейчас бы, всё что он в один момент о нём и обо всех его чёртовых родственниках надумал, ему в лицо кулаком сказал, если бы на его месте был неопытный пациент, а так как Гай был посвящён в некоторые тайны медицинской профессии, где от первого знакомства в огромной степени зависит будущее лечение, и поэтому врачи, зная, как пациент подчас зажат и на счёт себя неоткровенен, для того чтобы расшевелить его, применяют различные психологические уловки и ухищрения. А это, несомненно, была психологическая уловка. А раз так, то это с хорошей стороны характеризует доктора Белоглазова, ну а Гай не ловится на эту его уловку. А Гай всё последнее несказанное, а красноречивыми намёками ему высказанное, пропускает мимо себя и даёт ответ на самые первые слова Белоглазова.
– Ну, человек, как минимум, природно двуличен. – Говорит Гай. – И это не та, всем известная лицемерная двуличность, а это природа, таким копировальным образом, обеспечивает запас прочности человеку. И если одна личность на протяжении своего жизненного пути, в ничто поистреплется, то как говорится, тут-то у человека и откроется второе дыхание, – а оно несомненно принадлежит второму человеческому я, – и это второе я, выйдя из тени первого я, вынесет то, что не донесло первое я. Ну а что насчёт луковицы, – размеренным тоном сказал Гай, бросив взгляд в сторону Сирены, – то её умение вызывать слёзы сочувствия, – а это, несомненно, ответная чувствительная реакция, – мне однозначно импонируют, и я не против так зваться.