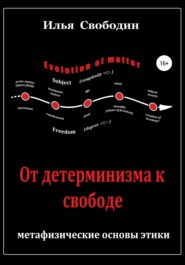По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культ свободы: этика и общество будущего
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но не следует думать, что поскольку понимания всей безысходности ситуации оказывается недостаточно, разум тут не при чем. Это именно он, в конечном итоге, скрывается за моралью. Просто не все, что мы мыслим выглядит разумно и здраво. Чаще бывает наоборот. Там, где логика видит бесперспективность сопротивления, разум заставляет идти на подвиг, а там, где логика подсказывает необходимость насилия, разум самоубийственно отказывается творить зло – и для всего этого он выдумывает самые нелепые оправдания.
А началось все именно тогда. Человеку пришла пора впервые задуматься, и абсолютная необьяснимость принуждения к себе нашла выход в соответствующем способе обьяснения – абсолютно неправдоподобном. Что очень понятно, если вспомнить какое нервное то было время – время глубокой перестройки психики эгоистичного животного.
Всепроникающий страх, поглощавший первобытных людей, – за себя, сородичей, многочисленное потомство, оберегаемое всей стаей – проявлялся в различных формах неврозов, а коллектив-организм искал обьяснения – почему, помимо всего прочего страха, он боится сам себя? Иррациональность самопожертвования естественным образом дополнилась мистическим обьяснением этой потребности. Суеверие – первая попытка зарождающегося, пока еще коллективного разума дать ответ, и чем он был нелепей и красочней – тем казался убедительней, ибо примитивная фантазия, броская и безвкусная праматерь красоты, была такой же неестественной и внешней этому миру, как и мораль. В глубинах психики принуждение к жертвенности базировалось на все том же страхе, но его источник новорожденный разум обнаружил теперь вовне, придав ему форму некой трансцендентной сущности. Страх перед врагом подавлялся более страшным страхом – неведомого. Нечто уму непостижимое и принципиально отвергающее всякую попытку постижения; всемогущее но хорошее; требующее абсолютного подчинения и поклонения но при этом милостиво вознаграждающее усердных, воплотилось в понятии… Впрочем, тогда оно было настолько Великим и Ужасным, что не только не имело имени, но и карало всякого, кто имел наглость к нему обратиться. Так возникло понятие "священного" и зародились примитивные верования. Это был первый росток культуры, обосновавший насилие, а заодно и все вокруг, причудливыми мифами, и материализовавшийся в обрядах, которые соединяли в себе страх, фантазию и желание умилостивить неведомое божество.
Так, в условиях отсутствия личности, коллективный разум смог найти успешно работающий механизм поддержания морали, механизм настолько успешный, что его и сейчас невозможно остановить – "благоговение и трепет". Сами видите, друзья – с тех и до сих пор, "священное" намертво приклеилось ко всякому долгу, а страх неизбежного наказания за грехи остается надежной основой самого дикого мракобесия. Боязнь могущественных духов, стыдливо таящихся под каждым кустом, стала нашим своего рода биологическим наследием, таким же, какое демонстрируют давно одомашненные животные, по прежнему пугающиеся всякого шороха. Правда в отличие от животных, страх божественного дополняется любовью к нему, чистой и бескорыстной, гарантирующей счастливым влюбленным спасение и безмятежный сон праведников.
Каким могут спать только люди, не несущие ответственности за собственные поступки! Процесс "интернализации" самопринуждения – укрепление морали и воспитание личной воли – не останавливается, как и всякое движение к свободе. Но подмена свободы запугиванием себя сверхестественным, находящимся вовне, сдерживает его. Ибо ответственность, свобода и мораль в результате так же остаются где-то вовне, а обессиленный разум все никак не придумает более осмысленную причину, по какой ему надо себя принуждать.
– Коллективный быт
Любовь эта оказалась взаимной. Священное одобряло поклонение и проявляло благосклонность – а в чем еще был смысл поклонения? Так неведомое, или по крайней мере его лучшая часть, стало восприниматься как защитник, как помощник, а также как несущий компонент "мы", превратившись в дух коллектива, его бог и тотем. Другая часть породила запреты – табу, причины которых были часто случайны.
Сверхестественность принуждения, а особенно удобство подобного обьяснения, в качестве побочного эффекта привела к тому, что право сильного стало казаться таким же сверхестественным. Вероятно, это оживило иерархические инстинкты и придало иерархии новый смысл. В животных стаях воля вожака – еще не повод для воодушевления. Однако, чем больше требуется самоотречения, тем важнее роль вожака. Не просто сильнейшие, но уже главные, ведущие, несли больше ответственности и больше рисковали. Вожак породнился с неведомым, стал духовным лидером и образцом для подражания. Так к силовому авторитету добавился освященный суеверным страхом моральный, что придало потусторонним нравственным идеалам земное воплощение. Эта моральная узурпация также породила почитание старших, а потом и старейших, что будет понятнее, если учесть, что коллектив тогда был одной большой семьей, а вождь являлся и главой рода.
Почитание вышестоящих – пример морального чувства, возникшего в условиях коллективного быта. Но как возможно межиндивидуальное чувство в коллективе-организме? Я думаю ответ в том, что если на уровне рассудочном человек мыслил себя как "мы", чувства на такое не способны. Именно чувства помогали выявлять и убивать трусов и эгоистов, именно чувства были ответственны за сплоченность и героическую мораль, именно чувства регулировали коллективный быт. Ведь наши сложные чувства, по сути, имеют моральную основу, а значит и возникнуть могли только во времена подобного коллективного существования. Другим примером этих древних чувств могут служить чувства отвращения и стыда, которые находятся практически на границе бессознательного.
Не менее причудливой, чем протомораль, была и вся остальная культура. Жизнь внутри первобытного коллектива не сахар, что знает каждый живший в религиозной секте или на худой конец при научном коммунизме. Можно только догадываться, как из простых людей ваялись героические войны-альтруисты, чего стоит хотя бы обряд инициации! Первоначально "ядро" культуры было как бы бесструктурным, простым и цельным – полный отказ от своего интереса, взаимозаменяемость, никакой личной жизни. Вражда снаружи и давление внутри не позволяли упорядочить и сбалансировать отношения. Отношений, можно сказать, не было. Слепое подражание, стадный инстинкт, жесткое соблюдение бессмысленных ритуалов и обычаев, хранимых старшими и вошедших не просто в коллективную привычку, а затвердевших до уровня инстинктов, были единственными правилами поведения. Так надо, потому что так было всегда. Сомнение равнозначно гибели, причем от рук испуганных и рассерженных собратьев, ибо покушение на обычай – угроза всем нам, нашей идентичности. Степень косности иллюстрируется тем, что эта жизнь без всяких изменений протекала аж миллион лет. Разве можно такое вообразить в наше время, когда все рушится буквально на глазах?
– Мозг
Миллион лет оставили неизгладимый отпечаток в человеческом мозге. Эволюционная теория обьясняет возникновение и быстрый рост мозга необходимостью кооперации ради выживания, а некоторые этологи даже считают главной задачей быстрорастущего мозга необходимость отличать лгунов от честных кооператоров – конкуренция между теми и другими, то бишь волками и овцами была, так сказать, главным мотором роста. На менее циничный взгляд, все было иначе. Если посмотреть вокруг, то мы увидим, что люди и сейчас не особенно умны в этом отношении. Основная их масса потрясающе наивны и постоянно обманываются. Даже такой, куда более важный чем кооперация, инструмент эволюции, как брак, и то не привел к сколь-нибудь заметному улучшению в работе мозга. Для выживания отпрысков критично, если их родители были обмануты. И что мы видим тут? Уж как женщины умны в том, что касается разгадок мужских хитростей, чего стоит только женская интуиция – и то постоянно прокалываются. А мужчины? Вся их аналитика бессильна против женского коварства. А брак имел в запасе куда больше времени, чем кооперация. Более того – оба пола специализировались в своих распознавательных способностях, что намного эффективнее конкуренции с самим собой.
Мне представляется, что у лгунов не было сколько-нибудь серьезных шансов развить свой мозг – еще и сейчас предателей ненавидят сильнее врагов. Да и сама борьба велась не слишком мудреным образом – засады, дубины. Покорение природы тоже еще не стояло на повестке дня – сладить бы с себеподобными. Мне представляется, основным мотором роста мозга и его основной задачей как раз и был честный альтруизм, необходимый для сплочения рядов. Ведь что такое альтруизм на самом деле? Борьба с лгуном и эгоистом – но внутри себя. Замена животного "я", встроенного в гены, на человеческое "мы", встроенное в нечто несуществующее; замена своего интереса на полное слияние с коллективом; замена логики индивидуального насилия на коллективные беспредметные фантазии. Это только со стороны могло показаться, что все, что требовалось – слепое и беспрекословное подчинение. Коллектив – не командир и не начальник, отдающий четкие команды, одним подчинением тут не обойдешься. Чтобы "материализовать" коллектив, требовались иные способности – понимание коллектива, как самого себя, и поведение самого себя, как требуется коллективу. Суеверие – только одна сторона процесса. Суть коллектива как способа бытия – полное умственное единство во всех аспектах, будь то трансцендентные сущности, духи, обряды и обычаи, радость любви и победы над врагом, единое происхождение и общая судьба. Создать один большой мозг из многих маленьких – задача нетривиальная. Необходимость материализации коллектива как особого существа, как носителя коллективного сознания, потребовала появления речи и мышления, понимания и предвидения, а также общей памяти – возможности накопления и передачи информации между поколениями. Материализовался коллектив, таким образом, в голове каждого "гомо-коллективиуса", что теперь создает определенные сложности индивидуалистам.
– Разум, версия ?
Только нарождающемуся разуму были по плечу задачи материализации коллектива, а посему для последующего изложения полезно подчеркнуть различие между рассудком, как функцией индивидуального мозга, и разумом, как функцией коллективного сознания. Что такое рассудок животный? Это чистая рациональность, способность быстро считать, как у гончей, срезающей углы чтобы опередить зайца, или много помнить, как у белки, помнящей все места своих запасов. А что такое рассудок "сознательный"? Это внешне тот же рассудок, но сам ставящий себе цель – для начала, разумеется, выживание. Слово "цель" и предполагает "сознание" – счастливый обладатель улучшенной версии рассудка уже осознает себя как то, ради чего ему надо срезать углы, он самоидентифицировался, увидел "себя", свой "смысл", свой "интерес".
Ключ, запустивший процесс рождения разума – коллектив. Первоначальное сознание было коллективным, а выживание – совместным. "Интересы" проистекали в мозг извне, и этим четко отделялись от детерминированной внутренней программы, долгое время не оставлявшей ни малейшей возможности рассудку задуматься – а почему я, собственно, вечно срезаю углы? Внешняя к индивиду цель и стала родителем разума. Она сломала персональную эволюционную программу, внесла в мир диссонанс и заставила рассудок отделить "себя" – в виде коллектива – от остального, "привычного и понятного" мира. Цель, не заданная природой – точка, где начинают расходиться пути холодного детерминированного рассудка и мятежного свободного разума, озаботившегося первой абстрактной идеей – идеей "я", которое ? "мы".
И хотя до торжественного момента появления полноценного, автономного разума было еще довольно далеко, фактически, этот миллион лет в мгновение ока перечеркнул предыдущий миллиард. Он окончательно закрепил мозг внутри головы каждого члена коллектива и тем создал новую коллективно-биологическую сущность – сплоченное племя, где каждый готов умереть за всех. Долгое, успешное принуждение к отказу от эгоизма, к иррациональной жертве, непостижимой логически – не только причина появления чуждой животным героической морали, но и причина того, что мы до сих пор не можем постигнуть, почему другие нам иногда дороже себя, почему так хочется слиться с толпой и подчиниться массовому безумию, а также откуда же взялись эти загадочные нравственные законы, требующие отказа от своего интереса, когда в этом нет никакой ясной нужды. Эта непостижимость только подтверждает, что, как и миллиардный эгоизм, миллионный альтруизм для нас сегодня одинаково естествен – он следствие эволюции, а не тонкого расчета или пришествия неземных сил. По крайней мере, не для всех.
3 Справедливость и нормы
– Разлом альтруизма
Однако ничто не вечно. Миллион лет прошли безвозвратно, а вместе с ними и абсолютный альтруизм. Почему? Время всегда проходит безвозвратно. Что касается альтруизма, развитие мозга и непрерывное тесное взаимодействие в конечном итоге расшатали монолитное "мы". Самоотождествление со стадом постепенно устарело и в его члены закралось подозрение в непохожести, отличности их друг от друга. Коммуникация приводит к пониманию не только другого, но и себя, а "мы" неизбежно порождает "я". Ведь в конце концов, просто так жертвовать собой бессмысленно. Ради кого? Чем они лучше? В дело самоидентификации опять вступил конфликт "интересов", но уже на ином уровне – внутри коллектива. Амебный эгоизм, всегда таящийся в глубине каждой живой твари, перешел в новое качество и просочился в мозг. Можно сказать, что он был "разбужен" упорно проникающим извне героическим насилием протоморали. Ее проникновение внутрь шло параллельно с превращением "мы" в "я" (или, точнее с расщеплением первичной, исходной идентичности "мы" на "мы" и что-то еще – "я"). Это в сущности, был один процесс – процесс рождения автономного разума и свободного индивида. И будучи еще слабым, разум, однако, уже начал утверждать свою волю и отвергать безграничное насилие. В нем возникло робкое чувство справедливости – необходимости баланса взаимного давления членов коллектива, необходимости согласования их интересов, необходимости замены беспощадного альтруизма на более взвешенный.
Ослаб страх, возникли праздники, появились добрые и злые духи, а внутри коллектива – хорошие и плохие (более и менее полезные) люди. У людей появились прозвища. Хаотичная жизнь коллектива стала приобретать осмысленный, хотя и не преднамеренный, порядок. Можно сказать, что если взаимодействие в коллективе породило разум, то разум породил нормы взаимодействия. Нормы – это осознаваемые правила поведения и, следовательно, зачатки справедливости, потому что крайний альтруизм не требует норм. Норма разделяет людей, распределяет роли, а потому есть следствие учета каких-то интересов, какой-то компромисс. И компромисс, в идеале достигнутый не мерением сил, а пониманием другого, его нужд и потребностей.
Но это в идеале, до которого было еще идти и идти. В начале пути к идеалу нормы, разумеется, опирались на грубую силу, коль скоро сила была единственным понятным языком выражения интересов. А уже результатом норм стало самоограничение, необходимость следования правилам, появилось понятие о приемлемости и границах насилия. В условиях тотального насилия, а если брать шире – вообще детерминизма, норма – это всегда ограничение. И оно послужило в этих условиях добрую службу. Нормы стало легче обосновывать, поскольку сила, как аргумент, стала терять значимость. Нормы облегчали появление новых норм, а вместо силы значимость стали приобретать другие аргументы.
Способ утверждения первых норм не отличался от утверждения альтруизма. То же Священное Начало, которым разум пытался оправдать необходимость собственного принуждения, явилось причиной закостенения норм, божественная твердость которых обьяснялась именно их сверхествественным источником. Твердость норм, а точнее связанный с их нарушением страх, на долгое время отдалил людей от понимания разницы между законами природы и нормами общества. В чем разница между теми и другими, если нарушение обоих приводит к неминуемому концу?
– Рождение свободы
Появление норм и следование им стало следующим шагом по пути морального прогресса. Жертва перестала быть безграничной, а бесформенный альтруизм стал приобретать структуру. Если абсолютный альтруизм требовал абсолютного принуждения со стороны коллектива, то для появления норм и следования им требовался иной мотив – не просто индивидуальный, а добровольный. Так, вместе с первыми ростками свободы – как сопротивления бесконечному насилию, появились ростки истинного, непринудительного морального поведения. Но это все еще не была привычная нам мораль в смысле добровольной жертвы ради ближнего – жертв хватало и насильственных! Пока речь шла только о поиске меры и балансе. Можно сказать, что вдобавок к абсолютному альтруизму, на его фоне, стало появляться принципиально новое моральное явление, отталкивающееся – и отталкивающее! – и от насильственного альтруизма, и от природного эгоизма. Назовем его этикой.
Найденный и выраженный в норме баланс давления членов коллектива – это на самом деле баланс, предоставляющий возможность выбора между двумя непреодолимыми по отдельности и разнонаправленными силами – инстинктивным собственным интересом и принудительным интересом других (иными словами – "я" и "мы/ты"). Именно эта возможность выбора ответственна за рождение ростка свободы – добровольности, ибо делая выбор, человек привлекал или извлекал из себя некую новую силу, отсутствующую у животных – силу собственного свободного выбора, собственной зарождающейся личности. До этого исторического момента выбора у человека не существовало, инстинкты и насилие решали все проблемы "выбора" без него. И вот наконец рассудок окончательно стал разумом – он создал для себя новую возможность, он открыл для себя свободу, еще даже не особо погружаясь в размышления.
Конечно, описанный выбор и свобода скорее всего не были тем, чем они кажутся. И то, и другое существовало лишь абстрактно – как возможное состояние равновесия раскаченного маятника. Люди метались между двумя силами, от собственного интереса к благу коллектива и назад, и нормы оказывались там, где их заставало это метание – в совершенно случайных точках. Но как и маятник предоставленный самому себе, точка равновесия все лучше проявлялась в поведении и нормах, а выбор между двумя силами стал постепенно осознаваться и морально оформляться – как выбор между старой ценностью коллектива и новой ценностью человека. Так этика, с самого своего рождения стала двоякой – стремящейся с двух сторон к точке баланса, а вовсе не обслуживающей однонаправленное принуждение к личности во имя общества, как это любят представлять идеологи коллективного счастья.
На рис. 1.3 я попытался выразить новое моральное явление визуально – заменой монолита альтруизма ломаной, отражающей слабые попытки движения к эгоизму. Ломаная уже имела свой вид для каждого члена коллектива (и вероятно менялась со временем), поскольку сочетание альтруизма и эгоизма индивидуально, пусть нормы и общи – добровольность рождает индивидуальность. Небольшой излом на прямой эгоизма – моя догадка, что нормативное стало проникать и в отношение к врагам. Например, врагов стали брать в плен и не только сьедать, но и рассматривать, как-то задумываться и, кто знает, видеть в них подобие человеческих существ?
– Свобода и выбор
Давайте на минуту остановимся в этой важной точке и опять поразмышляем о свободе. Почему появление выбора ознаменовало приход свободы? Выбор демонстрирует наличие некой новой выбирающей "силы", вместо двух противоборствующих сил и детерминированного исхода их борьбы. В чем природа этой "силы"? На мой взгляд, в преодолении детерминизма, сопротивлении ему, ведь если исход более не предрешен, детерминизм отступает в сторону. А значит, эта новая "сила" и есть свобода, противоположность детерминизма. Таким образом, сущность выбора заключается в возможности отвергнуть альтернативу, которая нам не нравится, а не выбрать ту, что нравится. И этот добровольный отказ от насилия, зла – проявление свободы.
В тех суровых условиях выбирать то, что нравится вряд ли бы получилось, поскольку нравиться там по сути нечему. Первые альтернативы человека – страх смерти и страх сородичей, т.е. весь его выбор – лишь попытка избежать худшего исхода. Обозначив его альтернативы как эгоизм (насилие природы) и альтруизм (насилие сородичей), мы увидим, что новая, рождающаяся личность, хоть и именуется привычным словом "я", вовсе не эквивалентна животному "я" индивида, гирей висящему на весах свободного выбора "я-мы". Истинное, личное "я" – это не животное "я", которое есть лишь набор инстинктов, чистый, незамутненный эгоизм, но также это и не полное растворение в коллективе, абсолютное самопожертвование. Личность, отвергающая насилие – это что-то эфемерное, колеблющееся, склоняющееся то в одну, в другую сторону и потому вынужденное постоянно взвешивать альтернативы, искать и размышлять, оставаясь как бы в невесомости вечного свободного выбора. Этическую дилемму "я-ты", таким образом, следует правильно понимать как дилемму "эгоизм-альтруизм", "себялюбие-самоотверженность", в то время как этичная личность, свободное "я", располагается, как я надеюсь мы увидим дальше, где-то в ее середине. Эта середина – и есть свобода, которая пока не проявляется явно по причине отсутствия подходящих альтернатив, но которая уже мучает человека, заставляя сомневаться в своем выборе.
Источник сомнений, которые абсолютно не свойственны животным – отвержение предзаданного, одной из альтернатив. Рассудок вычисляет исход борьбы сил детерминированно, поскольку эти силы ощущаются и результирующая возникает сама по себе, варьируется лишь степень точности вычисления. Но отказ от подчинения силе рано или поздно ставит вопрос о смысле и о цели. Сомнения ведут к тяжелым раздумьям, свойственным не рассудку, но разуму.
Но не иллюзия ли свобода? Ведь всякая альтернатива – следствие детерминизма, а значит любой наш выбор – так или иначе предзадан! Возможно. Но разве не ощущаем мы свое "я", свою свободу, как самое что ни на есть реальное? Мы можем скорее сомневаться в существовании мира, чем самих себя! Тот факт, что отвержение одной альтернативы означает автоматический выбор другой не столь важен, в конце концов, если все альтернативы связаны с насилием, свобода заставит нас найти какой-то иной выход. Разве не для этого у нас разум? В отличие и от рассудка, который стремится к достижению заданной цели, а значит "выбирает" детерминированно, и от коллективного разума, "выбирающего" цель вместе со всеми, индивидуальный, автономный разум способен создавать цели из ничего, потому что иначе он бы вечно колебался между насильственными альтернативами. К этому в итоге и сводится свободный выбор – он требует новой, неизвестной детерминизму цели, цели найти которую можно только творчески! Если рассудок – машина позволяющая вычислять и планировать, то разум – инструмент свободы, способный видеть невидимое, находить неизведанное и осмысливать бессмысленное.
– Ядро и оболочка
Не все нормы родились равными. Зная природу морали, можно предположить, что степень этичности норм скорее всего в обратном отношении зависела от их полезности, иначе мораль бы давным давно расцвела вокруг пышным цветом. Но и сами по себе, вне связи с практикой, первые этические нормы не могли бы возникнуть и сохраниться. Скорее всего они скрывались внутри табу, обычаев, бытовых обрядов и еще каких-то практически полезных шаблонов поведения. Это был единственный способ их сохранить в отсутствии не только письменности, но и членораздельного языка. Как они туда попали? Источником обычаев была память о заметных прошлых событиях, обраставшая вариациями с каждым новым поколением. Способность удержаться в коллективной памяти, в отличие от здравого анализа своих и чужих интересов явно непосильного нашим предкам, вероятно и была следствием приближения к точке баланса, устраивающего многих, что вызывало желательность повторений и позволяло в итоге сформироваться норме. Именно это "устраивание многих" виновато в том, что этические нормы – это не просто привычки и обычаи, а внутренне ощущаемые правила, зачаток общей для всех справедливости, проникшей в психику и приступившей к формированию свободной личности. Массив вполне первоначально нелепых традиций стал, таким образом, наполняться более осмысленным моральным содержанием. И чем более осмысленно оно было, тем, можно надеяться, справедливее.
Постепенно, с развитием языка, разнообразные традиции, включая стили шкур и сам язык, оформлялись все отчетливее и укрепляли идентичность, превращаясь в символы "мы", а культура стала как бы емкостью, хранящей нормы и отражающей весь путь, пройденный коллективом в процессе упорядочивания внутреннего насилия и противодействия внешнему. События прошлого разукрашивались и увековечивались в преданиях и былинах. Говорилось в них о великих событиях, богах и героях, которые подавали пример и указывали как жить. В общем, не будет сильным преувеличением сказать, что лучшая часть устной культуры – не что иное, как оформленная словами мораль, ее этическое ядро.
Точно так же не будет преувеличением сказать, что всякое ядро культуры начиналось с верности своему племени до степени самоотречения. Но опять таки, самоотречение наполняется смыслом только если его целью являются такие же самоотверженные, а значит каждый отрекается не вообще, а в интересах другого. Ядро, таким образом – не безоглядный массовый альтруизм во имя внешней цели, как, можно вообразить, было бы в случае массового и бессмысленного поклонения богам, а нечто выявляющее общие интересы, согласующее их.
– Справедливость
По мере того как история влачилась своим неторопливым шагом, форма емкости стала отличительной характеристикой каждого коллектива – от племени и общины до этноса и народа, однако куда более узкий набор базовых норм – ее этическое, ценностное наполнение – оставалось, и до сих пор остается, более-менее сходным. Справедливость универсальна, различаются только степени ее достижения – чем дальше на пути к идеалу продвинулся коллектив, тем он справедливее. Моральный и культурный релятивизм – вещь конечно неплохая, но далекая от реальности. Да впрочем, и от морали. На мой взгляд, господствующий ныне релятивизм – следствие временного морального упадка. Что ж, даже по прямому пути можно идти в двух направлениях. Но если повернуться лицом к морали и присмотреться, то видно, что во всякой культуре часть ее традиций можно (а то и нужно!) легко отбросить как милое историческое недоразумение, дорогое только ярым консерваторам. Лучшая часть воспринимается иначе. Эти правила нельзя нарушать без того, чтобы не причинить кому-то ущерб. И что не удивительно, подобные нормы есть в любой культуре – они инвариантны.
Но не абсолютны. Ограничивая насилие, нормы одновременно закрепляют его, поскольку сломать норму не менее трудно, чем ее создать. Как же в таких условиях определить, какая норма ближе к ядру? Где критерий, отделяющий ядро от оболочки? Разумеется, в справедливости, которая не только универсальна, но и вполне обьективна. Если норма несправедлива – она обязательно будет пересмотрена. А потому нормы, принадлежащие ядру, наиболее долговечны. Можно провести аналогию с языком. Глубинные моральные "семантические" структуры, на которые наслаивается вся остальная культура, настолько древни, что отложились близко к бессознательному, о чем нам, например, напоминают угрызения совести, возникающие часто вопреки нашему желанию. В то же время "тезаурус и синтаксис" всей остальной культуры оказались гораздо ближе к поверхности и с ними общество расстается достаточно легко – иногда при жизни одного поколения.
Глубина залегания более поздних структур уже не столь велика, как например отвращения или почитания, что не удивительно, поскольку и рождение этики, и остальные упомянутые выше события произошли едва ли более пятидесяти, максимум ста тысяч лет назад. Оттого многие связанные с этикой моральные механизмы, включая ту же совесть, не так сильны как нам бы того хотелось.
Так коллектив, появившийся вследствие необходимости выживания, оказался способен порождать удивительные вещи – свободу, справедливость и красоту, которые по сути антагонистичны идее выживания. Эти абстракции еще скрываются в глубинах коллектива, но оболочка культуры, воплощая их в виде конкретного народа, давая им имя и фамилию, уже начинает формировать новую идентичность – "человек".
– Источники норм
Итак, члены коллектива постепенно вспомнили о себе и принялись исподволь отстаивать свои интересы. Ущемленный интерес ощущался как личный ущерб, а первые нормы были запретами на его причинение, и их смысл, в отличие от табоо, уже осознавался. Конечно, ущерб в те времена был не тот, что ныне, да и наказание за него тоже. Все было проще и грубее. Сьел чужую жену – смерть! Да, гнилую часть коллектива проще отрезать, чем лечить. Но постепенно наказание, как и ущерб, стало более осмысленным и утонченным. Выбил глаз – выбьют тебе. Оскорбил героя – стань героем. Накликал беду …что ж, не повезло. Так возник не только запрет на поедание чужих жен, но и первый принцип справедливости – равное возмездие.
Личный ущерб порождал конфликт, а норма позволяла разрешать его единообразно. Однако, одной нормы для разрешения конфликта недостаточно – иначе с какой стати взялся сам конфликт? Коллектив, будучи хранителем норм, стал выступать и как их охранитель. Появились нормы разрешения конфликтов, которые включали обращение к третьей стороне – старейшине племени, общему собранию и т.п. В этом заключался второй принцип справедливости – суд. Третьим можно считать принцип благодарности. Жизнь тогда была крайне сурова, а взаимопомощь – естественна. Впрочем, и помощью-то ее нельзя было назвать – ведь все вместе, сообща. Увы, бесконечно помогать друг другу стало не так интересно, пора было учитывать и собственные интересы.
Однако, если полезность бойца и соответствующий ущерб с вытекающим возмездием прост и понятен, то неясно откуда у альтруистов-коллективистов взялись более интересные интересы? Источников было три.
Во-1-х, интересы неизбежно появляются там, где размер семьи становится чуть больше, чем надо. В маленькой семье все живут одной жизнью, зачем там нормы? Но можно себе представить внутренние трения там, где на несколько матерей приходится несколько отцов и еще больше неизвестно чьих детей. Инстинкт половой собственности, дремавший миллион лет, неизбежно начал просыпаться и разрывать коллектив. Для воспроизводства нужны двое, для выживания – многие. Это противоречие двигало не только формирование семьи в рамках коллектива, но и формирование норм. Поэтому не удивительно, что одни из самых древних моральных норм связаны с половыми отношениями.
Во-2-х, люди покоряли природу, привыкали к труду, накапливали ресурсы. Этот процесс начался сам по себе с совершенствования орудий убийства и постепенно охватил более мирные стороны жизни. Вместе с накоплением, а затем и производством ресурсов появилась новая задача – как их делить. Если орудия тяготели к личному владению, то пропитание было общим. Если пещера была одна на всех, то семейный угол тяготел к отделению. По мере уменьшения и обособления семьи общинная собственность неизбежно подлежала делению и переходу в семейное владение. Все это требовало правил, пусть и примитивно, но справедливых. В свете этого, разве удивительно, что с тех времен справедливость неотделима от собственности?
В-3-х, коллектив неизбежно становился больше. Питание улучшалось, общение углублялось, разум креп, язык развивался – человек становится умнее и свободнее. Но вражда не позволяла расслабиться. Большой воюющий коллектив, с возрастающими взаимными претензиями и разнообразной хозяйственной деятельностью, требовал серьезного управления. И чем запутаннее становились отношения, тем острее была необходимость в выработке соответствующих норм. В некотором смысле, нормы управления/организации – это клей держащий вместе большой коллектив. Или его скелет. А это, в принципе, удивительно. Удивительно это тем, что если полезность прочих норм для выживания сомнительна или по крайней мере нейтральна, нормы в управлении коллективом имели ярко выраженную практическую пользу, что вызвало важные моральные последствия. Или, вернее, аморальные.
– Иерархия