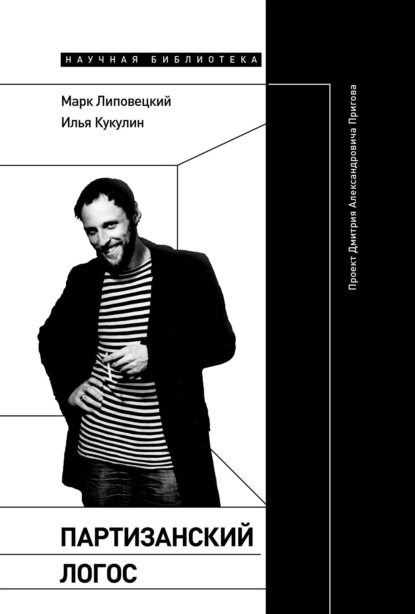По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Партизанский логос. Проект Дмитрия Александровича Пригова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Становление Пригова как поэта и художника нового типа происходит между 1972 и 1977 годами, когда он возвращается к изобразительному искусству. Орлов в это время уже пошел по пути «двойного бытия», совмещая казенные заказные работы с творческими экспериментами. С 1972?го до 1987 года Пригов вместе с Орловым зарабатывают на жизнь, занимаясь производством декоративной скульптуры – пионеров, героических солдат, рабочих и колхозниц, коров, чебурашек и крокодилов ген, мюнхгаузенов и т. п. А летом 1973-го, в Абрамцево, куда Пригов поехал вместе с группой друзей-художников на «пленэр», он пишет первые циклы соц-артистских стихов «Исторические и героические песни» и «Культурные песни». Именно в этот момент происходит рождение того поэта, которого мы знаем.
Философские интересы Пригова 60?х имели самое непосредственное отношение к этой перемене. Борис Орлов рассказывает, что в начале 1970?х
…мы с Приговым увидели, что метафизическая вертикаль на наших глазах рушится и переходит в горизонтальную сферу, и мы вдруг оказываемся в ‹…› сфере das Man [термин Хайдеггера, описывающий безличное, массовидное состояние сознания, где «я» неразличимо от «они»], где присутствует бесчисленное множество, вавилонское столпотворение разных языков. Если экзистенциализм противостоял этому столпотворению с помощью некой тонкой напряженной нити, что была натянута по вертикали и успешно сопротивлялась грохоту многоязычия, то, отказавшись от этой вертикали и погрузившись в многоязычие, нам пришлось искать для себя опору. И я придумал тогда термин «метапозиция», с которым Пригов согласился, и философия или формула метапозиция плюс полиязык сразу же сложилась у нас на улице Рогова [Кизевальтер 2010: 212].
Иначе говоря, философское самообразование Пригова и Орлова «экстерном» повторило эволюцию западной философской мысли в 1950–1970?е годы. Пройдя через экзистенциализм, они самостоятельно вышли на центральный вектор дискуссий, шедших в европейской философии в предшествующее десятилетие: подрыв метафизики и метафизических дискурсов и поиски новых неметафизических метапозиций и станет центральным содержанием постмодернизма как интеллектуального направления.
Подобного рода мыслительная работа в СССР шла параллельно сразу в нескольких интеллектуальных группах и полуофициально (или вовсе подпольно) действовавших семинарах. Концепция метапозиции впервые была предложена Р. Я. Якобсоном и во многом вытекала из предыдущей эволюции русского формализма (см. подробнее в главе 1 Части I), но в конце 1960?х – начале 1970?х, по словам философа А. В. Ахутина, термин «метапозиция» в Москве буквально носился в воздухе[9 - Из переписки А. В. Ахутина с И. В. Кукулиным, апрель 2020 г.]: не позже начала 1965 года он входит в обиход методологического семинара под руководством Г. П. Щедровицкого[10 - См., например, выступление Г. П. Щедровицкого на семинаре «„Объект“ и „предмет“ в методологии системно-структурного исследования» (https://refdb.ru/look/2969698-pall.html).], а в 1973–1974?х годах Пятигорский (на чьи семинары в МГУ ходил Пригов) в соавторстве с М. К. Мамардашвили выпускает книгу «Символ и сознание», где этот термин тоже уже употребляется[11 - Книга вышла в свет только в 1982 г. – в иерусалимском издательстве «Малер».].
Параллельно с философской рефлексией Пригов – как и Орлов – осмысляют понятие стиля в искусстве (о том, как об этом думал Орлов, см.: Барабанов 2013). Вокруг мастерской на улице Рогова складывается круг художников, каждый из которых оставит свой след в соц-арте, – это прежде всего Леонид Соков, Александр Косолапов и Ростислав Лебедев (который одно время делит мастерскую вместе с Приговым и Орловым). В этот же круг входит и художник и скульптор Игорь Шелковский, который эмигрировал в 1977 году, а с 1979 года стал издателем журнала «А – Я», выходившего в Париже). Виталий Комар и Александр Меламид, которым принадлежит честь изобретения термина «соц-арт», в то время принадлежали к другой, но близкой компании – так называемому «кругу Сретенского бульвара», куда, помимо них, входили Эрик Булатов, Илья Кабаков, Олег Васильев и др.
Пригов вспоминал: «Мы устраивали показы работ, потом их обсуждали. Беседовали в основном об искусстве. С Орловым мы много о философии разговаривали. Конечно, это были интеллектуальные встречи. Все мы были добропорядочные семьянины, никто по бабам не бродил, водку не пил. ‹…› Первоначально у нас возникли элементы поп- и соц-арта. Причем здесь произошел разлом. Орлов, я и Лебедев занялись соц-артом, а Шелковский придерживался традиционалистского направления, поэтому он начал испытывать некоторое раздражение. Потом он уехал в Париж, и все естественным образом разрешилось» [Шаповал 2003: 78].
Особенно важную роль в этом контексте играет увлечение поп-артом, о котором Пригов и его товарищи узнают из западных журналов о визуальном искусстве – будущая жена Шелковского, славист Сильвия Бондарурер, по словам Орлова, «чемоданами возила нам журналы типа „Кунстнахрихтен“[12 - Речь, по-видимому, идет о журнале «Kunst Nachrichten» («Новости искусства»), немецкоязычной версии старейшего международного журнала по искусству «ARTnews», выходящей четыре раза в год (с 1902 года).], причем откуда-то достала всю подшивку за 1960?е годы, и разные книги по искусству и философии. Так что в середине 1970?х мы прекрасно знали весь срез европейского искусства ‹…› Позже, году в 1975?м, в нашем круге появились Римма и Валерий Герловины. ‹…› Они откуда-то доставали „Артфорум“[13 - «Art Forum» – международный ежемесячный журнал по современному искусству, выходит с 1962 года.] и другие журналы. Поскольку Валера [Герловин] бегло читал по-английски, он переводил для всех: так они занимались просветительством» [Кизевальтер 2010: 219–220, 214]. В статье 1981 года «Об Орлове и кое-что обо всем» Пригов напишет: «…не испытывая никаких ученических комплексов и приоритетных притязаний, можно указать именно на поп-арт как на одного из главных провокаторов возникновения нашего феномена, поскольку… в пределах нашей культуры прямого соответствия поп-арту просто быть не может» [5: 523].
Орлов вспоминал, что в эти годы поисков стиля важным интеллектуальным потрясением для них с Приговым стал М. М. Бахтин с его концепцией карнавальной культуры. Как говорил Орлов, «…я впервые прочел тогда [в 1973–1975 гг.] про Рабле и культуру Средневековья и подумал, что вот, это же то, чем мы занимаемся, а тут нам еще и теоретическая база! Хотя Шестов подготовил это еще раньше своим релятивизмом. Мы прочитали всего Шестова в те годы» [Кизевальтер 2010: 219]. Пригов был сходного мнения о Бахтине. По его статье об Орлове 1981 года видно, как бахтинский карнавал «лег» на их общее понимание поп-арта, который Пригов характеризует как своего рода религиозное искусство, причем описывает его, явственно оглядываясь на бахтинскую концепцию карнавала:
Следует отметить и еще некоторые черты подобного религиозного искусства, хоть и не уподобляющие его традиционно-народному, но дающие основания для утверждения определенного типологического сходства. Это сходство, естественно, не в темах, а в принципе обработки тем, принципе конструирования произведений искусства и способа их бытования – клише, регулярный набор, цитатность, злободневность, открытый игровой момент, антипсихологизм и антиперсонализм, принципиальная эгалитаризация языка. Отбор тем идет по принципу предпочтения наиболее ходульных и фетишизированных, до конца понимаемых не столько в пределах самого произведения, сколько во взаимодействии его с контекстом жизни. Большое значение приобретает жест, указывающий на эти явления жизни [5: 523].
Гипсовые пионеры в сочетании с поп-артом; Ницше, буддизм, Шестов плюс бахтинский карнавал – вот важнейшие ингредиенты того «питательного бульона», в котором зарождается соц-арт и из которого потом вырастают московский концептуализм и индивидуальный приговский проект. Отметим еще два компонента: острое противостояние советскому политическому режиму – при уважительном, но все же отстраненном отношении к диссидентству. «…Все мы были настроены очень антисоветски. ‹…› Неприятие советской системы во всех ее проявлениях – ее языка, ее институций, представителей ее, даже самых, на нынешний взгляд, может, и невинных официальных членов Союза художников» [Балабанова 2001: 50].
Что объединяло все эти компоненты? Буддизм с его методиками систематической проблематизации индивидуального «Я» и преодоления иерархического сознания хорошо «рифмовался» с теорией карнавала как формой деконструкции, переворачивающей или размывающей бинарные оппозиции, – но главное, создающей дистанцию от доминирующего порядка вещей – советского, разумеется. Эта стратегия как бы переводила на эстетический уровень экзистенциальную и социальную отчужденность Пригова. Погружение в философские тексты тоже создавало дистанцию, но и предполагало более глубокое противостояние идеологии, чем просто моральное ее осуждение. Пригов и его единомышленники стремились не просто опровергнуть ложные политические идеи, как это делали некоторые диссиденты, – они стремились взорвать тот язык, тот способ мышления, который эта власть навязывала: «Наше сознание было культуркритическим: мы критиковали и утопии, и государственные институции, занимающиеся их воспроизводством, и тотальность любого языка, которая была прежде всего связана с языком государственным. У нас любой утопический язык вызывал мощную аллергию. Одним из носителей утопического сознания было диссидентское искусство, которое тоже было предметом наших рефлексий и критики» [Шаповал 2003: 93–94].
Сохранение дистанции по отношению к советскому языку и советским мифологиям у Пригова и его товарищей парадоксальным образом сочеталось с ее радикальным сокращением – по сравнению с другими художниками-нонконформистами. Необходимость лепить китчевые статуи пионеров и героев труда предполагала невозможность «забыть» советский язык, на чем настаивал неомодернистский и неоавангардный андерграунд. Поп-арт, иронически работающий с коммерческой культурой, задал для будущих концептуалистов первоначальный образец того, как можно создавать контркультурное высказывание на том самом языке, который подвергается критике: «Как правило, все художники ненавидели советский язык. Это был, так сказать, собачий язык, в своих мастерских они говорили на некоем возвышенном, нетленном языке, но вся жизнь проходила в пределах языка советского: смотрели футбол, пили, матерились. Существовала шизофреническая раздвоенность» [Шаповал 2003: 80]. Именно эту «шизофреническую раздвоенность» концептуалисты и старались преодолеть, сделав советский язык – как вербальный, так и визуальный – центральным объектом творчества. Орлов вспоминает, что сомнения относительно советского языка первоначально высказывал и Илья Кабаков – впоследствии признанный лидер художественного концептуализма: «Пригов тогда читал свои стихи у него [Льва Рубинштейна] в квартире на Маяковке. Илья Кабаков тоже тогда пришел и после чтения сказал Пригову: „Дима, как много вы читаете на собачьем языке. Не боитесь сами ‘особачиться’?“» [Орлов в Кизевальтер 2010: 218].
Так формировалась принципиально игровая, перформативная логика творчества Пригова, которая, как он полагал, соотносилась с общей поведенческой стратегией художников его круга и резко отделяла концептуалистов от нонконформистов поколения шестидесятников: «Для них [соц-артистов и концептуалистов] переходы из одной конвенции в другую были вообще частью профессиональных занятий и не составляли труда. В то время как для искренних художников 60?х годов – это была мука смертная. Они все были люди трагические, говорили на одном языке. Они не могли сказать ничего другого, потому что для них это значило соврать. А для людей нашего круга болтовня составляла род игры. Вранья не было, поскольку принимался любой дискурс, с условием не переступать определенных принципиальных границ, которые могли бы действовать разрушительно, и не принимая на себя никаких обязательств» [Балабанова 2001: 12–13]. По сути дела, так рождалась советская версия постмодернизма и постмодернистской теории – во многом стихийная и «бриколажная». Как говорил сам Пригов:
…мы оказались постмодернистами первого разлива. ‹…› …к концу 70?х в нашем семинаре стал вырабатываться постмодернистский язык. Пробираться к нему нам пришлось самостоятельно, литературы тогда никакой не было, иностранные языки мы знали не очень хорошо, поэтому, опираясь на собственную практику, пересказы чьих-то идей, мы выработали язык, который функционирует до сих пор. Разумеется, понятия «дискурс», «деконструкция» и пр. вошли в наш обиход гораздо позже с публикацией работ Деррида, Делёза, Гваттари, позднего Барта, Лиотара, Бодрийяра. ‹…› Но понятия «персонажный автор», «мерцательность», «стратегийность» я использовал давно, не зная даже о существовании теоретиков постмодернизма [Шаповал 2003: 94].
Семинар, о котором говорит Пригов и с которым впоследствии будет связано представление о московском концептуализме, сложился не сразу. Примерно около 1975 года Пригов начинает выступать на домашних чтениях («домашниках») и постепенно сходится со многими художниками и писателями андерграунда. В 1977?м он знакомится с Эриком Булатовым и Всеволодом Некрасовым, а через Некрасова – со всем лианозовским кругом художников и поэтов – Евгением, Львом и Валентиной Кропивницкими, Оскаром Рабиным, Игорем Холиным, Генрихом Сапгиром. В 1978?м – со Львом Рубинштейном, а через него – с Андреем Монастырским и впоследствии «Коллективными действиями» (Пригов участвует во многих их акциях и обсуждениях). В 1979?м происходит его знакомство с Борисом Гройсом и Ильей Кабаковым, а через Кабакова – с Владимиром Янкилевским и Эдуардом Штейнбергом. Тогда же, в 1979?м, формируется постоянно действовавший до 1985 года семинар, собиравшийся на квартире у А. М. Чачко[14 - Подробно об истории этого семинара и о своей в нем роли Шейнкер писал в своем блоге: https://msheinker.livejournal.com/. См. также мемуары Александра Чачко «История, жизни, судьбы, дом», гл. 50: https://doctor-alik.livejournal.com/42079.html]. Пригов вспоминал:
…семинар сделался регулярным, постоянными его посетителями были: я, Рубинштейн, Кабаков, Булатов, Некрасов, Чуйков, часто ходил Франциско Инфантэ, [Борис] Гройс и филолог-лингвист [Михаил] Шейнкер [Шейнкер и Чачко были соведущими этих семинаров. – М. Л., И. К.]. Люди либо читали, либо показывали работы, либо делали доклад. Приходило дикое количество народу, огромная комната в коммуналке… набивалась битком. ‹…› Семинар обычно состоял из трех актов. Первый – это выступление, на котором присутствовало много народу. Потом – обсуждение, когда многие уходили и оставались люди артикулированные, желавшие и просто даже жаждавшие разговоров и обсуждения. Когда завершалась эта часть, оставался очень тесный круг. Пили чай и происходило уже обсуждение обсуждения. На этих семинарах, в этом говорении и начал вырабатываться концептуально-постмодернистский язык, который до сих пор используем нами [Шаповал 2003: 79–80].
Помимо собственно теоретической стороны дела, эти обсуждения, по точному замечанию С. Хэнсген, были еще и своеобразными перформансами: «В среде концептуалистов беседа представляет собой своего рода перформанс, вызывающий все больше и больше комментариев, интерпретаций и теоретических спекуляций, которые в итоге сливаются в более широкий контекст документального „гезамткунстверка“. Эти разговоры не остаются эфемерным явлением – они становятся частью художественного процесса» [Московский концептуализм 2016].
Исчезает ли отчуждение? В семинаре – безусловно. И основанием для преодоления отчуждения становится общий концептуальный язык: «Предыдущие круги объединяли художников разных стилистик, а мы выработали общий язык и почувствовали некое единство» [Шаповал 2003: 80]. Но по отношению к другим кругам отчуждение сохраняется и, даже более того, становится программным:
У меня было несколько кругов, – говорил Пригов Шаповалу, – но лишь с одним я себя идентифицировал полностью по причине совпадения эстетических и жизненных позиций. В других кругах были совпадения жизненных позиций, но эстетические могли быть несовместимы. ‹…› Я считал, да и сейчас, пожалуй, придерживаюсь того же мнения, что нельзя быть погруженным только в один круг общения – это рискованно. Человек не должен прочно брать что-то двумя руками, потому что может найтись что-то новое, а у него руки заняты. Общение с другими кругами было для меня своего рода исследованием, они мне были нужны, чтобы я смог стать более полным, сумел научиться смотреть на многие явления со стороны [Шаповал 2003: 131–132].
Речь, как можно понять из контекста, идет о начале 1980?х. Несмотря на беспрецедентно широкий круг общения, Пригов сохраняет дистанцию во всех отношениях. Даже внутри круга ближайших друзей-концептуалистов, по наблюдениям Льва Рубинштейна, Пригов «умел устанавливать правильную дистанцию, позволяющую не высекать взаимных искр ‹…› Я как человек, с ним хорошо знакомый, могу свидетельствовать: никакая это не холодность, а определенная стратегия. Я знал случаи, когда он был невероятно нежен и заботлив, что производило особое впечатление. Холодность он придумал, он всегда держал дистанцию. В общем, был застегнутым человеком. Как сказал один наш общий знакомый: „Я виделся в Берлине с Приговым, в этот вечер он был не на работе“. В том смысле, что он был вполне душевен» [Шаповал 2014: 216–217][15 - Ср. наблюдение Ольги Матич: «Он был доброжелательным, нетребовательным, щедрым человеком и всячески избегал дурно отзываться о людях – своих современниках, что сильно отличало его от многих других» [Матич 2017: 501].]. А вот как описывает Пригова Сергей Гандлевский:
Сдержанность анекдотическая. Можно было столкнуться с ним лицом к лицу в парадном N, но бессмысленно было задавать (бессмысленный, впрочем) вопрос, не от N ли Дмитрий Александрович идет. «Обстоятельства привели, Сергей Маркович», – ответил бы он. И, вероятно, как следствие – решительное неучастие в знакомстве между собой людей из разных компаний, притом что он был вхож в самые разные круги артистической Москвы, и не только Москвы. ‹…› Зато Пригова не могли заподозрить в распространении сплетен. Изо дня в день он, как на работу, ходил по мастерским, домашним чтениям, кухням, салонам и т. п., расширяя свою культурную осведомленность и методично внедряясь в современный «культурный контекст» (говоря о нем, я и перенял оборот его сухой наукообразной речи). А в оставшееся время суток писал свою норму «текстов» и рисовал – тоже норму, а не наобум. Не пил, не курил или бросил курить. И так из года в год [Гандлевский 2012: 82–83].
Важным аспектом «холодности» Пригова был его подчеркнутый рационализм. «Такой теоретической четкости, как у Пригова, не было даже у его собратьев: ни у Левы Рубинштейна, ни у Владимира Сорокина. В этом смысле Пригов был совершенно уникален – он обладал мощным аналитическим умом», – говорит композитор Владимир Мартынов [Шаповал 2014: 194]. «При всей его эксцентричности Пригов был наиболее здравым человеком из всех, которых я когда бы то ни было встречал», – добавляет куратор и издатель Виктор Мизиано [там же, 198]. «Социокультурная адекватность и чрезвычайное здравомыслие были доминирующими свойствами его натуры. ‹…› Пригов как большой художник и себя, и других видел с расстояния. Это чрезвычайно конструктивная позиция», – свидетельствует критик и литературовед Глеб Морев [там же, 206]. «Лютером культурной вменяемости» назвал Пригова художник Никита Алексеев [Алексеев 2007].
Андрей Зорин справедливо видит в общей стратегии поведения Пригова его демонстративное дистанцирование от образа романтического поэта – который он многократно «присваивал» в своем творчестве: «В его бытовых проявлениях не было ничего от романтического образа художника, который может позволить себе больше, чем простой человек. Он был изысканно вежлив, доброжелателен, рационален, надежен, идеально договороспособен, порядочен в буквальном и переносном смысле слова – он ценил порядок и был в высшей степени порядочным человеком. Глядя на него, становилось понятно, что порядочность происходит от слова „порядок“. ‹…› Сочетание порядка с такой интенсивностью художественного безумия на меня всегда производило сильнейшее впечатление» [Шаповал 2014: 177].
Оборотной стороной этой стратегии была подозрительность, которую Пригов вызывал в андерграундных и особенно диссидентских кругах: «Мой приход из среды художников, вообще переходы из среды в среду казались подозрительными», – говорил Пригов Ирине Балабановой [Балабанова 2001: 22]. Подозрения в сотрудничестве с КГБ сочетались со все более настойчивым прессингом со стороны этой организации.
КГБ «заинтересовалось» Приговым в 1979?м, когда его пьеса «Место Бога» (1973) вышла в парижском альманахе «Ковчег». В 1980 году он опять вызывается на допросы в связи с созданием независимого Клуба писателей России и подготовкой альманаха «Каталог», первоначально рассчитанного на малотиражную публикацию в СССР, но впоследствии вышедшего в «Ардисе» (1982). Наивысшей точки это противостояние достигает уже при Горбачеве, когда в 1986?м Пригов был задержан и заключен в спецпсихбольницу, откуда, к счастью, его вскоре выпустили после краткой, но энергичной международной кампании в его поддержку (см. об этом в главе 4 Части II).
Реакции же на литературное творчество Пригова за пределами его непосредственного круга в 1970–1980?е годы варьировались от «взбесившегося графомана»[16 - «Скульптор стал читать неплохие пародии на „народные стихи“, довольно смешные, но уж больно „Крокодилом“ отдавали. ‹…› По слухам, на чтении у Булатова кто-то из возмущенных стариков обозвал сего автора „взбесившимся графоманом“», – пишет Г. Кизевальтер, художник и активный участник «Коллективных действий» [Кизевальтер 2010: 119].] до «сатанинства». В предуведомлении к циклу 1982 года «40 банальных рассуждений на банальные темы» Пригов писал: «Будучи в Ленинграде, читая стихи, было мне объявлено Ольгой Александровной Седаковой (поэтессой, но московской): „Говорю вам от имени всех мертвых, что осталось вам всего год, чтобы избавиться от наглости и сатанинства“» [1: 134]. Этот пересказ, вероятно, является гротескно-игровым преувеличением, но нечто подобное вспоминают и другие участники первого выступления концептуалистов для ленинградских коллег[17 - Речь идет о выступлении, организованном В. Кривулиным в ленинградском Клубе-81 11 мая 1982 г. Участвовали: Д. Пригов, Л. Рубинштейн, О. Седакова, В. Лён, Б. Кенжеев, Ю. Кублановский (см.: Иванов, 90).]. Впоследствии О. А. Седакова отзывалась о Пригове с большим уважением, но обвинения в разного рода «кощунстве» ему предъявляли еще не раз.
Пригов часто публикуется в различных самиздатских журналах – в «37», «Обводном канале», «Часах», «Транспонансе», «Северной почте», «Метродоре» [см. об этом: Саббаттини 2019]. Пригов близко связан с тамиздатским журналом «А – Я» (1979–1986), выпускаемым в Париже уже названным выше художником Игорем Шелковским вместе с Александром Сидоровым (жившим в Москве). В первом же номере этого журнала появляется знаменитая впоследствии статья Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм», которая провозглашает близкий Пригову круг художников и литераторов единым эстетическим движением. (Правда, Пригов – как, впрочем, и Кабаков – в этой статье не упоминается.) Рядом, в том же номере – «стихограммы» самого Пригова. В 1985?м выйдет «литературный» номер «А – Я», куда войдет большая подборка Пригова, его пьеса «Я играю на гармошке» и вновь «стихограммы». Но еще в 1980 году большая (почти 20 страниц) билингвальная подборка стихов Пригова появится в Австрии – в зальцбургском альманахе «NRL: Neue Russische Literatur»[18 - NRL: Neue Russische Literatur, 2–3 (1979–1980). С. 47–65.].
Перестройка радикально меняет жизнь Пригова: он участвует во многих проектах, становится одним из лидеров легализованных объединений поэтов и художников андерграунда (подробнее см. в Части IV), с 1987?го часто выступает в других странах. Пригова начинают публиковать – в «Юности», «Огоньке», «Театре», «Театральной жизни» и даже в «Новом мире». Однако в ходе этой легализации распадается прежний концептуалистский круг. Причиной тут стала не только эмиграция нескольких его видных представителей – но и тот очевидный факт, что из общего семинара выросли разные индивидуальные стратегии. Впрочем, еще с начала 1980?х Пригов начал делать «вылазки» из концептуалистского круга: сначала он принял участие, как уже сказано, в альманахе неподцензурных писателей «Каталог», объединившем авторов, очень разных по своим эстетическим позициям (Владимир Кормер, Николай Климонтович, Евгений Харитонов и др.), потом, уже в период перестройки, выступал в составе «трио» «ЁПС» – [Виктор] Ерофеев, Пригов, [Владимир] Сорокин, в поэтическом спектакле «Альманах» [см. о нем: Зорин 1990] и вместе с младшим поколением концептуалистов – в шутовской пародийной «рок-группе» «Среднерусская возвышенность». Эти выступления положили начало многочисленным коллаборациям Пригова с авторами разных поколений и направлений; разного рода совместные проекты продолжались вплоть до самой его смерти.
Растущая известность Пригова вызывает неприязнь его бывших коллег по андерграунду. Всеволод Некрасов упрекает его во всех возможных грехах, и прежде всего в популизме и «захвате» славы, «причитающейся» другим (см. подробнее в Части III). О «человеке-автомате», занятом «пиар-деятельностью», говорит Ю. Арабов [Кизевальтер 2014: 76]. «Пригов – это Путин…» – утверждает Ю. Лейдерман [Лейдерман 2017: 102]. Эти обвинения в претензиях на власть становятся еще одной формой изоляции художника в новых условиях – пусть эта изоляция и осталась мало кому заметной.
В то же время и сама пришедшая в годы перестройки популярность Пригова парадоксальным образом отчуждает будто бы застывшей маской реального развивающегося художника Пригова. В 1990?е статус Пригова для многих групп читателей и слушателей близок к статусу «живого классика», происходит, по выражению М. Майофис, его «прижизненная канонизация» [Майофис 2010]. Как проницательно заметил М. Айзенберг,
…у Пригова публикуются стихи десяти-, двадцатилетней давности, картина получается странная, целое из кусочков не выстраивается. Общий ритм, стратегию изменения имиджа в состоянии отслеживать только узкий круг читателей. А ведь это и есть истинное произведение Пригова: четвертьвековое движение внутри существующей культуры, выстроенное как танец, как узор, но импровизированное, меняющееся. ‹…› Даже культурные и организаторские идеи Д. А. по большей части выверены так же серьезно и тщательно, как и художественные [Айзенберг 1997: 143].
По сути, эта проблема осталась неразрешенной и впоследствии. Пригов в 1990?е и 2000?е разнообразно экспериментирует (см. Часть IV), работая с новым дискурсивным материалом – нарративами и риториками глобальной массовой, политической, экономической культуры, – осваивает новые медиальные пространства и жанры: перформансы, видеооперы, романы. Однако для читающей публики он неизменно остается «певцом Милицанера», славным производством тысяч и тысяч нечитаемых стихов. Как справедливо отмечает М. Ямпольский: «…пресловутый Милицанер сыграл с ним дурную шутку: он [Пригов] закрепился в сознании многих как социальный клоун. А ведь Пригов был куда масштабнее и глубже» [Шаповал 2014: 221].
После того как жена Пригова Н. Г. Бурова в 1992 году восстанавливает свое британское гражданство и переезжает в Лондон, жизнь Пригова протекает между Лондоном и Москвой, а также десятками других городов и стран, где проходят его выставки и чтения, включающие либо его старые тексты, либо «оральные жанры» – азбуки, «мантры русской культуры». По словам Бориса Гройса, «в этот момент в работах Пригова произошел определенный сдвиг – от поэтического перформанса к визуальной продукции, которую составляли в основном рисунки и инсталляции. Можно сказать, что именно перестройка напрямую вывела Пригова в пространство визуального искусства» [Гройс 2016].
С 1990?х годов все большее место занимает в его творчестве жанр визуального перформанса – как одиночного, так и в составе группы ПМП (2000–2004), в которую, кроме самого Дмитрия Александровича, входили его сын Андрей и Наталья Мали (отсюда и название группы: Пригов – Мали – Пригов). Со второй половины 1980?х Пригов регулярно выступает либо вместе с джазовым музыкантом В. Тарасовым, либо в составе уже упомянутой группы «Среднерусская возвышенность» (даже играет на саксофоне), либо с другими музыкантами (С. Курехиным, В. Мартыновым, С. Летовым, М. Пекарским, Г. Виноградовым, Н. Пшеничниковой и др.) В качестве других, не менее показательных, примеров настойчивых попыток Пригова расширять сферу своей культурной деятельности назовем его сотрудничество с Алексеем Германом в кино (роль в фильме «Хрусталев, машину!», 1998), композитором Ираидой Юсуповой и видеоартистом и художником Александром Долгиным – в области видеооперы, Александром Пепеляевым в балете (роль Тригорина в балете «Альфа-Чайка», 2006), а с молодыми художниками из группы «Война» – в области публичных перформансов.
Постсоветскому творчеству Пригова посвящен в нашей книге весь последний, четвертый раздел. Здесь же приведем некоторые кажущиеся нам важными примеры интерпретации этого периода. Михаил Ямпольский в своей книге «Пригов: Опыты художественного номинализма» (2016) – первой монографии о Пригове – показывает, что именно позднее творчество Пригова с наибольшей ясностью высвечивает философский потенциал его эстетики, прежде заслоненный сатирической или политической злободневностью: «…объектом приговской концептуальной деконструкции являются не предметы, не концепты, даже не имена, а именно исторические культурно-языковые формации… Вообще говоря, концептуализм у него – это отражатель эволюции, времени, современности и неактуальности в отношении с современностью. А главный объект концептуализма – это морфология исторических формаций, или, если сформулировать более общо, – это морфология времени, пространственная структурная организация времени…» [Ямпольский 2016: 15].
По мнению Джейкоба Эдмонда, постсоветское творчество Пригова не только соединяет практики позднесоветского андерграунда с глобальной культурой, но и представляет особую форму критики последней:
…вместо простого противопоставления местной иконографии глобальному языку современного искусства… Пригов совмещает различные локальные и транснациональные языки и системы культуры, вскрывая их недостаточность для описания современности. ‹…› Тем самым Пригов демонстрирует, что природа глобального не едина, но множественна и складывается из различных дискурсивных систем. ‹…› Воспроизводя их в неожиданных и сложных переплетениях, Пригов обнажает свойственные им параллельные системы бинарных оппозиций – локального и глобального, конкретного и всеобщего, Востока и Запада, России и мира – и в то же время предлагает альтернативы, возникающие непосредственно внутри этих столкновений» [Эдмонд 2012].
Жадный интерес Пригова к новым формам и медиа объясняет, почему он, в отличие от многих ветеранов андерграунда, чрезвычайно внимательно и заинтересованно относился к новому поколению литераторов и художников. Глеб Морев отмечает, что «в молодежной среде 2000?х годов он [Пригов] четко выделил фигуры, которые никак не зависели от его творчества – не наследовали и не подражали ему, но оказались важными для литературы нового столетия…» [Шаповал 2014: 206]. Не случайно в день смерти Пригова Дмитрий Кузьмин написал: «Вот должна быть фигура отца. Мало ли какие у тебя к нему претензии, и ты бы, конечно, всё в этой жизни сделал иначе (или не иначе), и, может, вы и живете раздельно с твоего младенчества, да еще и на разных континентах, но пока он есть, это одно дело, а когда его нет – совсем другое. Это не тот, кого ты больше всех любишь, или ценишь, или с кем ближе всех общаешься. Ну, в общем, наверно, для меня было в разное время четыре такие фигуры. И теперь не осталось ни одной» [Попов 2007]. Есть основания полагать, что это чувство с Кузьминым разделили и другие авторы следующих за Приговым поколений. Недаром диалог с Приговым от лица тех представителей младшего поколения, которые считают себя наследниками андерграунда, развивается и даже интенсифицируется в культуре 2010?х – об этом см. в Заключении нашей книги.
О чем еще эта книга?
О революции в литературе, совершенной Приговым (Часть I).
Об антропологии советской культуры, которую он создавал средствами поэзии (Часть II).
О его месте в контексте литературы андерграунда 70–80?х (Часть III).
О картографии новой эпохи и о новых формах существования литературы, с которыми Пригов экспериментировал в 1990–2000?е годы (Часть IV).
А главное (используя выражение М. Айзенберга) – о сорокалетнем движении художника внутри культуры, «выстроенном как танец, как узор, но импровизированном, меняющемся», которое и составляет «истинное произведение» Пригова.
Часть I
Перформанс теории
Пригов принадлежал к нечастому для русской культуры типу рационалистических художников. Ситуация неофициальной культуры способствовала обострению рефлексивного начала у большинства авторов-участников, но у Пригова повышенная рефлексивность – как он не раз говорил в интервью и как становилось понятным из его действий – была свойством характера. Однако склонность к рациональным объяснениям своих и чужих действий ни в коей мере не ограничивает, а наоборот, обосновывает спонтанность и импровизацию, свойственные его творчеству: Пригов, как мало кто, понимал и чувствовал ограничения современной рациональности и в то же время – необходимость разворачивания эстетического действия внутри этих границ. Вот почему, несмотря на то, что существует довольно много научных попыток осмысления творчества Пригова – как историко-литературных (М. Эпштейн, А. Зорин, Г. Витте, С. Хэнсген, Б. Обермайр, Дж. Янечек, Л. Силард) и искусствоведческих (Б. Гройс, Е. Деготь), так и философских (М. Ямпольский, И. Смирнов), никто из исследователей, пишущих о Пригове, не смог избежать влияния его автоинтерпретаций, которые глубинно связаны с его теоретическими представлениями. Поэтому нам кажется логичным начать разговор о Пригове с обзора его теоретических идей, пытаясь одновременно соотнести их с общей логикой его творчества.
Теоретические высказывания Пригова – это синтетическая форма; рациональный анализ (в том числе и собственных практик) в них переходит в манифест, но при этом сам автор как бы разыгрывает «позу лица» (как говорил сам Пригов) теоретика, то и дело пародируя риторику научного высказывания.
По-видимому, Пригов хорошо понимал, что любой манифест чреват утопизмом и ригористическим утверждением правил, обязательных для всех «правильных» художников. Опыт ХХ века показывает, что манифесты могут стать прекрасными художественными произведениями, но изложенные в них программы очень быстро оказываются исчерпанными [см. об этом: Хобсбаум 2017: 17–23]. Однако в то же самое время манифесты бывают совершенно необходимы для целеполагания и рефлексии оснований художественного творчества на современном этапе. В своей «теоретической публицистике» Пригов попытался совместить такое целеполагание с критикой характерного для манифестов утопизма. Поэтому в них он часто показывает саму фигуру теоретика словно бы со стороны, изображая рефлексирующего художника по правилам, напоминающим брехтовский театр, в котором между актером и ролью всегда должен существовать зазор, напоминающий об условности. Но тем не менее Пригов вполне серьезно высказывает значимые для него идеи. Такое совмещение можно описать как перформанс теории.