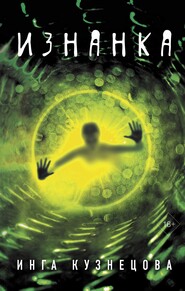По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Промежуток
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тогда, на кладбище, я в первый раз пил водку из пластикового стаканчика. Я думал о той девушке (ее могилу мы не нашли), о Княжеве, обо всех. Может быть, она спаслась? (Тихий говорил: нет.) Я должен был быть с ними.
Если бы меня не убили, я бы знал, что с ней.
Я бы целовал ее пухлый рот, глотал ее слюну, которой она смачивала палец, чтобы листать утраченное. Я бы пил ее голос, пропитанный сюрреализмом. Я хотел сказать это Дарту, но не смог. Не мог говорить. Обратно они отправили меня на такси, матери я сказал, что встречался с Петровым, занимались алгеброй.
Дисгармонией я занимался. Почти не соврал.
Быть или забыть, сметь или иметь, мыслить или смылить это – вот в чем вопросы. Мою руки в туалете и покупаю мороженое на заправке. Эскимо на палочке, набросок счастья, символ детства – не моего. Так символ или знак? Кто мне сможет это объяснить? Символ в жизни отличается от символа в тексте? Нет? Они слипаются или нет?? Все вокруг меня так запуталось, что, кажется, это первый вопрос, который я, однажды встретив того, кого они называют Метафизиком, задам со всем жаром и отчаяньем юности. Меня укачивает от вращения Земли. Уважаемый Метафизик, я, кажется, понял, что юность – самое трудное, самое жестокое время.
2. Тень
Я его узнал. Окно моей комнаты выходит в переулок, я вижу торец противоположного здания. Ранним утром я почти всегда лежу без сна. А тогда дворники еще не расшаркались своими метлами. Стояла инфернальная тишина, все смягчал туман. Не знаю, что выбросило меня из постели к окну, но там, у дома напротив, внезапно… В тот миг я понял, что барахтался в зияющем отсутствии Эм все эти дни. И вдруг! Его рассыпанные по плечам волосы, его длинные мышцы, его запястья! Ошибиться было невозможно. Когда он исчез из секции, все, связанное со спортом, для меня закончилось – я не смог имитировать интерес к волевым усилиям и скоростям. Тренер, помню, усмехнулся тогда: а ты тоже скажешь «спасибо, что научили меня бегать, теперь я буду разбираться, от чего»? Я не Эм, меня он не уговаривал. Ушел – и ушел. Особых надежд я не подавал.
Так значит, важнее всего знать не то, к чему ты бежишь, а то, от чего. Я запомнил это. Он странный, этот Эми. Эм, Эму. Эм У, Миша Ушаков. Имя и фамилия. Где он учится, выследить было несложно. Я не скажу ему, что молча следую за ним. Он не выбрал бы меня, я знаю. Он не замечает таких, как я. Ему не нужно наше поклонение. Я понимаю, я тень.
Тени только следуют за людьми. Они не могут с ними заговорить. Вздернутый страхом-тоской, из-за занавески я молча следил за его движениями, его руками, отброшенными назад волосами – пряди закручивались, как спирали, каждая из которых походила на доисторический телефонный провод (такой мы видели в музее), как будто люди прошлого могли ему позвонить. Спортивный велосипед стоял, прислоненный к стене. Я оказался первым читателем надписи, странной, как все, что делал Эм. Сначала я не понял, что за это сестры, что за шифровка, кому она предназначена (не может быть, чтобы мне)? Но в пальцах возникла пугающая, все более разреженная легкость, и она расширялась и расширялась и стала в конце концов невместимой, и захотелось распахнуть окно, окликнуть Эм, втянуть его в комнату и прикоснуться горячей щекой к пахнущей краской ладони… Кому какое дело, что это значит? Сердце стало гулким, когда я увидел, как он оглядывается, а потом включился звук приближающегося автомобиля, и от ужаса зрение прервалось.
А потом я увидел, как Эм уже выруливает на трассу, исчезает за поворотом.
Автомобиль замирает в переулке, так и не приблизившись. Все закончилось, лишь позолота на серой стене.
Я опять потерял его, мое время остановилось. Каждый день, прогуливая уроки, я паломничал к его школе, пытаясь реконструировать его маршруты. Но я всегда запаздывал – на шаг или на полшага.
Я не видел его много дней. Но едва наступило лето и полетел пух, эта чья-то разорванная в клочья тоска, как Эм материализовался. Вот он вынырнул из-за колонн Дома Союзов. Идет очень быстро, блики сомнений бегут по лицу. Я за колонной. Кругом толпы и толпы.
Черт, сегодня же этот дикий плебейский марш! Идиоты стекаются по Верской, идут с книгами, прибитыми к крестам, с транспарантами «ЗАЩИТИМ ВЕЛИКУЮ ПРОЗУ!» А вот и розовые растяжки «СМЕРТЬ ПОЭТАМ!» Они развешаны так часто, так тесно, что от избытка розовой смерти начинает тошнить. Поганое дело литература. Поговаривают, мы на рубеже гражданской войны. Хотя кто и с кем будет воевать? За что? «Великая проза» – это же прошлогодний снег! Она меня не интересует. За нее я не готов сражаться. Из всех искусств для меня имеет смысл только кино. Что касается поэзии, я уже не помню, что это такое. Кажется, проходили в начальной школе. Сегодня она вне закона. Вне меня. Вне.
Пахнет дымом, благовониями, веселой травой. Люди идут и идут, точно выход на улицы может защитить их от фантома.
Лица торжественны и неподвижны – сами как транспаранты. Я следую за серебристым капюшоном. Эм почти бежит, поток несет нас к площади, и вот уже коричневый кордон, бронзовые латы, щиты, утыканные ножами. Толпы сминаются, выравниваются, пятятся. Звучит смех, гомон, медные тарелки, ржавые трубы духовых оркестров. Самодеятельность – ну к чему это? Зачем тебе туда, Эму? Что у тебя общего с этими разгоряченными физиономиями, с этими раздутыми щеками, твердостью упрямых лбов? Что тебе до «судеб нашей литературы»?
Внезапно звуки всех оркестров затихают, и Верховный священнослужитель, облеченный в мантию из нетающей сахарной ваты, поднимается на алую трибуну вдалеке. Начинаются пафосные бла-бла-бла. Толпа встречает восторженным ревом каждую фразу. Поговаривают, что священнослужитель учился дипломатии за кордоном. Там его научили говорить так красиво, что отличницы нашей школы во время трансляции его речей падают в обмороки. Дуры! Кордон обнимает площадь, с которой столбом поднимается дым. Берсерки стоят разреженно, наготове. Каждая рука скрещена с рукой соседа, каждая рука держит обоюдоострый меч (дубинки недавно заменили). Все уже знают, как хорошо он заточен – никто не нарывается. В полицейские сейчас идут левши – это престижная и высокооплачиваемая для них профессия. Впрочем, и правшам при желании можно обучиться рубить/колоть двумя руками.
В промежутках между вооруженными фигурами можно что-то разглядеть. Вау!
В центре, на раскуроченном постаменте (здесь раньше был какой-то памятник – не помню какой) устроен настоящий жертвенник. Так вот откуда дым! Капюшон Эм в опасной близости от полицейских. Его фигура сжалась, как перед прыжком в высоту. Верховный призывает всех не терять бдительности, потому что враг всегда рядом. Ну ок. Цепочка девушек в бледных платьях, с золотыми рожками в волосах ведет к жертвеннику цепочку коз. Белых-белых коз на золотистых веревках. И тех и других по девять. Козы молчат. Первая что-то меланхолично жует. Кажется, что сейчас она выплюнет свою травину и скажет что-нибудь. Но нет. Священник предлагает всем возблагодарить Господа нашего за исчезновение поэзии и после очищения площади священным дымом отведать благословенного жертвенного мяса. Одобрительный гул толпы. В воздух взлетают шляпы, чепчики, панамки, бейсболки, тюбетейки. И вдруг… серебряный сгусток вверх – это прыгнул Эм.
Он уже за кордоном, внутри кольца. Что-то кричит. Меня накрывает ужас, из-за низкого звона в ушах ничего не могу разобрать.
Люди волнуются, берсерки их сдерживают, не меняют дислокации. Священнослужитель (видно, как он побледнел, старческие щеки опали) шипит в микрофон: «Охрана! Взять его!» Но Эм несется так быстро, что руки охранников соскальзывают в потоки ветра вокруг него. Он совершает круг внутри круга, его лицо открыто, он кажется беспечальным, на шее болтается шнурок от портативного громкоговорителя (такие выдают в школах правофланговым), и до меня доходит смысл его крика. «Нас не уничтожить!» К своему изумлению, я слышу в толпе слабые отзвуки «что же», «то же», «о же», «о е».
Эм выкрикивает: «ПО!», «Э!», «ЗИ!», совершая почти полный круг. «Я» он почему-то смазывает. Захлебываясь воздухом, на бегу называет незнакомые имена – может быть, это имена поэтов, а может, их уничтожителей. Когда пришедший в себя начальник кордона сбивает его с ног, перед тем как упасть, Эм успевает крикнуть: «Смотрите! Облако в штанах!» Что это, что это значит? Люди вздергивают головы вверх. По глянцевой смальте неба действительно движется лохматое облако, напоминающее очертаниями человека. Становится жутко. Сейчас случится что-то необратимое. Оркестры звенят. Растерянный священник стоит на своей многоступенчатой трибуне и завороженно смотрит, как начальник охраны обоюдоострым мечом отсекает Эм руку по локоть. Публика смотрит тупо, как на киноэпизод, точно не верит, что все это действительно происходит. Эм хрипит. Черный громкоговоритель падает. Козы блеют и разбегаются, волоча золоченые веревки, выпавшие из ладоней схватившихся друг за друга девственниц. Любопытные, подсевшие на наркотик ужаса, просачиваются сквозь кордон. Зеваки и очевидцы. Лица людей пьянеют от крови и прямых солнечных лучей. Заносимые мечи бликуют. Верховный вздрагивает. Смятенье толпы не остановить. Священник смахивает седые пряди, упавшие ему на лоб, точно отбрасывает наваждение; демонически-низкий голос исходит точно не из его утробы, а откуда-то издалека: «Вот она, священная жертва. Рвите его и ешьте! Он ваш, о люди!»
Безумие обрушивается на толпу. С Эм сдирают окровавленную куртку. Его убивают по частям. Я вижу лишь какие-то промельки, взмахи секир между широкими спинами берсерков, крепко стоящих на своих кривых. Повсюду паника, восторг сумасшедших, вой и блевота, громобой медных тарелок. Люди подбирают ошметки Эм, бросают на жертвенную решетку. Огонь терзает то, что минуту назад было человеком, а в эти секунды он еще, кажется, жив. Шипенье и запах крови, железа, крови. Охранники вытаскивают дымящиеся куски, вгрызаются в них желтыми зубами. Их теснят зеваки, тянут руки к остаткам тела, наконец страшный крак – и всё, кудрявая голова, залитая тоской, катится по ступенькам, но я этого уже не вижу. Я бреду прочь, не обращая внимания на тычки. Глаза мои закрыты. Да и есть ли они у меня?
Я больше не хочу, не могу смотреть на этот мир.
Тромбоциты
1. Обед
– Я должен тебя предупредить, – заметил тяжеловооруженный Старший, обращаясь к новичку, возникшему справа.
Мы стояли из последних сил. Приказ остановиться и подпирать собою рухнувший свод был отдан пару часов назад. Караульные ряды устали. Едва успели вытащить труп правого коллеги, погибшего на посту от базового переутомления, и бросить его в реку сосуда, как в образовавшееся пространство между Старшим и Ловким втиснулся невесть откуда приплывший юнец, который теперь легкомысленно поигрывал своим гиаломером, размышляя о преимуществах молодости. Лично меня, ведущего ремонтные работы в соседнем ряду, он не раздражал.
– Клетки в потоке. Наши задачи: следи и следуй. Если возникает опасность – повреждается свод, нужно своим телом закрыть разрыв, слипаясь с другими. То есть фактически стать фрагментом стены.
И немедленно начать плести укрепляющую сеть. Стоять, сколько потребуется. И потом-потом перейти в иное качество. Раствориться, ясно? Наша служба включает в себя самопожертвование. Разве тебе об этом не говорили?
– Починка свода – это ясно. С соседями-то бывает нештат? – другой молодой, слева, даже не попытался изобразить заинтересованность и подавил зевок.
Нас всех здесь уже столько раз обрабатывали теорией, что объяснения Старшего с него стекли, как плазма с тромба.
– Это еще слабо сказано. Кровяные бунты – слыхал о таких? Бывает, что какие-нибудь дурачки, вроде тебя, восстают против своих функций. Отказываются затыкать собой дыры. Хотят путешествовать дальше. Выйти за пределы, как они говорят. – Странно, но Старший не разозлился и рассказывал это обстоятельно и спокойно.
– Бунты? Ну, это, приятель, сказано слишком сильно, – вмешался Левый.
Пока мы накапливались, казалось, Старший так и не привык к нему. Нас становилось все больше, но он по-прежнему держал небольшой зазор между своей оболочкой и телом Левого, хотя по инструкции всем полагалось тесниться пластинка к пластинке. Впрочем, проверять ряды сегодня уже никого не пришлют.
Голос Левого прозвучал вкрадчиво. Легкая угроза была спрятана очень глубоко, но она двигалась, и я ее расслышал:
– Как возможен сбой в столь безупречной системе, как наша? Не пугай малыша! Тебе уже скоро на покой, в рассасывание – а ему еще жить.
Старший помрачнел:
– Вы прекрасно осведомлены. Но у меня еще день.
Дерзкий «малыш» потерял терпение.
– Послушайте, – он позволил себе перегнуться к Левому, отчего весь пластинчатый ряд смялся, и Старшему пришлось дружелюбно толкнуться в его упругое тело. – Я такой же, как вы. Выполняю ту же работу. Побольше уважения, э!
– Вот и не зевай, смотри за проплывающими, – усмехнулся Старший, и юнец, успокоившись, замолчал. – В древности говорили, что если долго стоять на берегу потока, то можно увидеть, как мимо тебя проплывает труп твоего врага.
– Думаю, обойдется, – беспечно брякнул молодой впереди, которому мы тоже еще не дали достойного имени. – Да что тут может такого быть? Война?
– Все бывает.
– Вы участвовали в боевых?
– На войне не был, только слышал. Но драться приходилось.
Юнец, слегка выступив вперед, с уважением оглядел плоское тело Старшего, испещренное выщерблинами и латками, почти сплошь скрывающими канальцы и митохондрии.
По ряду держащихся из последних сил клеток прокатилась волна.
– С бунтовщиками?
– Потенциальными и вероятными.
Если бы меня не убили, я бы знал, что с ней.
Я бы целовал ее пухлый рот, глотал ее слюну, которой она смачивала палец, чтобы листать утраченное. Я бы пил ее голос, пропитанный сюрреализмом. Я хотел сказать это Дарту, но не смог. Не мог говорить. Обратно они отправили меня на такси, матери я сказал, что встречался с Петровым, занимались алгеброй.
Дисгармонией я занимался. Почти не соврал.
Быть или забыть, сметь или иметь, мыслить или смылить это – вот в чем вопросы. Мою руки в туалете и покупаю мороженое на заправке. Эскимо на палочке, набросок счастья, символ детства – не моего. Так символ или знак? Кто мне сможет это объяснить? Символ в жизни отличается от символа в тексте? Нет? Они слипаются или нет?? Все вокруг меня так запуталось, что, кажется, это первый вопрос, который я, однажды встретив того, кого они называют Метафизиком, задам со всем жаром и отчаяньем юности. Меня укачивает от вращения Земли. Уважаемый Метафизик, я, кажется, понял, что юность – самое трудное, самое жестокое время.
2. Тень
Я его узнал. Окно моей комнаты выходит в переулок, я вижу торец противоположного здания. Ранним утром я почти всегда лежу без сна. А тогда дворники еще не расшаркались своими метлами. Стояла инфернальная тишина, все смягчал туман. Не знаю, что выбросило меня из постели к окну, но там, у дома напротив, внезапно… В тот миг я понял, что барахтался в зияющем отсутствии Эм все эти дни. И вдруг! Его рассыпанные по плечам волосы, его длинные мышцы, его запястья! Ошибиться было невозможно. Когда он исчез из секции, все, связанное со спортом, для меня закончилось – я не смог имитировать интерес к волевым усилиям и скоростям. Тренер, помню, усмехнулся тогда: а ты тоже скажешь «спасибо, что научили меня бегать, теперь я буду разбираться, от чего»? Я не Эм, меня он не уговаривал. Ушел – и ушел. Особых надежд я не подавал.
Так значит, важнее всего знать не то, к чему ты бежишь, а то, от чего. Я запомнил это. Он странный, этот Эми. Эм, Эму. Эм У, Миша Ушаков. Имя и фамилия. Где он учится, выследить было несложно. Я не скажу ему, что молча следую за ним. Он не выбрал бы меня, я знаю. Он не замечает таких, как я. Ему не нужно наше поклонение. Я понимаю, я тень.
Тени только следуют за людьми. Они не могут с ними заговорить. Вздернутый страхом-тоской, из-за занавески я молча следил за его движениями, его руками, отброшенными назад волосами – пряди закручивались, как спирали, каждая из которых походила на доисторический телефонный провод (такой мы видели в музее), как будто люди прошлого могли ему позвонить. Спортивный велосипед стоял, прислоненный к стене. Я оказался первым читателем надписи, странной, как все, что делал Эм. Сначала я не понял, что за это сестры, что за шифровка, кому она предназначена (не может быть, чтобы мне)? Но в пальцах возникла пугающая, все более разреженная легкость, и она расширялась и расширялась и стала в конце концов невместимой, и захотелось распахнуть окно, окликнуть Эм, втянуть его в комнату и прикоснуться горячей щекой к пахнущей краской ладони… Кому какое дело, что это значит? Сердце стало гулким, когда я увидел, как он оглядывается, а потом включился звук приближающегося автомобиля, и от ужаса зрение прервалось.
А потом я увидел, как Эм уже выруливает на трассу, исчезает за поворотом.
Автомобиль замирает в переулке, так и не приблизившись. Все закончилось, лишь позолота на серой стене.
Я опять потерял его, мое время остановилось. Каждый день, прогуливая уроки, я паломничал к его школе, пытаясь реконструировать его маршруты. Но я всегда запаздывал – на шаг или на полшага.
Я не видел его много дней. Но едва наступило лето и полетел пух, эта чья-то разорванная в клочья тоска, как Эм материализовался. Вот он вынырнул из-за колонн Дома Союзов. Идет очень быстро, блики сомнений бегут по лицу. Я за колонной. Кругом толпы и толпы.
Черт, сегодня же этот дикий плебейский марш! Идиоты стекаются по Верской, идут с книгами, прибитыми к крестам, с транспарантами «ЗАЩИТИМ ВЕЛИКУЮ ПРОЗУ!» А вот и розовые растяжки «СМЕРТЬ ПОЭТАМ!» Они развешаны так часто, так тесно, что от избытка розовой смерти начинает тошнить. Поганое дело литература. Поговаривают, мы на рубеже гражданской войны. Хотя кто и с кем будет воевать? За что? «Великая проза» – это же прошлогодний снег! Она меня не интересует. За нее я не готов сражаться. Из всех искусств для меня имеет смысл только кино. Что касается поэзии, я уже не помню, что это такое. Кажется, проходили в начальной школе. Сегодня она вне закона. Вне меня. Вне.
Пахнет дымом, благовониями, веселой травой. Люди идут и идут, точно выход на улицы может защитить их от фантома.
Лица торжественны и неподвижны – сами как транспаранты. Я следую за серебристым капюшоном. Эм почти бежит, поток несет нас к площади, и вот уже коричневый кордон, бронзовые латы, щиты, утыканные ножами. Толпы сминаются, выравниваются, пятятся. Звучит смех, гомон, медные тарелки, ржавые трубы духовых оркестров. Самодеятельность – ну к чему это? Зачем тебе туда, Эму? Что у тебя общего с этими разгоряченными физиономиями, с этими раздутыми щеками, твердостью упрямых лбов? Что тебе до «судеб нашей литературы»?
Внезапно звуки всех оркестров затихают, и Верховный священнослужитель, облеченный в мантию из нетающей сахарной ваты, поднимается на алую трибуну вдалеке. Начинаются пафосные бла-бла-бла. Толпа встречает восторженным ревом каждую фразу. Поговаривают, что священнослужитель учился дипломатии за кордоном. Там его научили говорить так красиво, что отличницы нашей школы во время трансляции его речей падают в обмороки. Дуры! Кордон обнимает площадь, с которой столбом поднимается дым. Берсерки стоят разреженно, наготове. Каждая рука скрещена с рукой соседа, каждая рука держит обоюдоострый меч (дубинки недавно заменили). Все уже знают, как хорошо он заточен – никто не нарывается. В полицейские сейчас идут левши – это престижная и высокооплачиваемая для них профессия. Впрочем, и правшам при желании можно обучиться рубить/колоть двумя руками.
В промежутках между вооруженными фигурами можно что-то разглядеть. Вау!
В центре, на раскуроченном постаменте (здесь раньше был какой-то памятник – не помню какой) устроен настоящий жертвенник. Так вот откуда дым! Капюшон Эм в опасной близости от полицейских. Его фигура сжалась, как перед прыжком в высоту. Верховный призывает всех не терять бдительности, потому что враг всегда рядом. Ну ок. Цепочка девушек в бледных платьях, с золотыми рожками в волосах ведет к жертвеннику цепочку коз. Белых-белых коз на золотистых веревках. И тех и других по девять. Козы молчат. Первая что-то меланхолично жует. Кажется, что сейчас она выплюнет свою травину и скажет что-нибудь. Но нет. Священник предлагает всем возблагодарить Господа нашего за исчезновение поэзии и после очищения площади священным дымом отведать благословенного жертвенного мяса. Одобрительный гул толпы. В воздух взлетают шляпы, чепчики, панамки, бейсболки, тюбетейки. И вдруг… серебряный сгусток вверх – это прыгнул Эм.
Он уже за кордоном, внутри кольца. Что-то кричит. Меня накрывает ужас, из-за низкого звона в ушах ничего не могу разобрать.
Люди волнуются, берсерки их сдерживают, не меняют дислокации. Священнослужитель (видно, как он побледнел, старческие щеки опали) шипит в микрофон: «Охрана! Взять его!» Но Эм несется так быстро, что руки охранников соскальзывают в потоки ветра вокруг него. Он совершает круг внутри круга, его лицо открыто, он кажется беспечальным, на шее болтается шнурок от портативного громкоговорителя (такие выдают в школах правофланговым), и до меня доходит смысл его крика. «Нас не уничтожить!» К своему изумлению, я слышу в толпе слабые отзвуки «что же», «то же», «о же», «о е».
Эм выкрикивает: «ПО!», «Э!», «ЗИ!», совершая почти полный круг. «Я» он почему-то смазывает. Захлебываясь воздухом, на бегу называет незнакомые имена – может быть, это имена поэтов, а может, их уничтожителей. Когда пришедший в себя начальник кордона сбивает его с ног, перед тем как упасть, Эм успевает крикнуть: «Смотрите! Облако в штанах!» Что это, что это значит? Люди вздергивают головы вверх. По глянцевой смальте неба действительно движется лохматое облако, напоминающее очертаниями человека. Становится жутко. Сейчас случится что-то необратимое. Оркестры звенят. Растерянный священник стоит на своей многоступенчатой трибуне и завороженно смотрит, как начальник охраны обоюдоострым мечом отсекает Эм руку по локоть. Публика смотрит тупо, как на киноэпизод, точно не верит, что все это действительно происходит. Эм хрипит. Черный громкоговоритель падает. Козы блеют и разбегаются, волоча золоченые веревки, выпавшие из ладоней схватившихся друг за друга девственниц. Любопытные, подсевшие на наркотик ужаса, просачиваются сквозь кордон. Зеваки и очевидцы. Лица людей пьянеют от крови и прямых солнечных лучей. Заносимые мечи бликуют. Верховный вздрагивает. Смятенье толпы не остановить. Священник смахивает седые пряди, упавшие ему на лоб, точно отбрасывает наваждение; демонически-низкий голос исходит точно не из его утробы, а откуда-то издалека: «Вот она, священная жертва. Рвите его и ешьте! Он ваш, о люди!»
Безумие обрушивается на толпу. С Эм сдирают окровавленную куртку. Его убивают по частям. Я вижу лишь какие-то промельки, взмахи секир между широкими спинами берсерков, крепко стоящих на своих кривых. Повсюду паника, восторг сумасшедших, вой и блевота, громобой медных тарелок. Люди подбирают ошметки Эм, бросают на жертвенную решетку. Огонь терзает то, что минуту назад было человеком, а в эти секунды он еще, кажется, жив. Шипенье и запах крови, железа, крови. Охранники вытаскивают дымящиеся куски, вгрызаются в них желтыми зубами. Их теснят зеваки, тянут руки к остаткам тела, наконец страшный крак – и всё, кудрявая голова, залитая тоской, катится по ступенькам, но я этого уже не вижу. Я бреду прочь, не обращая внимания на тычки. Глаза мои закрыты. Да и есть ли они у меня?
Я больше не хочу, не могу смотреть на этот мир.
Тромбоциты
1. Обед
– Я должен тебя предупредить, – заметил тяжеловооруженный Старший, обращаясь к новичку, возникшему справа.
Мы стояли из последних сил. Приказ остановиться и подпирать собою рухнувший свод был отдан пару часов назад. Караульные ряды устали. Едва успели вытащить труп правого коллеги, погибшего на посту от базового переутомления, и бросить его в реку сосуда, как в образовавшееся пространство между Старшим и Ловким втиснулся невесть откуда приплывший юнец, который теперь легкомысленно поигрывал своим гиаломером, размышляя о преимуществах молодости. Лично меня, ведущего ремонтные работы в соседнем ряду, он не раздражал.
– Клетки в потоке. Наши задачи: следи и следуй. Если возникает опасность – повреждается свод, нужно своим телом закрыть разрыв, слипаясь с другими. То есть фактически стать фрагментом стены.
И немедленно начать плести укрепляющую сеть. Стоять, сколько потребуется. И потом-потом перейти в иное качество. Раствориться, ясно? Наша служба включает в себя самопожертвование. Разве тебе об этом не говорили?
– Починка свода – это ясно. С соседями-то бывает нештат? – другой молодой, слева, даже не попытался изобразить заинтересованность и подавил зевок.
Нас всех здесь уже столько раз обрабатывали теорией, что объяснения Старшего с него стекли, как плазма с тромба.
– Это еще слабо сказано. Кровяные бунты – слыхал о таких? Бывает, что какие-нибудь дурачки, вроде тебя, восстают против своих функций. Отказываются затыкать собой дыры. Хотят путешествовать дальше. Выйти за пределы, как они говорят. – Странно, но Старший не разозлился и рассказывал это обстоятельно и спокойно.
– Бунты? Ну, это, приятель, сказано слишком сильно, – вмешался Левый.
Пока мы накапливались, казалось, Старший так и не привык к нему. Нас становилось все больше, но он по-прежнему держал небольшой зазор между своей оболочкой и телом Левого, хотя по инструкции всем полагалось тесниться пластинка к пластинке. Впрочем, проверять ряды сегодня уже никого не пришлют.
Голос Левого прозвучал вкрадчиво. Легкая угроза была спрятана очень глубоко, но она двигалась, и я ее расслышал:
– Как возможен сбой в столь безупречной системе, как наша? Не пугай малыша! Тебе уже скоро на покой, в рассасывание – а ему еще жить.
Старший помрачнел:
– Вы прекрасно осведомлены. Но у меня еще день.
Дерзкий «малыш» потерял терпение.
– Послушайте, – он позволил себе перегнуться к Левому, отчего весь пластинчатый ряд смялся, и Старшему пришлось дружелюбно толкнуться в его упругое тело. – Я такой же, как вы. Выполняю ту же работу. Побольше уважения, э!
– Вот и не зевай, смотри за проплывающими, – усмехнулся Старший, и юнец, успокоившись, замолчал. – В древности говорили, что если долго стоять на берегу потока, то можно увидеть, как мимо тебя проплывает труп твоего врага.
– Думаю, обойдется, – беспечно брякнул молодой впереди, которому мы тоже еще не дали достойного имени. – Да что тут может такого быть? Война?
– Все бывает.
– Вы участвовали в боевых?
– На войне не был, только слышал. Но драться приходилось.
Юнец, слегка выступив вперед, с уважением оглядел плоское тело Старшего, испещренное выщерблинами и латками, почти сплошь скрывающими канальцы и митохондрии.
По ряду держащихся из последних сил клеток прокатилась волна.
– С бунтовщиками?
– Потенциальными и вероятными.
Другие электронные книги автора Инга Анатольевна Кузнецова
Другие аудиокниги автора Инга Анатольевна Кузнецова
Изнанка




 0
0