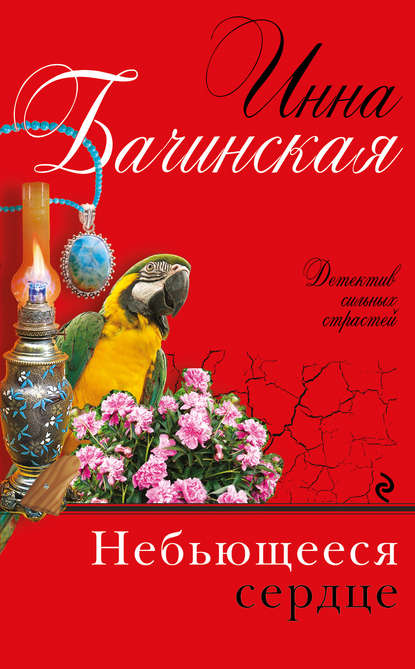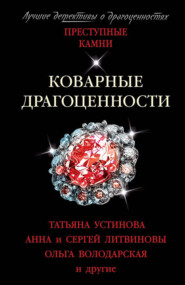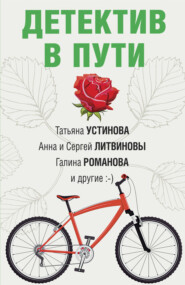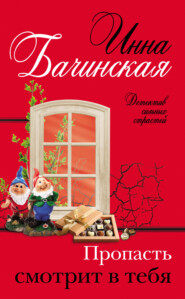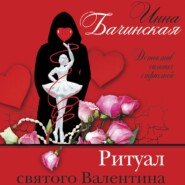По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Небьющееся сердце
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну все, все, успокойся, – говорил Сергей, обнимая Олю и слегка похлопывая ее ладонью по спине. – Хватит! Надеюсь, ты не собираешься зарыдать или упасть в обморок? Встать можешь? Ну-ка! Встала! – Это прозвучало как приказ. – Нам нужно убираться как можно скорее, а то с минуты на минуту сюда заявится местный летописец тетка Эмма, и тогда хочешь не хочешь, придется объясняться с ней… Надо это нам?
– Не надо, – сказала Оля, всхлипнув.
– Правильно понимаешь! Давай, поднимайся!
Оля с трудом поднялась на ноги и покачнулась. Сергей подхватил ее; она постояла несколько секунд, опираясь о его руку, потом сказала:
– Спасибо, я в порядке.
– Сними наволочку с подушки, быстро! И ни к чему не прикасайся! – прозвучал новый приказ, и Оля молча повиновалась. Она была как в тумане. Сцепив зубы и повторяя себе: «Держись! Все уже позади!» – она стащила наволочку с подушки.
– Спрячь в сумку, заберешь с собой! Сколько было пуговиц на блузке?
Оля, охнув, прикрыла грудь рукой и, подумав, сказала:
– Кажется, шесть.
– А точнее?
– Шесть!
Он опустился на колени и стал подбирать с пола маленькие жемчужные шарики. Поднялся.
– Все, уходим!
На пороге он остановился и внимательно обвел взглядом спальню.
Оля оглянулась… разобранная постель, неярко освещенная торшером под желтым абажуром, бутылка коньяку на тумбочке, задернутые шторы на единственном окне, распахнутая настежь дверца шкафа, а в центре на полу – неподвижная, маленькая, почти детская фигурка убитого человека: неестественно подогнутые ноги, руки, сжатые в кулаки, почерневшее лицо с ярко-белой блестящей полоской зубов и широко раскрытыми глазами, смотрящими в потолок. Она резко отвернулась и вышла из комнаты, сознавая, что кошмарная эта картина останется с ней навсегда.
* * *
– Здесь расходимся, – сказал Сергей, когда они свернули на соседнюю улицу. – Деньги есть? Возьмешь такси… или нет, лучше троллейбус или автобус. Завтра выйдешь на работу, скажешь, была у подруги, почувствовала себя плохо… одним словом, придумай что-нибудь. Я утром забегу попрощаться, в два у меня поезд. Не бойся, все было чисто. Тебя никто не видел. Меня, надеюсь, тоже. – Он прикоснулся губами к щеке и ушел.
Некоторое время Оля растерянно смотрела ему вслед. Когда он растворился в толпе, она, не торопясь, побрела домой. Она шла вечерними улицами города, в котором прожила всю свою сознательную жизнь, закончила школу, потом работала, потом хоронила маму…
– Мамочка, – говорила Оля, – я живая! Случилось чудо, и я – живая! Я могу ходить и дышать, я могу потрогать дерево, мокрое от дождя и тоже живое, сесть на скамейку, купить пирожок у женщины под большим черным зонтом и съесть его под дождем! Я все могу, потому что я живая! И у меня есть Кирюша и Старая Юля, и к ним я сейчас иду!
Любовь к сыну, к Старой Юле, к родному городу, даже к мокрым людям под косыми струями дождя и автомобилям со слепящими фарами охватила ее с такой силой, что она заплакала. Чем ближе она подходила к центру, тем больше людей попадалось ей навстречу. Были среди них озабоченные и беззаботные, красивые и уродливые, умные и глупые, бессовестные и честные, и каждый человек был по-своему прекрасен и удивителен, правда, часто об этом не подозревал ни он сам, ни окружающие, каждый был любимым созданием природы, каждого она наделила каким-нибудь даром, и самым главным из всех была жизнь. Они все были живыми! Но, боже мой, как же мало они зачастую ценили этот дар!
Глава 4
Кабаре «Касабланка»
Хозяином «Касабланки» был некрасивый седой человек лет шестидесяти с гаком, звали его Аркадий Котляр, или папа Аркаша, с легкой руки персонала за привычку говорить всем «дитя мое», и был он в прошлом известным искусствоведом и кинокритиком. Критиковал он в основном буржуазный кинематограф и в основном американский. В своих многочисленных статьях, написанных легко и убедительно, он доказывал преимущество соцреализма над капреализмом. А сам в это время, как тайный христианин во времена язычества, поклонялся этому самому буржуазному кино в общем и американскому в частности. Старый американский кинематограф был его любовью, а актрисы – страстью и божеством. Он знал все о Бэтт Дэвис, Грете Гарбо, Деборе Керр и многих других. Он мог без конца смотреть «Незабываемый роман» с Кэри Грантом и Деборой Керр, или «Ниночку» с Гретой Гарбо, или «Гильду» с Ритой Хэйворт. А «Касабланка»! А Ингрид Бергман! А… многие другие!
Аркаша любил женщин, но в отличие от большинства мужчин, разделяющих эту любовь, он любил их, во-первых, эмпирически, визуально, а во-вторых, он прекрасно знал предмет своей любви. Знал их неверный, как пламя свечи на ветру, характер, наивную хитрость, непоследовательность, не уставал удивляться и восхищаться женской логикой. Он наблюдал женский декоративный пол, как мудрый родитель наблюдает любимое чадо – с удовольствием, снисходительно, видя насквозь все его повадки, вранье и хитрости. И если бы ему сказали, что он – старомодный романтик, что женщины сейчас другие и меньше всего напоминают нежное балованное дитя, он только усмехнулся бы и сказал, что женщины не меняются, они все те же, только условия жизни стали сложнее, и им приходится быть агрессивными, сильными и грубыми. А вы создайте им условия, при которых они смогли бы раскрыться… и так далее, и тому подобное, до бесконечности. Женщины платили ему взаимностью, всласть рыдая ему в жилетку и опираясь на вовремя подставленное дружеское плечо, но при первом удобном случае упархивали к другому, тем не менее оставаясь с ним в самых прекрасных отношениях.
Несколько лет назад трое его братьев, преуспевающих бизнесменов, подарили Аркаше кафе, доставшееся им почти даром, в счет уплаты долга. Аркаша рос непохожим на братьев мальчиком, этаким гадким утенком, мечтателем и бессребреником, равнодушным к деньгам и всему тому, что можно купить за деньги. Деньги всегда были для него средством, а не целью. Средством для покупки еще одного фильма из любимой кинематографической эпохи или книги. Семья дружно учила его жить, в глубине души гордясь его необычностью и ореолом академизма, который придавали ему многочисленные публикации и репутация ведущего специалиста. Он был экзотической приправой, придававшей остроту тяжеловесному и пресному семейному блюду. Сначала он наотрез отказался заниматься доставшимся даром кафе, и только посулы братьев не вмешиваться, не диктовать, не учить жить и дать деньги на полную реконструкцию, оформление интерьеров и подготовку собственной программы, заставили его переменить решение. Обычно мягкий и покладистый, он твердо стоял на своем, настаивая на деталях интерьера, не совместимых с точки зрения дорогого дизайнера, нанятого братьями.
– То, что вы предлагаете, дешевка, китч, балаган! Существуют же каноны! – возмущался дизайнер.
– Возможно, мне не хватает вкуса, – сказал Аркаша братьям, – но все будет или так, как я хочу, или никак. А балаган это именно то, что мне нужно. Если «балаган» честно называется «балаганом» – это прекрасно и не стыдно. А если «балаган» называется «театром музыкальной комедии», это неприлично и пошло. Я хочу именно балаган, захватывающе-интересный, раскованный и живой! – Он даже всерьез раздумывал, не назвать ли ему свое детище «Балаганом».
Как известно, все когда-нибудь кончается. И в итоге, после трех месяцев нервотрепки, скандалов и криков: «Оставьте меня в покое!», «Идите вы… со своим гребаным дизайнером!» и «Вон!» родилась «Касабланка». Вернее, родилось, потому что это было кабаре. Кабаре «Касабланка». «Балаган» пришлось заменить на «кабаре», потому что, если кабаре «Касабланка» звучит приятно для слуха, то балаган «Касабланка» звучит плохо, вернее, не звучит вовсе. Название это также было победой американского классического кинематографа…
Шоу, которое Аркаша придумал и поставил в «Касабланке», было пронизано чувством ностальгии по невинной кинематографической экзотике тридцатых и сороковых, когда создавались павильонные багдадские воры и индийские гробницы, а костюмы, сшитые по его корявым эскизам, принадлежали другой, близкой по духу декоративной эпохе, любимой им за извращенно-рафинированный эстетизм и нарочитое внимание к деталям – арт нуво[1 - Арт-нуво (от фр. Art nouveau) – художественное направление в искусстве, наиболее популярное в 1890–1910 годах в Европе и США.].
Он сам нашел артистов для своего шоу. ЭрЖе Риеку, танцовщицу кордебалета, которая из-за своего скандального характера нигде долго не задерживалась и которую из-за гигантского роста всегда засовывали за чьи-то спины, придумал ей номер и не мешал самовыражаться. «РЖ» ничего общего не имеет с реферативным журналом, как можно было бы подумать, а значит «роковая женщина». Папа Аркаша любил экзотику. Риека действительно была роковой женщиной, богато одаренной природой. Кроме роста под два метра, она обладала бурным темпераментом, специфическим чувством юмора, манерой разражаться режущим слух хохотом или скандалить по любому поводу и без; кроме того, была раскрашена, как вождь племени сиу (или какого-нибудь еще), вступивший на тропу войны. Аркаша умел с ней ладить. Замечания его во время репетиций были кратки и точны, и Риека скандалила с ним исключительно из принципа, а откричавшись, говорила деловито: «Аркаш, ну, ты гигант! Покажи еще раз!» В глубине души она была добродушной девушкой. И Аркаша, тощий и некрасивый, показывал роковой женщине Риеке позу, движение или взгляд, подсмотренный им у кинодив прошлого, перед которыми и сегодня не устоит ни один представитель сильного пола. Он склонял голову набок, чуть касаясь подбородком плеча, опускал глаза, капризно изгибал губы, держал паузу, а потом искоса метал такой взгляд-кинжал на Риеку, что, казалось, сыпались искры и появлялось пламя, делая при этом легкое движение подбородком, плечом, грудью, бедрами, и…
– Ты поняла, дитя мое? – спрашивал он Риеку.
– А ты, Аркаш, случайно не голубой? – спрашивала, в свою очередь, Риека. – Я знаю одного такого, ходит в бабском платье и выкобенивается, куда там бабе… Откуда ты все про нас знаешь?
– Наблюдаю жизнь, Риека, держу глаза открытыми, – отвечал ей Аркаша. – Ну, давай! И следи за речью. Не забывай, что ты женщина!
Он нашел Куклу Барби, простоватую пухленькую блондиночку, чистенькую и аппетитную, как молочный поросенок. Если Риека была зловещим и воинствующим секс-символом, то Кукла Барби была просто куклой с наивными круглыми глазами, чуть слишком круглыми и чуть слишком наивными, а от невинных ее поз во время танца за версту разило невзыскательной эротикой – большего от нее и не требовалось.
И, наконец, Орландо – вялое, недокормленное существо без пола и возраста, с бледным, невыразительным, каким-то сонным лицом, напоминающее механического человека изломанной походкой и дергаными движениями, возможно, в силу многолетнего пристрастия к сильнодействующим возбудителям. Орландо был наделен, или наделено, совершенно изумительным талантом перевоплощения и подражания голосам. После небольшого перерыва, когда свет прожектора снова падал на сцену, там, в белокуром паричке, белом открытом платье, слегка расставив красивые стройные ноги в туфельках на высоких каблучках, в позе, классически-узнаваемой из-за миллионов фотографий, заполонивших мир – одна рука придерживает взлетающий от сквознячка подол платья, другая поправляет волосы, – стояла вечно юная и вечно желанная прекрасная кинобогиня Мерилин! Даже те, кто был готов к этому, не могли удержаться от восторженного и радостного рева и аплодисментов. А потом Орландо пел ее голосом, негромким, сладким, как патока, с характерными придыханиями…
Аркаша слушал со слезами на глазах. Он был счастлив – осуществилась его мечта: поставить свое шоу, не идейно-выдержанное и пресное, как в старые недобрые времена, или неприлично-развратное, как во времена вседозволенности и беспредела, а совсем-совсем другое: красивое, легкое, с флером утонченной эротики.
«Касабланка» открывалась в девять вечера, концертная программа начиналась в одиннадцать и продолжалась около двух с половиной часов, а к трем утра публика расходилась. Сигналом к началу спектакля служил меркнущий свет большой центральной люстры. В течение нескольких минут зал освещался лишь свечами в круглых полых шарах разноцветного стекла. Разноцветные шары придумал сам Аркаша и страшно ими гордился. Зрелище действительно получилось радостным и карнавальным. Потом вспыхивали софиты, и на сцену вихрем вылетали восемь девушек, «резвых кобыл», по определению Риеки, глубоко декольтированных, в ореоле страусиных перьев и, шурша жестяными яркими юбками и задирая выше головы хорошенькие ножки в чулках со швом, принимались отплясывать канкан. Публика, затаив дыхание, следила за феерическим зрелищем, а когда они, отплясав, одна за другой с размаху усаживались в шпагат, а потом отстегивали атласные подвязки и бросали их в зал, взрывалась восторгом.
Разогретая подобным образом публика получала следующий номер программы – Богиню Майю, то бишь Риеку. Потом – Орландо, и на десерт розовую конфетку-нимфетку Куклу Барби. Затем, до самого закрытия, по залу с микрофоном бродила «ночная бабочка» – безголосая тощая Кирка Сенько, – и шептала-пела прокуренным басом, не без шарма, однако, известные и неизвестные стихи «серебряных» поэтов. Но это уже вне программы, само по себе, как деталь интерьера, равно как и мягкая неназойливая музыка и незаметная глазу игра света: каждые восемь-десять минут освещение в зале менялось: лиловый свет сменялся темно-желтым, зеленый – розовым. Время от времени кто-нибудь с удивлением замечал, что свет изменился – стал темно-розовым, а был, кажется, оранжевым.
Гости ужинали, пили, обсуждали дела. Были среди них спокойные, солидные, богатые, не разбогатевшие, а именно богатые изначально люди, знающие себе цену, свой клан, вылезшие из подполья, опутавшие своими щупальцами страну, делающие деньги и диктующие политику. Были эстетствующие интеллектуалы-западники. Образованные нувориши с рафинированным вкусом. Иногда заявлялись шумные братки в поисках разухабистого шалмана, но быстро разобравшись, что к чему, тихо убывали гулять в другое место.
Пианист, крупный мужчина с породистым лицом немолодой, уставшей от жизни лошади и длинными седыми кудрями, одетый во фрак с бабочкой, мягко перебирал клавиши рояля, на крышке которого стоял серебряный шандал на пять свечей и бокал шампанского. Время от времени официант приносил полный бокал и незаметно убирал пустой. А в самом конце, когда гасли огни и расходилась публика, бережно провожал отяжелевшего тапера к заказанному заранее такси, называл адрес и расплачивался с шофером. На сегодня – все, можно по домам.
Аркаша любил эти часы раннего утра, непривычно тихие и спокойные, когда можно походить по пустым комнатам, проверить замки на дверях и окнах, выключить свет и, наконец, усесться с чашкой чая и сухариками и расслабиться, перебирая в памяти детали прошедшего вечера. Он с удовольствием рассматривал зал, вспоминая упрямого дизайнера: высокие деревянные панели в тон паркету, темно-зеленая ткань, затягивающая стены от панелей до потолка, и любимые картины: две хорошие копии Тулуз-Лотрека, несколько эскизов театральных костюмов Бакста и четыре акварели, изображающие традиционные маски венецианского карнавала, с черно-белым ромбическим узором, повторяющемся в трико Арлекина, плитках пола и переплетах стрельчатых окон. В левом нижнем углу стояли две буквы «К» – подпись художника. На всех рисунках присутствовала скорчившаяся фигурка Арлекина, подглядывающего, подслушивающего, со ртом, распяленным от уха до уха в нехорошей улыбке… как предупреждение неосторожным: «Бдите!» И хотя художник всякий раз помещал его то сбоку, то сзади, а на одном из рисунков вообще оставил от него лишь половину туловища и часть головы с приставленной к уху ладонью, свернутой ракушкой, он тем не менее, казалось, олицетворял собой дух карнавала, придавая ему зловещий смысл коварства, предательства и пира во время чумы.
– Жуткие картинки, – сказала как-то Риека. – Где ты их взял?
– Набрел случайно, продавала старая женщина, остались от внука.
– А внук где?
– Кажется, уехал. Или умер.
– Неудивительно! Кто рисует такое, долго не протянет.
– Возможно. Люди, так трагически чувствующие, рано уходят.
– Их было только четыре?
– Нет, девять.
– И все такие же?
– Не надо, – сказала Оля, всхлипнув.
– Правильно понимаешь! Давай, поднимайся!
Оля с трудом поднялась на ноги и покачнулась. Сергей подхватил ее; она постояла несколько секунд, опираясь о его руку, потом сказала:
– Спасибо, я в порядке.
– Сними наволочку с подушки, быстро! И ни к чему не прикасайся! – прозвучал новый приказ, и Оля молча повиновалась. Она была как в тумане. Сцепив зубы и повторяя себе: «Держись! Все уже позади!» – она стащила наволочку с подушки.
– Спрячь в сумку, заберешь с собой! Сколько было пуговиц на блузке?
Оля, охнув, прикрыла грудь рукой и, подумав, сказала:
– Кажется, шесть.
– А точнее?
– Шесть!
Он опустился на колени и стал подбирать с пола маленькие жемчужные шарики. Поднялся.
– Все, уходим!
На пороге он остановился и внимательно обвел взглядом спальню.
Оля оглянулась… разобранная постель, неярко освещенная торшером под желтым абажуром, бутылка коньяку на тумбочке, задернутые шторы на единственном окне, распахнутая настежь дверца шкафа, а в центре на полу – неподвижная, маленькая, почти детская фигурка убитого человека: неестественно подогнутые ноги, руки, сжатые в кулаки, почерневшее лицо с ярко-белой блестящей полоской зубов и широко раскрытыми глазами, смотрящими в потолок. Она резко отвернулась и вышла из комнаты, сознавая, что кошмарная эта картина останется с ней навсегда.
* * *
– Здесь расходимся, – сказал Сергей, когда они свернули на соседнюю улицу. – Деньги есть? Возьмешь такси… или нет, лучше троллейбус или автобус. Завтра выйдешь на работу, скажешь, была у подруги, почувствовала себя плохо… одним словом, придумай что-нибудь. Я утром забегу попрощаться, в два у меня поезд. Не бойся, все было чисто. Тебя никто не видел. Меня, надеюсь, тоже. – Он прикоснулся губами к щеке и ушел.
Некоторое время Оля растерянно смотрела ему вслед. Когда он растворился в толпе, она, не торопясь, побрела домой. Она шла вечерними улицами города, в котором прожила всю свою сознательную жизнь, закончила школу, потом работала, потом хоронила маму…
– Мамочка, – говорила Оля, – я живая! Случилось чудо, и я – живая! Я могу ходить и дышать, я могу потрогать дерево, мокрое от дождя и тоже живое, сесть на скамейку, купить пирожок у женщины под большим черным зонтом и съесть его под дождем! Я все могу, потому что я живая! И у меня есть Кирюша и Старая Юля, и к ним я сейчас иду!
Любовь к сыну, к Старой Юле, к родному городу, даже к мокрым людям под косыми струями дождя и автомобилям со слепящими фарами охватила ее с такой силой, что она заплакала. Чем ближе она подходила к центру, тем больше людей попадалось ей навстречу. Были среди них озабоченные и беззаботные, красивые и уродливые, умные и глупые, бессовестные и честные, и каждый человек был по-своему прекрасен и удивителен, правда, часто об этом не подозревал ни он сам, ни окружающие, каждый был любимым созданием природы, каждого она наделила каким-нибудь даром, и самым главным из всех была жизнь. Они все были живыми! Но, боже мой, как же мало они зачастую ценили этот дар!
Глава 4
Кабаре «Касабланка»
Хозяином «Касабланки» был некрасивый седой человек лет шестидесяти с гаком, звали его Аркадий Котляр, или папа Аркаша, с легкой руки персонала за привычку говорить всем «дитя мое», и был он в прошлом известным искусствоведом и кинокритиком. Критиковал он в основном буржуазный кинематограф и в основном американский. В своих многочисленных статьях, написанных легко и убедительно, он доказывал преимущество соцреализма над капреализмом. А сам в это время, как тайный христианин во времена язычества, поклонялся этому самому буржуазному кино в общем и американскому в частности. Старый американский кинематограф был его любовью, а актрисы – страстью и божеством. Он знал все о Бэтт Дэвис, Грете Гарбо, Деборе Керр и многих других. Он мог без конца смотреть «Незабываемый роман» с Кэри Грантом и Деборой Керр, или «Ниночку» с Гретой Гарбо, или «Гильду» с Ритой Хэйворт. А «Касабланка»! А Ингрид Бергман! А… многие другие!
Аркаша любил женщин, но в отличие от большинства мужчин, разделяющих эту любовь, он любил их, во-первых, эмпирически, визуально, а во-вторых, он прекрасно знал предмет своей любви. Знал их неверный, как пламя свечи на ветру, характер, наивную хитрость, непоследовательность, не уставал удивляться и восхищаться женской логикой. Он наблюдал женский декоративный пол, как мудрый родитель наблюдает любимое чадо – с удовольствием, снисходительно, видя насквозь все его повадки, вранье и хитрости. И если бы ему сказали, что он – старомодный романтик, что женщины сейчас другие и меньше всего напоминают нежное балованное дитя, он только усмехнулся бы и сказал, что женщины не меняются, они все те же, только условия жизни стали сложнее, и им приходится быть агрессивными, сильными и грубыми. А вы создайте им условия, при которых они смогли бы раскрыться… и так далее, и тому подобное, до бесконечности. Женщины платили ему взаимностью, всласть рыдая ему в жилетку и опираясь на вовремя подставленное дружеское плечо, но при первом удобном случае упархивали к другому, тем не менее оставаясь с ним в самых прекрасных отношениях.
Несколько лет назад трое его братьев, преуспевающих бизнесменов, подарили Аркаше кафе, доставшееся им почти даром, в счет уплаты долга. Аркаша рос непохожим на братьев мальчиком, этаким гадким утенком, мечтателем и бессребреником, равнодушным к деньгам и всему тому, что можно купить за деньги. Деньги всегда были для него средством, а не целью. Средством для покупки еще одного фильма из любимой кинематографической эпохи или книги. Семья дружно учила его жить, в глубине души гордясь его необычностью и ореолом академизма, который придавали ему многочисленные публикации и репутация ведущего специалиста. Он был экзотической приправой, придававшей остроту тяжеловесному и пресному семейному блюду. Сначала он наотрез отказался заниматься доставшимся даром кафе, и только посулы братьев не вмешиваться, не диктовать, не учить жить и дать деньги на полную реконструкцию, оформление интерьеров и подготовку собственной программы, заставили его переменить решение. Обычно мягкий и покладистый, он твердо стоял на своем, настаивая на деталях интерьера, не совместимых с точки зрения дорогого дизайнера, нанятого братьями.
– То, что вы предлагаете, дешевка, китч, балаган! Существуют же каноны! – возмущался дизайнер.
– Возможно, мне не хватает вкуса, – сказал Аркаша братьям, – но все будет или так, как я хочу, или никак. А балаган это именно то, что мне нужно. Если «балаган» честно называется «балаганом» – это прекрасно и не стыдно. А если «балаган» называется «театром музыкальной комедии», это неприлично и пошло. Я хочу именно балаган, захватывающе-интересный, раскованный и живой! – Он даже всерьез раздумывал, не назвать ли ему свое детище «Балаганом».
Как известно, все когда-нибудь кончается. И в итоге, после трех месяцев нервотрепки, скандалов и криков: «Оставьте меня в покое!», «Идите вы… со своим гребаным дизайнером!» и «Вон!» родилась «Касабланка». Вернее, родилось, потому что это было кабаре. Кабаре «Касабланка». «Балаган» пришлось заменить на «кабаре», потому что, если кабаре «Касабланка» звучит приятно для слуха, то балаган «Касабланка» звучит плохо, вернее, не звучит вовсе. Название это также было победой американского классического кинематографа…
Шоу, которое Аркаша придумал и поставил в «Касабланке», было пронизано чувством ностальгии по невинной кинематографической экзотике тридцатых и сороковых, когда создавались павильонные багдадские воры и индийские гробницы, а костюмы, сшитые по его корявым эскизам, принадлежали другой, близкой по духу декоративной эпохе, любимой им за извращенно-рафинированный эстетизм и нарочитое внимание к деталям – арт нуво[1 - Арт-нуво (от фр. Art nouveau) – художественное направление в искусстве, наиболее популярное в 1890–1910 годах в Европе и США.].
Он сам нашел артистов для своего шоу. ЭрЖе Риеку, танцовщицу кордебалета, которая из-за своего скандального характера нигде долго не задерживалась и которую из-за гигантского роста всегда засовывали за чьи-то спины, придумал ей номер и не мешал самовыражаться. «РЖ» ничего общего не имеет с реферативным журналом, как можно было бы подумать, а значит «роковая женщина». Папа Аркаша любил экзотику. Риека действительно была роковой женщиной, богато одаренной природой. Кроме роста под два метра, она обладала бурным темпераментом, специфическим чувством юмора, манерой разражаться режущим слух хохотом или скандалить по любому поводу и без; кроме того, была раскрашена, как вождь племени сиу (или какого-нибудь еще), вступивший на тропу войны. Аркаша умел с ней ладить. Замечания его во время репетиций были кратки и точны, и Риека скандалила с ним исключительно из принципа, а откричавшись, говорила деловито: «Аркаш, ну, ты гигант! Покажи еще раз!» В глубине души она была добродушной девушкой. И Аркаша, тощий и некрасивый, показывал роковой женщине Риеке позу, движение или взгляд, подсмотренный им у кинодив прошлого, перед которыми и сегодня не устоит ни один представитель сильного пола. Он склонял голову набок, чуть касаясь подбородком плеча, опускал глаза, капризно изгибал губы, держал паузу, а потом искоса метал такой взгляд-кинжал на Риеку, что, казалось, сыпались искры и появлялось пламя, делая при этом легкое движение подбородком, плечом, грудью, бедрами, и…
– Ты поняла, дитя мое? – спрашивал он Риеку.
– А ты, Аркаш, случайно не голубой? – спрашивала, в свою очередь, Риека. – Я знаю одного такого, ходит в бабском платье и выкобенивается, куда там бабе… Откуда ты все про нас знаешь?
– Наблюдаю жизнь, Риека, держу глаза открытыми, – отвечал ей Аркаша. – Ну, давай! И следи за речью. Не забывай, что ты женщина!
Он нашел Куклу Барби, простоватую пухленькую блондиночку, чистенькую и аппетитную, как молочный поросенок. Если Риека была зловещим и воинствующим секс-символом, то Кукла Барби была просто куклой с наивными круглыми глазами, чуть слишком круглыми и чуть слишком наивными, а от невинных ее поз во время танца за версту разило невзыскательной эротикой – большего от нее и не требовалось.
И, наконец, Орландо – вялое, недокормленное существо без пола и возраста, с бледным, невыразительным, каким-то сонным лицом, напоминающее механического человека изломанной походкой и дергаными движениями, возможно, в силу многолетнего пристрастия к сильнодействующим возбудителям. Орландо был наделен, или наделено, совершенно изумительным талантом перевоплощения и подражания голосам. После небольшого перерыва, когда свет прожектора снова падал на сцену, там, в белокуром паричке, белом открытом платье, слегка расставив красивые стройные ноги в туфельках на высоких каблучках, в позе, классически-узнаваемой из-за миллионов фотографий, заполонивших мир – одна рука придерживает взлетающий от сквознячка подол платья, другая поправляет волосы, – стояла вечно юная и вечно желанная прекрасная кинобогиня Мерилин! Даже те, кто был готов к этому, не могли удержаться от восторженного и радостного рева и аплодисментов. А потом Орландо пел ее голосом, негромким, сладким, как патока, с характерными придыханиями…
Аркаша слушал со слезами на глазах. Он был счастлив – осуществилась его мечта: поставить свое шоу, не идейно-выдержанное и пресное, как в старые недобрые времена, или неприлично-развратное, как во времена вседозволенности и беспредела, а совсем-совсем другое: красивое, легкое, с флером утонченной эротики.
«Касабланка» открывалась в девять вечера, концертная программа начиналась в одиннадцать и продолжалась около двух с половиной часов, а к трем утра публика расходилась. Сигналом к началу спектакля служил меркнущий свет большой центральной люстры. В течение нескольких минут зал освещался лишь свечами в круглых полых шарах разноцветного стекла. Разноцветные шары придумал сам Аркаша и страшно ими гордился. Зрелище действительно получилось радостным и карнавальным. Потом вспыхивали софиты, и на сцену вихрем вылетали восемь девушек, «резвых кобыл», по определению Риеки, глубоко декольтированных, в ореоле страусиных перьев и, шурша жестяными яркими юбками и задирая выше головы хорошенькие ножки в чулках со швом, принимались отплясывать канкан. Публика, затаив дыхание, следила за феерическим зрелищем, а когда они, отплясав, одна за другой с размаху усаживались в шпагат, а потом отстегивали атласные подвязки и бросали их в зал, взрывалась восторгом.
Разогретая подобным образом публика получала следующий номер программы – Богиню Майю, то бишь Риеку. Потом – Орландо, и на десерт розовую конфетку-нимфетку Куклу Барби. Затем, до самого закрытия, по залу с микрофоном бродила «ночная бабочка» – безголосая тощая Кирка Сенько, – и шептала-пела прокуренным басом, не без шарма, однако, известные и неизвестные стихи «серебряных» поэтов. Но это уже вне программы, само по себе, как деталь интерьера, равно как и мягкая неназойливая музыка и незаметная глазу игра света: каждые восемь-десять минут освещение в зале менялось: лиловый свет сменялся темно-желтым, зеленый – розовым. Время от времени кто-нибудь с удивлением замечал, что свет изменился – стал темно-розовым, а был, кажется, оранжевым.
Гости ужинали, пили, обсуждали дела. Были среди них спокойные, солидные, богатые, не разбогатевшие, а именно богатые изначально люди, знающие себе цену, свой клан, вылезшие из подполья, опутавшие своими щупальцами страну, делающие деньги и диктующие политику. Были эстетствующие интеллектуалы-западники. Образованные нувориши с рафинированным вкусом. Иногда заявлялись шумные братки в поисках разухабистого шалмана, но быстро разобравшись, что к чему, тихо убывали гулять в другое место.
Пианист, крупный мужчина с породистым лицом немолодой, уставшей от жизни лошади и длинными седыми кудрями, одетый во фрак с бабочкой, мягко перебирал клавиши рояля, на крышке которого стоял серебряный шандал на пять свечей и бокал шампанского. Время от времени официант приносил полный бокал и незаметно убирал пустой. А в самом конце, когда гасли огни и расходилась публика, бережно провожал отяжелевшего тапера к заказанному заранее такси, называл адрес и расплачивался с шофером. На сегодня – все, можно по домам.
Аркаша любил эти часы раннего утра, непривычно тихие и спокойные, когда можно походить по пустым комнатам, проверить замки на дверях и окнах, выключить свет и, наконец, усесться с чашкой чая и сухариками и расслабиться, перебирая в памяти детали прошедшего вечера. Он с удовольствием рассматривал зал, вспоминая упрямого дизайнера: высокие деревянные панели в тон паркету, темно-зеленая ткань, затягивающая стены от панелей до потолка, и любимые картины: две хорошие копии Тулуз-Лотрека, несколько эскизов театральных костюмов Бакста и четыре акварели, изображающие традиционные маски венецианского карнавала, с черно-белым ромбическим узором, повторяющемся в трико Арлекина, плитках пола и переплетах стрельчатых окон. В левом нижнем углу стояли две буквы «К» – подпись художника. На всех рисунках присутствовала скорчившаяся фигурка Арлекина, подглядывающего, подслушивающего, со ртом, распяленным от уха до уха в нехорошей улыбке… как предупреждение неосторожным: «Бдите!» И хотя художник всякий раз помещал его то сбоку, то сзади, а на одном из рисунков вообще оставил от него лишь половину туловища и часть головы с приставленной к уху ладонью, свернутой ракушкой, он тем не менее, казалось, олицетворял собой дух карнавала, придавая ему зловещий смысл коварства, предательства и пира во время чумы.
– Жуткие картинки, – сказала как-то Риека. – Где ты их взял?
– Набрел случайно, продавала старая женщина, остались от внука.
– А внук где?
– Кажется, уехал. Или умер.
– Неудивительно! Кто рисует такое, долго не протянет.
– Возможно. Люди, так трагически чувствующие, рано уходят.
– Их было только четыре?
– Нет, девять.
– И все такие же?