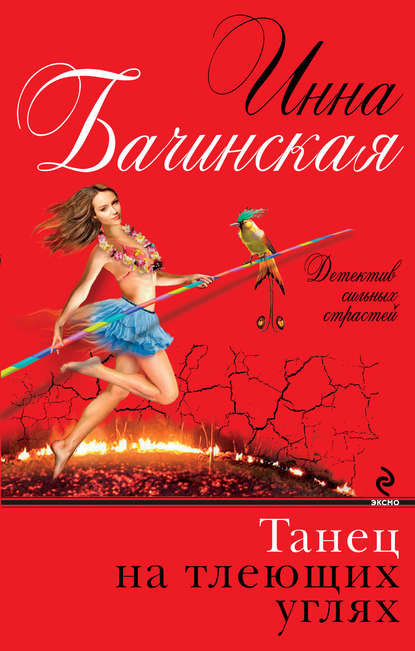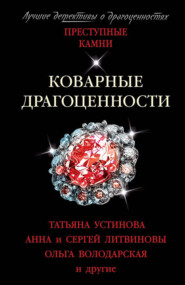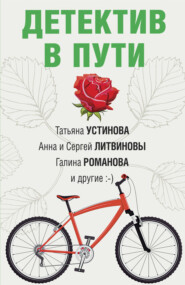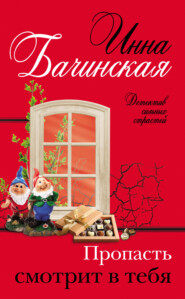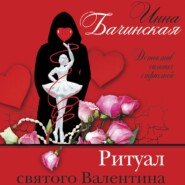По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Танец на тлеющих углях
Автор
Серия
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она пригласила меня к себе, и мне показалось неудобным отказаться.
– Ты был у нее дома?
– Был.
– И что?
– И ничего. Она замазала мне царапины какой-то дрянью… – Шибаев запнулся, вспомнив теплые ладони на своем лице.
– А потом? – ревниво спросил Алик.
– Потом я ушел.
– И… все? – не поверил адвокат.
– Ну, в общем, все.
– И как она?
– Никак. Женщина как женщина. С двумя серьгами. Кстати, они из хрусталя.
– И что теперь?
– И что теперь? – повторил Шибаев.
– А как же Григорьев?
– Пошлю я твоего Григорьева… подальше.
– Она тебе понравилась? – спросил Алик, прозревая истину.
– Не знаю.
– Ты будешь ей звонить?
– Нет. А ты, если хочешь, позвони. Скажи, что ты мой адвокат. На всякий случай, а то вдруг эти уроды подадут в суд.
– Ты же их замочил!
– Ну, их наследники. Ты ведешь дела о наследстве?
– Тебе все шуточки… – буркнул Алик Дрючин и задумался. Его интересовали подробности драки, квартира Григорьевой, то, как она перенесла нападение, что сказала, какими именно словами выразила свои чувства, что нападавшие успели с ней сделать – ну, травмы там, синяки… Одним словом, любая мелочь. Но он видел, что его друг неизвестно по какой причине не в настроении и делиться деталями не расположен. Хотя почему неизвестно? Известно. Вон физиономия какая… разукрашенная. Алик невольно вспомнил шибаевского кота Шпану, украшенного боевыми шрамами с кончика носа до пяток, если они у него имеются, и подумал, что между этими двумя много общего и самое главное – оба крутые мужики, постоянно ввязывающиеся в коллизии. Правду говорят, что животное перенимает нрав хозяина. Или наоборот.
– Ты решил ему отказать? – спросил он.
– Я уже сказал.
– Слушай, а что, если это он?
– В каком смысле? – не понял Шибаев.
– В смысле, хотел ее устранить!
Шибаев даже отвечать не стал на такой дурацкий вопрос. Банкир Григорьев был неприятным типом, но отнюдь не дураком, и приди ему в голову мысль устранить жену, сообразил бы что-нибудь похитрее. Например, падение с моста.
Алик на время оставил детектива в покое и отправился на кухню готовить ужин. Доставая разнокалиберные тарелки и раскладывая на них принесенные закуски, он пытался представить себе Григорьеву в интерьере собственного дома (интересно, есть ли там ее картины?), испытывая при этом легкие грусть и сожаление, что все это приключилось с Шибаевым, а не с ним. А Ши-Бон явно чего-то недоговаривает. Женщины, как известно, не приглашают к себе домой, чтобы показать вид из окна…
А детектив в это время лежал на диване, переживая приступ острого недовольства собой оттого, что не мог перестать думать о Григорьевой. Как дешевая шлюха, думал он, за ласковый взгляд, улыбку, теплые ладони готов бежать на край света. Он потрогал щеку. Дурак! Не стоило идти к ней, не стоило принимать ее заботу, ничего не нужно было. В то же время он понимал, что по-другому произойти и не могло, случай и обстоятельства сплелись таким образом, что ему пришлось подчиниться. Именно! Подчиниться. Ему показалось, он нащупал наконец причину своего недовольства – его вынудили подчиниться, ему не оставили выбора, он пошел на поводу и… и… вообще. А что, собственно, вообще? О чем сыр-бор? Спас женщину, пил с ней кофе, что не так? Какие претензии? Чутье, редко подводившее Шибаева, ощутимо посылало сигналы тревоги, мигало красной лампочкой, но зацепиться было не за что.
В разгар самокопания появился Алик и позвал его на кухню ужинать. Шибаев, почувствовав здоровый голод, с облегчением покинул осточертевший диван.
Они сидели на спартанской шибаевской кухне, и после третьей рюмки Алик задал свой главный вопрос:
– Как она тебе?
Александр только кивнул с набитым ртом – нормально, мол. Другого ответа у него просто не было. Прожевав, он вдруг спросил:
– Что такое «эманация»?
* * *
…Он летал по квартире, накрывая на стол. Не забывая мельком взглядывать на себя в зеркало, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке. Тонкий, гибкий, похожий на подростка, с сияющими, полными ожидания глазами. Если не присматриваться, не видны сухие лучики, расходящиеся веером от уголков глаз и губ. Ему всегда шел черный цвет. Любимый черный шелковый свитерок, нежная белая кожа в вырезе, серебряный крестик на недлинной цепочке. Светлые тонкие прямые волосы, небрежно брошенные за уши, бледные руки, которые помнят…
От слабости в ногах он опустился на стул, потрогал крестик, которому придавал чуть ли не мистическое значение как символу тайны.
Из распахнутого окна тянет дождем и ранними сумерками. В комнате почти темно. На противоположных концах простого непокрытого скатертью деревенского стола два старинных серебряных подсвечника с длинными желтыми свечами. Сочетание грубых, потемневших от времени досок стола и ювелирной работы подсвечников бьет в глаза чарующим несообразием, в котором чувствуется подлинный артистизм. Сине-белый фарфор тарелок, тяжелый тусклый мельхиор вилок и ножей. Хрустальный караф[2 - Графин (от carafe – франц.).] с красным бордо, их любимым вином. Низкие хрустальные рюмки с монаршей короной. В прозрачной прямоугольной вазе в центре небрежные веточки желтых орхидей. Орхидея – их цветок. Он учился дизайну у друга, взахлеб впитывая его методы, вкусы, пристрастия, внимание к деталям, их сочетаемости и цвету, и сейчас, полный томительного ожидания, вкладывал душу в убранство стола, комнат, спальни. На подушке в спальне лежит желтая орхидея, на богатом атласном желто-золотом покрывале – вишневый шелковый халат, на одноногом столике – шандал с тремя свечами и крохотная круглая шкатулка лиможского фарфора – голубые васильки в золотых ромбах на белом. В шкатулке – легкая белая пудра, пьяное зелье…
Он многому научился у него, назначив себя любимым и преданным учеником. Преданным и любимым… навсегда. Ничего не прошло, ничто не забылось. Внезапно его осеняет, что «преданный» можно читать по-разному. Преданный ученик и… преданный ученик. Он замирает на миг, пораженный открывшимся невольным смыслом. Невольным и несообразным – привычнее нашему уху звучало бы «преданный учитель». Чаще предают те, кто моложе, жаднее к жизни и ее разнообразию, кто привык получать. Те, кого любят. Чаще, но не всегда…
Замирает… и летит дальше. От волнения у него меркнет в глазах, сердце колотится в груди то справа, то слева, то в горле, готовое выпорхнуть на волю. Он летает по комнатам, кружась, полный возбуждения, заранее пьяный, хотя красное, почти черное вино в карафе не тронуто. У него мелькнула мысль налить себе чуть-чуть, чтобы унять волнение, но он отмел ее как предательскую.
Едва слышная музыка, любимая музыка его. Вскрики саксофона, от которых он вздрагивает в нервном ознобе. Бенни Гудмен. Он равнодушен к джазу, но тот его любит. Бенни Гудмен, орхидеи, свечи… диссонанс, больше подошла бы классика, семнадцатый век, плоский, блямкающий, наивный звук клавесина. Но сакс в отличие от классики заводит.
Он раскрывает дверь на балкон. Взметнулись тяжелые драпировки, рванувшийся в комнату запах мокрой травы сразу вытеснил запахи еды.
Взгляд его поминутно возвращается к высоким часам в углу. Часы начинают бить. Десять. Тот всегда был точен. Часы бьют неторопливо, размеренно, звук провожает его в прихожую. Он стоит у двери – замер, прислушиваясь, дыша глубоко, чтобы унять нетерпеливое биение сердца. Сейчас, сию минуту раздастся звонок! Он распахнет дверь, дрожащие пальцы с трудом справятся с замками…
Глава 6
Трясина
Шибаев неторопливо шел на свидание с сыном Павликом, у которого теперь было двое отцов – просто папа и папа Славик, бизнесмен. По уговору с бывшей женой каждое воскресенье Шибаев забирал маленького человечка, и они отправлялись куда глаза глядят. Глаза глядели в разные стороны – то в сторону зоопарка, то парка с автодромом, то кино. А по дороге то и дело попадались будки с мороженым, кока-колой и серебряными шарами на нитке, которые так и рвались улететь. В общем, многое можно успеть, если не торопиться, если тебя не понукают ежесекундно и не дергают за руку с криками: «Быстрее! Опаздываем! Не смотри по сторонам!» А куда смотри? Смотри под ноги. Сказать малышу, не смотри по сторонам, а смотри под ноги – это все равно что попытаться загасить божественный огонь творчества и любопытства к миру и его устройству. Отец и сын никогда никуда не торопились, смотрели по сторонам сколько влезет, стараясь ничего не пропустить. Под ноги не смотрели, а потому спотыкались на ровном месте и иногда падали. Но не ревели, вели себя по-мужски…
Шибаев уже шел по площади, когда услышал хриплое забулдыжное: «Хеллоу, моторола! Хеллоу-у-у, хеллоу-у-у!» Это подал голос его сотовый. Звонила Вера с сообщением, что прогулка отменяется – они всей семьей едут за город в гости к друзьям Славика. «Не могла раньше позвонить», – поинтересовался Шибаев. Вера, как будто только и ждала его замечания, причем довольно мирного, немедленно взорвалась упреками по поводу воскресных отношений отца с сыном, когда так называемый папа всю неделю не вспоминает о ребенке, а в воскресенье начинает качать права… и так далее. Упреки были несправедливы и просто глупы. Вера злилась, к гадалке не ходи, – Шибаев попросту попался ей под горячую руку. У нее всегда по утрам было сложное настроение, а тут еще, видимо, случилось что-то, что подлило масла в огонь. Александр не стал слушать и отключился, прекрасно при этом понимая, что нежелание общаться аукнется ему в будущем. Отключение человека, настроившегося на ссору, просто бесчеловечно. Это все равно как захлопнуть дверь перед его носом. Не обязан, сказал он себе. Не обязан, и точка.
Он бесцельно брел по полупустому городу – народ рванул на дачи, пользуясь прекрасным теплым днем, одним из последних, предзимних, – раздумывая, что делать дальше. Позвонить Алику Дрючину или отправиться прямиком в офис и привести в порядок бумаги. Одиночество превращает выходные дни в пытку, а одиноких людей – в неприкаянные тени. Воскресная депрессия – хворь, опасная тем, что часто продолжается всю последующую неделю.
Шибаев взвешивал «за» и «против», и даже в фигуре и походке его наметилось некое колебание. Он вздрогнул, услышав свое имя. Чья-то рука легла на его рукав, он оглянулся и увидел запыхавшуюся Григорьеву.