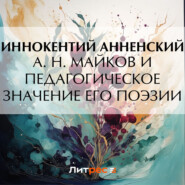По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искусство мысли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнерадостный мальчик при столкновении с грубой силой, которая грозит его засудить, решается принять на себя страдание. Так делали лучшие и высшие существа, и в этом, т. е. в его решении, таится частица чего-то непреоборимо-сильного и светлого до ослепительной яркости. Вот это что-то и берет его, радостного. Без героизма, без жертвы, без любви, почти стихийным тяготением, жгуче-ощутимым наследием долгой смены страстотерпцев определился этот начальный узел, спутавший в одно правду с судом, суд со страданием, а страдание с выкупом чего-то Единственного, Светлого, Нездешнего и Безусловного.
Женским соответствием к символу маляра – возникает Лизавета. Эта не ищет пострадать, она только терпит, она – кроткая, она – вечно отягощенная то чужой похотью, то чужой злобою, она – бесполезно для себя сильная, безрадостно молодая и даже бессмысленно убитая. Она – вещь, но вещь только для нас; для античного бога это была бы его Кассандра.[13 - Кассандра – дочь царя Трои Приама, обладавшая даром пророчества, которой никто не верил.]
Когда мысль побывала уже на обоих отрогах, и, усиленная двумя потоками в объединяющем русле, она создает свой самый глубокий поворот в романе символ Сонечки Мармеладовой. Это уже не только кроткая и не только жертва, да и не думает она о страдании, ни о венце, ни о боге. Сердце Сони так целостно отдано чужим мукам, столько она их видит и провидит, и сострадание ее столь ненасытимо-жадно, что собственные муки и унижение не могут не казаться ей только подробностью, – места им больше в сердце не находится.
За Соней идет ее отец по плоти и дитя по духу – старый Мармеладов. И он сложнее Сони в мысли, ибо, приемля жертву, он же приемлет и страдание. Он тоже кроткий, но не кротостью осеняющей, а кротостью падения и греха.
Он – один из тех людей, ради которых именно и дал себя распять Христос; это не мученик и не жертва, это, может быть, даже изверг, только не себялюбец, – главное же, он не ропщет, напротив, он рад поношению.
А любя, любви своей стыдится, и за это она, любовь, переживает Мармеладова в убогом и загробном его приношении.
Там, где одна извилина пересекается другой, принадлежа обеим зараз, мысль наша задерживается на символе Авдотьи Романовны Раскольниковой.
Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька, или там какого-нибудь правителя, или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одною из тех, которые претерпели мученичество, и уж конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами.[14 - Знаете, мне всегда было жаль… жгли грудь раскаленными щипцами. – См. 6, IV.]
Вот что говорит Раскольникову человек, которому Дунечка через какой-нибудь час после этого будет стрелять в голову из его же пистолета.
Дунечки и точно приносят жертвы, но самоотречение их высокомерно. Дунечка и страдать будет, не сливаясь с тем, из-за чего мучится, «улыбаясь», по выражению Свидригайлова. Не в этом ли и лежит то сладострастное обаяние Дунечки, которое осилило Свидригайлова и, презрительно готовое проституироваться Лужину, осуждено уйти холодным и бездетным из объятий Разумихина?
Если додумать маляра, – до конца его додумать, то мысль едва ли пойдет далее той точки, на которой Достоевский создал Марфу Петровну Свидригайлову. Эта – тоже приемлет жизнь, только sub specie cruciatus,[15 - Под знаком мученичества (лат.).] под видом страдания. Покупая себе Свидригайлова, Марфа Петровна отлично понимала, кого она покупает; ею не столько оплачивалось наслаждение или желание властвовать, лелеять, опекать, тешиться или хотя бы мучить, сколько именно добывалось право жаловаться, т. е. по-своему страдать и возбуждать к себе сострадание. Письмо, которое чернило Свидригайлова, и несколько ударов хлыста по плечам – стали, может быть, интереснейшей страницей в жизни Марфы Петровны. Брать от жизни больше даже, чем можешь переварить, и в тоже время казаться мученицей и обездоленной, вот для Марфы Петровны смысл жизни. И призрачное страдание скрестилось у нее с самым грубым наслаждением плоти в столь же неразрывный узел, как у маляра его мука плотская и венец духовный.
Для самого Достоевского Марфа Петровна была символом страдания, в котором нет бога, и этим идея как бы переводилась в сферу высокого комизма.
Точка Марфы Петровны соединена на нашей схеме пунктиром с центральным пунктом извилины бунтующих, т. е. с символом ее мужа Аркадия Ивановича Свидригайлова. Человек без малейшей пошлости, напротив, – фантастичный, он, может быть, более всех в романе, есть чистая идея, категорическое требование нашего ума.
Уже не молодой, старше даже, пожалуй, чем Достоевский в те же годы, Свидригайлов болен бесполезностью своего опыта. Он холодный, выносливый, пытливый и чарующий. Жизнь Свидригайлов принимает, пока жизнь сильней его, потому что он, Свидригайлов, трезв, умен и ироничен, но подайся эта жизнь ему хоть на вершок, и он возьмет ее, точно бы это была Лизавета Смердящая, возьмет тут же и всю, с грязью и ужасом, по-карамазовски.
Нет вещи, которой бы Свидригайлов брезгал, до того этот дьявол холоден и умен; но нет и такой, которой бы он не презирал, начиная с собственной жизни. Умирает Свидригайлов, конечно, не из-за Дунечки, но Дунечка точно была последней связью его с той жизнью, ключи от которой унесла с собой Марфа Петровна. А умереть ему велел не кто другой, как Марфа Петровна, и в тот самый жаркий день, когда после похоронной возни являлась ему напомнить, что часы-то завести и позабыл.[16 - …часы-то завести и позабыл. – См. 4, I.] Может быть, Свидригайлов даже убил Марфу Петровну, чтоб удобнее овладеть Дуней, но это все равно: жизнь его все-таки принадлежит ей, Марфе Петровне, и никому больше; у нее ведь и документ есть, а Свидригайлов человек аккуратный и по-своему добросовестный. Но до такой степени органически чужда Свидригайлову идея Искупления, что когда, уходя, он отдает деньги на добрые дела, то мы понимаем, почему это он вспомнил, хотя и по другому поводу, о тридцати сребрениках. Свидригайлов не так глуп, чтобы спасать душу; данные же им деньги и точно больше всего похожи на те, которыми некогда оплатилось «село крови».[17 - … «село крови» – земля для погребения странников, купленная первосвященниками на те тридцать сребреников, которые были возвращены Иудой, раскаявшимся в своем предательстве. См.; Евангелие от Матфея, 27, 3–8.]
Бога же с Свидригайловым не было давно – рано он его продал, и продешевил, должно быть. Тоже ведь и тут опыт нужен.
Вверх от Свидригайлова идут идеалистические символы требовательного счастья, все теории, химеры или фантазии; вниз же от него все обличения идеи счастья, вплоть до яркой, в глаза бьющей, укоризненно сбывшейся пошлости.
Первый узел вверх, к которому тянутся все вожделения, – это красота-мучительное обещание Дунечки. Мы об нем уже говорили. Несколько выше возникает тот, где таится возможность ее матери, зерно, из которого вышел печальный призрак Пульхерии Александровны Раскольниковой. Здесь болезненная вера в обетованный союз правды и счастья, здесь даже Лужин может если и не быть прекрасен, то все же хоть не портить картины.
Здесь и влюбленность в Родю, – галлюцинирующая и убивающая влюбленную призрачным наслаждением и умилением от его добродетельного счастья. Здесь и трогательно-идиотическая, кротко-упрямая вера в то, что человек любит человека и только любит.
Вниз от Свидригайлова ей отвечает другая, тоже-иллюзионерка счастья, но уже не благословляющая и не осеняющая, а главное, без улыбки – этой «почти Дунечкиной» улыбки. Это – тоже упрямая и тоже категорическая, потому что облекает пристальную и упорную мысль художника, но у нее красные пятна на скулах, она – страшная на солнце, и она хихикает, она кашляет, она жалуется, она проклинает, и, умирая, она судорожно вытягивает сведенные ноги.
Если в Пульхерии Раскольниковой отразилась тихая, устремленная маниакальная мысль о счастье, то в Екатерине Ивановне та же безумная мысль высовывает язык и мечется.
Вверх над Пульхерией Раскольниковой на следующем же этапе сложился символ Разумихина.
И развернулся же здесь автор! Какого открытого и благородно обаятельного представителя дал он «молодым поколениям нашим»[18 - …молодым поколениям нашим… – 5, I.] в Дм. Пр. Разумихине. Но если вы лучше вглядитесь в этого фатального посредника, в этого Кочкарева[19 - Кочкарев – см. «Женитьбу» Гоголя.] нигилизма и рубаху-парня, вас не может не поразить двойственность, не двоение, а именно двойственность этой наспех одетой мысли. Разумихин вовсе не так прост, как нам сразу показалось: это не только – умный дурак, но и наивная шельма. Да и слишком уж он что-то во всех восторженно влюблен, всех бранит и в то же время никем не брезгует. Субъективно Разумихин, по-моему, это – та беспокойная мысль, которая хочет и не может уняться, которая все хочет забыть о своей мучительной загадке: в разговоре, движении, суете и лихорадочной смене тысячи дел и чужих интересов. Впрочем, он не любит ни тумана, ни заповедей страдания. Лучше уж он запьет. – Еще шаг – и мысль о счастье, как оправдании, уже возведена в теорию, тоже маниакальную, но уже преступную и кощунственную, и притом в самом догмате своем, а тащить ее осужден очаровательный мальчик, нежный, сильный и даже умный. Большей прозрачности, скажу даже сильнее, более явной наглости, чем Раскольников, художественная мысль себе у Достоевского никогда не дозволяла.
Мысль коротенькая и удивительно бедная, гораздо беднее, чем в «Подростке», например: Наполеон – гимназиста 40-х годов. Наполеон иллюстрированных журналов. Теория, похожая на расчет плохого, но самонадеянного шахматиста. И в то же время вы чувствуете, что тут и не пахнет сатирой, что это, как теория, самая подлинная пережитость и вера столь живая, что, кажется, еще вчера она заставляла молиться.
В действии, правда, уже нет самой идеи. Полный гипноз над Раскольниковым совершился, по-видимому, гораздо раньше сцены с Мармеладовым, и наказание в романе чуть что не опережает преступление, физически притом же, как мы уже говорили, почти не тронувшее Раскольникова, и мы знаем, почему.
В романе есть только укоризненный бред, боль, стыд и наконец роковое влечение к муке возмездия, которым только и может завершиться дерзкая и логическая мысль о победе, о торжестве, если она не захочет удовольствоваться лужинским благополучием.
Сделать обаятельным, сделать Шиллером, бледным ангелом[20 - … Шиллером, бледным ангелом… – так называют Раскольникова Порфирий Петрович и Свидригайлов.] – то перегоревшее, осужденное, ненавистное и еще раз мучительно разворошенное, это более явная игра даже, чем та – с Сонечкиной чистотой; там ведь хоть теории нет, да и без мистики не обошлось. И какой дьявольской насмешкой не только над душевной красотой, но и над правдой является этот самый Раскольников!
Сонечка должна его перемолоть. Но перемелет ли?
Этой задачи Достоевский так ведь никогда и не решил, да и решать не принимался. Он свернул на другой, на страшный путь самобичевания, негодования и возмездия. И черт остался жив…
Вниз от Свидригайлова за бедной Екатериной Ивановной мысль задерживается еще немного на любопытном узле Порфирия.
Порфирий – это символ того своеобразного счастия, которое требует игры с человеческой мукой, но в типе символ вышел не лишенным колоритности.
Вспомните только белые ресницы, туфли и кропотливую кудахтающую, чисто бабью возню Порфирия с «сюжетцем». Страдание – для этого человека лишь материал, ворочаемый им любовно, хотя и не без некоторой брезгливости, и художник интересно сочетался в нем с чиновником, аккуратным, добросовестным и если жестоким, то лишь по нечувствительности почти истерического свойства.
Но с Порфирия мысль перескакивает уже на совсем другой путь, и этот переход характерен в том отношении, что с ним вместе исчезает из идеи последний призрак безумия.
Зосимов – это уже осевший Разумихин, Разумихин, но без его форса и эмфаза, это – флегма с массивными золотыми часами; это – человек солидный, не без самодовольствия, впрочем, тоже любитель и мастер на бобах разводить, а потому в глубине души уверенный, что он не только настоящий альтруист, но, пожалуй, и мыслитель, будущий-то уж во всяком случае.
На следующем этапе, в Лебезятникове, золотушном, подслепом, раздражительном и бестолковом, гибнет последняя «теорийка», последняя идейка самодовления; все теперь они провалились: и наполеоновская, и мещанская, и артистическо-чиновничья, и карамазовская, и тупо-гигиеническая, и опошленно-базаровская.
А Лужин торжествует.
«То-то вот они, убеждения-то!
Да и женский вопрос подгулял. Хе-хе-хе!».[21 - То-то вот они убеждения-то!.. Хе-хе-хе! – 5, I.] И вот перед тем, как опять взяться за Раскольникова, начиная новый цикл, мысль упирается в Лужина… Продолжительная задержка.
Теории здесь уже нет. Спекуляция, ведь она – уже из натуры, всякая отвлеченность, хотя бы даже лебезятниковская… «Пидерита, но также и Дарвина»[22 - Пидерита, но также и Дарвина… – В романе Лебезятников: «…занести им „Общий вывод положительного метода“ и особенно рекомендовать статью Пидерита (а впрочем, тоже и Вагнера)…» (5, III). Имеются в виду статьи д-ра М. Пидерита («Мозг и дух. Очерк физиологической психологии для всех мыслящих читателей») и А. Вагнера в указ. сб. (СПб., 1866). Здесь ирония по поводу характерного для 60-х годов увлечения Лебезятникова естественными науками.] здесь ровно ни при чем, а «молодые поколения наши» просто-напросто учитываются Лужиным; потому что и это как-никак, а все-таки векселишка.
Но хуже всего оказывается следующее обстоятельство. Выходит, что от Лужина, если не до самого Раскольникова, то, во всяком случае, до его «Наполеона», до мыслишки-то его – в сущности, рукой подать. Ведь и жертва-то облюбована Лужиным, да еще какая! И спокойствие-то ему мечтается, и фонд сколачивается, и арена расширяется, да и риск есть, и даже до сладострастия соблазнительный риск. Вы только сообразите: Лужин и Дунечка… Куда уж тут Родиным статейкам…
В этом-то, конечно, и заключается основание ненависти между Лужиным и Раскольниковым. Не то, чтобы они очень, слишком бы мешали друг другу, а уж сходство-то чересчур «того»: т. е. так отвратительно похожи они и так обидно карикатурят один другого, что хоть плачь. И недаром ведь от такой же обязательной совместимости с ума сошли когда-то и Голядкин, и Иван Карамазов.
Но идеолог «Преступления и наказания» дал нам еще насладиться контрастом, так сказать, бытовым, разве что по-порфирьевски разок-другой подмигнув на «Шиллера-то» и на тот омерзительный вывод, который из него можно сделать.
IV
Преступление есть нечто лежащее вне самого человека, который его совершил. Такова была одна из самых глубоких, наиболее волновавших Достоевского мыслей. Романист не знал еще ни вырождения, ни порочной наследственности, а если он иногда и упоминал о «недостатке в сложении» и «об уродливости», то отсюда было еще слишком далеко до «преступного типа». Знай о нем Достоевский, какой бы это был ресурс для Зосимова.
Впрочем, я поговорю как-нибудь в другой раз о том, какою представлялась Достоевскому сущность человека и как мысль его колебалась в этом вопросе между романтиками и византийским прологом причем романтики стойко защищали свою позицию.
Теперь нам достаточно одного. Достоевский не только всегда разделял человека и его преступление, но он не прочь был даже и противополагать их.
Грандиозные страницы «Мертвого дома» (1861) именно тому-то ведь и посвящены, чтобы разрушить фикцию преступничества.
Острог своим шельмованием и произволом создавал, правда, особый тип людей, но это был тип каторжан, а вовсе не преступников. В «Мертвом доме» есть два удивительных места в 1-й главе и 7-й.
Речь идет там о дворянине-отцеубийце, который весь месяц после своего злодеяния провел самым развратным образом. Хоть он и не сознался, но его все-таки засудили, и не только все в том городишке, где он раньше служил, но и на каторге были убеждены, что он точно убийца и есть. Арестанты даже подслушали как-то во сне его самообличающий бред. Все время, как жил с ним в остроге Горянчиков, отцеубийца был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. «Он был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец». Раз, говоря с автором «Записок» о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот, родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь».
«Такая зверская бесчувственность, – читаем мы дальше, – разумеется, невозможна. Это феномен, тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке», и автор прибавляет: «Разумеется, я не верил этому преступлению».
Женским соответствием к символу маляра – возникает Лизавета. Эта не ищет пострадать, она только терпит, она – кроткая, она – вечно отягощенная то чужой похотью, то чужой злобою, она – бесполезно для себя сильная, безрадостно молодая и даже бессмысленно убитая. Она – вещь, но вещь только для нас; для античного бога это была бы его Кассандра.[13 - Кассандра – дочь царя Трои Приама, обладавшая даром пророчества, которой никто не верил.]
Когда мысль побывала уже на обоих отрогах, и, усиленная двумя потоками в объединяющем русле, она создает свой самый глубокий поворот в романе символ Сонечки Мармеладовой. Это уже не только кроткая и не только жертва, да и не думает она о страдании, ни о венце, ни о боге. Сердце Сони так целостно отдано чужим мукам, столько она их видит и провидит, и сострадание ее столь ненасытимо-жадно, что собственные муки и унижение не могут не казаться ей только подробностью, – места им больше в сердце не находится.
За Соней идет ее отец по плоти и дитя по духу – старый Мармеладов. И он сложнее Сони в мысли, ибо, приемля жертву, он же приемлет и страдание. Он тоже кроткий, но не кротостью осеняющей, а кротостью падения и греха.
Он – один из тех людей, ради которых именно и дал себя распять Христос; это не мученик и не жертва, это, может быть, даже изверг, только не себялюбец, – главное же, он не ропщет, напротив, он рад поношению.
А любя, любви своей стыдится, и за это она, любовь, переживает Мармеладова в убогом и загробном его приношении.
Там, где одна извилина пересекается другой, принадлежа обеим зараз, мысль наша задерживается на символе Авдотьи Романовны Раскольниковой.
Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька, или там какого-нибудь правителя, или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одною из тех, которые претерпели мученичество, и уж конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами.[14 - Знаете, мне всегда было жаль… жгли грудь раскаленными щипцами. – См. 6, IV.]
Вот что говорит Раскольникову человек, которому Дунечка через какой-нибудь час после этого будет стрелять в голову из его же пистолета.
Дунечки и точно приносят жертвы, но самоотречение их высокомерно. Дунечка и страдать будет, не сливаясь с тем, из-за чего мучится, «улыбаясь», по выражению Свидригайлова. Не в этом ли и лежит то сладострастное обаяние Дунечки, которое осилило Свидригайлова и, презрительно готовое проституироваться Лужину, осуждено уйти холодным и бездетным из объятий Разумихина?
Если додумать маляра, – до конца его додумать, то мысль едва ли пойдет далее той точки, на которой Достоевский создал Марфу Петровну Свидригайлову. Эта – тоже приемлет жизнь, только sub specie cruciatus,[15 - Под знаком мученичества (лат.).] под видом страдания. Покупая себе Свидригайлова, Марфа Петровна отлично понимала, кого она покупает; ею не столько оплачивалось наслаждение или желание властвовать, лелеять, опекать, тешиться или хотя бы мучить, сколько именно добывалось право жаловаться, т. е. по-своему страдать и возбуждать к себе сострадание. Письмо, которое чернило Свидригайлова, и несколько ударов хлыста по плечам – стали, может быть, интереснейшей страницей в жизни Марфы Петровны. Брать от жизни больше даже, чем можешь переварить, и в тоже время казаться мученицей и обездоленной, вот для Марфы Петровны смысл жизни. И призрачное страдание скрестилось у нее с самым грубым наслаждением плоти в столь же неразрывный узел, как у маляра его мука плотская и венец духовный.
Для самого Достоевского Марфа Петровна была символом страдания, в котором нет бога, и этим идея как бы переводилась в сферу высокого комизма.
Точка Марфы Петровны соединена на нашей схеме пунктиром с центральным пунктом извилины бунтующих, т. е. с символом ее мужа Аркадия Ивановича Свидригайлова. Человек без малейшей пошлости, напротив, – фантастичный, он, может быть, более всех в романе, есть чистая идея, категорическое требование нашего ума.
Уже не молодой, старше даже, пожалуй, чем Достоевский в те же годы, Свидригайлов болен бесполезностью своего опыта. Он холодный, выносливый, пытливый и чарующий. Жизнь Свидригайлов принимает, пока жизнь сильней его, потому что он, Свидригайлов, трезв, умен и ироничен, но подайся эта жизнь ему хоть на вершок, и он возьмет ее, точно бы это была Лизавета Смердящая, возьмет тут же и всю, с грязью и ужасом, по-карамазовски.
Нет вещи, которой бы Свидригайлов брезгал, до того этот дьявол холоден и умен; но нет и такой, которой бы он не презирал, начиная с собственной жизни. Умирает Свидригайлов, конечно, не из-за Дунечки, но Дунечка точно была последней связью его с той жизнью, ключи от которой унесла с собой Марфа Петровна. А умереть ему велел не кто другой, как Марфа Петровна, и в тот самый жаркий день, когда после похоронной возни являлась ему напомнить, что часы-то завести и позабыл.[16 - …часы-то завести и позабыл. – См. 4, I.] Может быть, Свидригайлов даже убил Марфу Петровну, чтоб удобнее овладеть Дуней, но это все равно: жизнь его все-таки принадлежит ей, Марфе Петровне, и никому больше; у нее ведь и документ есть, а Свидригайлов человек аккуратный и по-своему добросовестный. Но до такой степени органически чужда Свидригайлову идея Искупления, что когда, уходя, он отдает деньги на добрые дела, то мы понимаем, почему это он вспомнил, хотя и по другому поводу, о тридцати сребрениках. Свидригайлов не так глуп, чтобы спасать душу; данные же им деньги и точно больше всего похожи на те, которыми некогда оплатилось «село крови».[17 - … «село крови» – земля для погребения странников, купленная первосвященниками на те тридцать сребреников, которые были возвращены Иудой, раскаявшимся в своем предательстве. См.; Евангелие от Матфея, 27, 3–8.]
Бога же с Свидригайловым не было давно – рано он его продал, и продешевил, должно быть. Тоже ведь и тут опыт нужен.
Вверх от Свидригайлова идут идеалистические символы требовательного счастья, все теории, химеры или фантазии; вниз же от него все обличения идеи счастья, вплоть до яркой, в глаза бьющей, укоризненно сбывшейся пошлости.
Первый узел вверх, к которому тянутся все вожделения, – это красота-мучительное обещание Дунечки. Мы об нем уже говорили. Несколько выше возникает тот, где таится возможность ее матери, зерно, из которого вышел печальный призрак Пульхерии Александровны Раскольниковой. Здесь болезненная вера в обетованный союз правды и счастья, здесь даже Лужин может если и не быть прекрасен, то все же хоть не портить картины.
Здесь и влюбленность в Родю, – галлюцинирующая и убивающая влюбленную призрачным наслаждением и умилением от его добродетельного счастья. Здесь и трогательно-идиотическая, кротко-упрямая вера в то, что человек любит человека и только любит.
Вниз от Свидригайлова ей отвечает другая, тоже-иллюзионерка счастья, но уже не благословляющая и не осеняющая, а главное, без улыбки – этой «почти Дунечкиной» улыбки. Это – тоже упрямая и тоже категорическая, потому что облекает пристальную и упорную мысль художника, но у нее красные пятна на скулах, она – страшная на солнце, и она хихикает, она кашляет, она жалуется, она проклинает, и, умирая, она судорожно вытягивает сведенные ноги.
Если в Пульхерии Раскольниковой отразилась тихая, устремленная маниакальная мысль о счастье, то в Екатерине Ивановне та же безумная мысль высовывает язык и мечется.
Вверх над Пульхерией Раскольниковой на следующем же этапе сложился символ Разумихина.
И развернулся же здесь автор! Какого открытого и благородно обаятельного представителя дал он «молодым поколениям нашим»[18 - …молодым поколениям нашим… – 5, I.] в Дм. Пр. Разумихине. Но если вы лучше вглядитесь в этого фатального посредника, в этого Кочкарева[19 - Кочкарев – см. «Женитьбу» Гоголя.] нигилизма и рубаху-парня, вас не может не поразить двойственность, не двоение, а именно двойственность этой наспех одетой мысли. Разумихин вовсе не так прост, как нам сразу показалось: это не только – умный дурак, но и наивная шельма. Да и слишком уж он что-то во всех восторженно влюблен, всех бранит и в то же время никем не брезгует. Субъективно Разумихин, по-моему, это – та беспокойная мысль, которая хочет и не может уняться, которая все хочет забыть о своей мучительной загадке: в разговоре, движении, суете и лихорадочной смене тысячи дел и чужих интересов. Впрочем, он не любит ни тумана, ни заповедей страдания. Лучше уж он запьет. – Еще шаг – и мысль о счастье, как оправдании, уже возведена в теорию, тоже маниакальную, но уже преступную и кощунственную, и притом в самом догмате своем, а тащить ее осужден очаровательный мальчик, нежный, сильный и даже умный. Большей прозрачности, скажу даже сильнее, более явной наглости, чем Раскольников, художественная мысль себе у Достоевского никогда не дозволяла.
Мысль коротенькая и удивительно бедная, гораздо беднее, чем в «Подростке», например: Наполеон – гимназиста 40-х годов. Наполеон иллюстрированных журналов. Теория, похожая на расчет плохого, но самонадеянного шахматиста. И в то же время вы чувствуете, что тут и не пахнет сатирой, что это, как теория, самая подлинная пережитость и вера столь живая, что, кажется, еще вчера она заставляла молиться.
В действии, правда, уже нет самой идеи. Полный гипноз над Раскольниковым совершился, по-видимому, гораздо раньше сцены с Мармеладовым, и наказание в романе чуть что не опережает преступление, физически притом же, как мы уже говорили, почти не тронувшее Раскольникова, и мы знаем, почему.
В романе есть только укоризненный бред, боль, стыд и наконец роковое влечение к муке возмездия, которым только и может завершиться дерзкая и логическая мысль о победе, о торжестве, если она не захочет удовольствоваться лужинским благополучием.
Сделать обаятельным, сделать Шиллером, бледным ангелом[20 - … Шиллером, бледным ангелом… – так называют Раскольникова Порфирий Петрович и Свидригайлов.] – то перегоревшее, осужденное, ненавистное и еще раз мучительно разворошенное, это более явная игра даже, чем та – с Сонечкиной чистотой; там ведь хоть теории нет, да и без мистики не обошлось. И какой дьявольской насмешкой не только над душевной красотой, но и над правдой является этот самый Раскольников!
Сонечка должна его перемолоть. Но перемелет ли?
Этой задачи Достоевский так ведь никогда и не решил, да и решать не принимался. Он свернул на другой, на страшный путь самобичевания, негодования и возмездия. И черт остался жив…
Вниз от Свидригайлова за бедной Екатериной Ивановной мысль задерживается еще немного на любопытном узле Порфирия.
Порфирий – это символ того своеобразного счастия, которое требует игры с человеческой мукой, но в типе символ вышел не лишенным колоритности.
Вспомните только белые ресницы, туфли и кропотливую кудахтающую, чисто бабью возню Порфирия с «сюжетцем». Страдание – для этого человека лишь материал, ворочаемый им любовно, хотя и не без некоторой брезгливости, и художник интересно сочетался в нем с чиновником, аккуратным, добросовестным и если жестоким, то лишь по нечувствительности почти истерического свойства.
Но с Порфирия мысль перескакивает уже на совсем другой путь, и этот переход характерен в том отношении, что с ним вместе исчезает из идеи последний призрак безумия.
Зосимов – это уже осевший Разумихин, Разумихин, но без его форса и эмфаза, это – флегма с массивными золотыми часами; это – человек солидный, не без самодовольствия, впрочем, тоже любитель и мастер на бобах разводить, а потому в глубине души уверенный, что он не только настоящий альтруист, но, пожалуй, и мыслитель, будущий-то уж во всяком случае.
На следующем этапе, в Лебезятникове, золотушном, подслепом, раздражительном и бестолковом, гибнет последняя «теорийка», последняя идейка самодовления; все теперь они провалились: и наполеоновская, и мещанская, и артистическо-чиновничья, и карамазовская, и тупо-гигиеническая, и опошленно-базаровская.
А Лужин торжествует.
«То-то вот они, убеждения-то!
Да и женский вопрос подгулял. Хе-хе-хе!».[21 - То-то вот они убеждения-то!.. Хе-хе-хе! – 5, I.] И вот перед тем, как опять взяться за Раскольникова, начиная новый цикл, мысль упирается в Лужина… Продолжительная задержка.
Теории здесь уже нет. Спекуляция, ведь она – уже из натуры, всякая отвлеченность, хотя бы даже лебезятниковская… «Пидерита, но также и Дарвина»[22 - Пидерита, но также и Дарвина… – В романе Лебезятников: «…занести им „Общий вывод положительного метода“ и особенно рекомендовать статью Пидерита (а впрочем, тоже и Вагнера)…» (5, III). Имеются в виду статьи д-ра М. Пидерита («Мозг и дух. Очерк физиологической психологии для всех мыслящих читателей») и А. Вагнера в указ. сб. (СПб., 1866). Здесь ирония по поводу характерного для 60-х годов увлечения Лебезятникова естественными науками.] здесь ровно ни при чем, а «молодые поколения наши» просто-напросто учитываются Лужиным; потому что и это как-никак, а все-таки векселишка.
Но хуже всего оказывается следующее обстоятельство. Выходит, что от Лужина, если не до самого Раскольникова, то, во всяком случае, до его «Наполеона», до мыслишки-то его – в сущности, рукой подать. Ведь и жертва-то облюбована Лужиным, да еще какая! И спокойствие-то ему мечтается, и фонд сколачивается, и арена расширяется, да и риск есть, и даже до сладострастия соблазнительный риск. Вы только сообразите: Лужин и Дунечка… Куда уж тут Родиным статейкам…
В этом-то, конечно, и заключается основание ненависти между Лужиным и Раскольниковым. Не то, чтобы они очень, слишком бы мешали друг другу, а уж сходство-то чересчур «того»: т. е. так отвратительно похожи они и так обидно карикатурят один другого, что хоть плачь. И недаром ведь от такой же обязательной совместимости с ума сошли когда-то и Голядкин, и Иван Карамазов.
Но идеолог «Преступления и наказания» дал нам еще насладиться контрастом, так сказать, бытовым, разве что по-порфирьевски разок-другой подмигнув на «Шиллера-то» и на тот омерзительный вывод, который из него можно сделать.
IV
Преступление есть нечто лежащее вне самого человека, который его совершил. Такова была одна из самых глубоких, наиболее волновавших Достоевского мыслей. Романист не знал еще ни вырождения, ни порочной наследственности, а если он иногда и упоминал о «недостатке в сложении» и «об уродливости», то отсюда было еще слишком далеко до «преступного типа». Знай о нем Достоевский, какой бы это был ресурс для Зосимова.
Впрочем, я поговорю как-нибудь в другой раз о том, какою представлялась Достоевскому сущность человека и как мысль его колебалась в этом вопросе между романтиками и византийским прологом причем романтики стойко защищали свою позицию.
Теперь нам достаточно одного. Достоевский не только всегда разделял человека и его преступление, но он не прочь был даже и противополагать их.
Грандиозные страницы «Мертвого дома» (1861) именно тому-то ведь и посвящены, чтобы разрушить фикцию преступничества.
Острог своим шельмованием и произволом создавал, правда, особый тип людей, но это был тип каторжан, а вовсе не преступников. В «Мертвом доме» есть два удивительных места в 1-й главе и 7-й.
Речь идет там о дворянине-отцеубийце, который весь месяц после своего злодеяния провел самым развратным образом. Хоть он и не сознался, но его все-таки засудили, и не только все в том городишке, где он раньше служил, но и на каторге были убеждены, что он точно убийца и есть. Арестанты даже подслушали как-то во сне его самообличающий бред. Все время, как жил с ним в остроге Горянчиков, отцеубийца был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. «Он был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец». Раз, говоря с автором «Записок» о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот, родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь».
«Такая зверская бесчувственность, – читаем мы дальше, – разумеется, невозможна. Это феномен, тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке», и автор прибавляет: «Разумеется, я не верил этому преступлению».