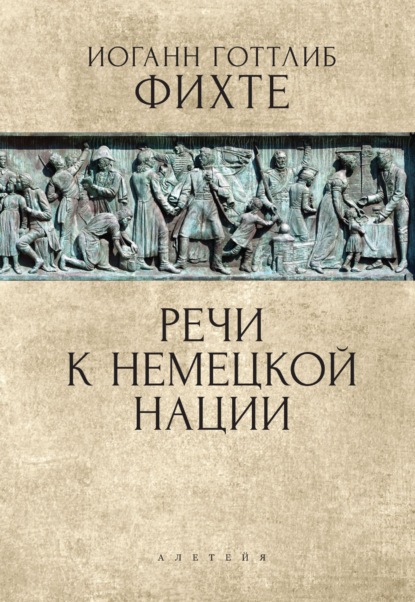По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Речи к немецкой нации
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Четвертая речь
Основное различие между немцами и другими народами германского происхождения
Предлагаемое в этих речах средство для образования нового поколения людей должны применить прежде всего немцы к немцам, и это средство прежде всего и поистине подобает усвоить именно нашей нации, – сказали мы в прошлый раз. Это положение также требует доказательства, и здесь, так же точно как и прежде, мы начнем это доказательство с самого высшего и всеобщего: покажем, что такое немец в себе и для себя в основной своей черте, независимо от постигшей его ныне судьбы, и чем он был издавна, с тех самых пор, как он существует, – и докажем, что уже в этой основной его черте заключена способность и восприимчивость к подобного рода образованию, свойственная исключительно только ему среди всех других европейских наций.
Немцы, прежде всего – это одно из племен германцев вообще, о которых здесь достаточно будет указать то определение, что они были предназначены соединить общественный порядок, созданный в древней Европе, с сохраненной в Азии истинной религией, и таким образом развить в себе и из себя самих новое время, противоположное погибшей древности. Здесь достаточно будет также обозначить свойство немцев лишь в противоположность другим возникшим рядом с ними германским племенам и народностям. Ибо другие нации новой Европы (к примеру, народы славянского происхождения) еще не получили, кажется, столь ясного развития сравнительно с остальною Европой, чтобы возможно было определенно обрисовать их основные черты, а другие народы, также происходящие от германцев, но к которым не относится утверждаемое нами отличительное свойство (каковы скандинавы), мы здесь без всяких сомнений признаем за немцев, и на них также распространяются общие выводы, следующие из нашего рассуждения.
Но прежде всего предстоящему нам сейчас в особенности рассуждению мы должны предпослать следующее замечание. Как основание различия, появившегося в изначально едином основном племени, я укажу одно обстоятельство, которое – просто как обстоятельство – ясно и неоспоримо находится на виду у всех; затем я назову некоторые отдельные проявления этого возникшего различия, которые, просто как обстоятельства, могут, вероятно, стать столь же очевидными. Но вот что касается связи этих последних, как следствий, с первым, как их основанием, и вывода следствия из основания, то здесь я вообще-то не могу рассчитывать на то, что он будет столь же ясен и убедителен для всех. Правда, и в этом отношении я не собираюсь высказывать каких-то совершенно новых и прежде неслыханных суждений, и среди нас есть много людей, которые либо хорошо подготовлены к принятию такого воззрения на дело, или уже и знакомы с этим воззрением. Но в большинстве публики имеют хождение понятия о подлежащем здесь обсуждению предмете, которые весьма отличаются от наших о нем понятий, так что их исправление и опровержение всех возражений, которые могут высказать нам по частным случаям люди, лишенные испытанной опытом способности видеть целое, далеко вышло бы за границы и нашего времени, и нашего плана. Относительно этих последних людей мне придется удовлетвориться тем, чтобы предложить им то, что я имею сказать по этому поводу, и что в целокупности моего мышления не остается столь отрывочным и обособленным, каким является здесь, и не лишено обоснования в глубинах знания, только как предмет для дальнейшего размышления. Совершенно обойти этот предмет я не мог, – не только ради непременной для понимания целого основательности, но уже и ввиду важных выводов, которые последуют из него в дальнейшем ходе наших речей и которые существенно входят в наши собственные ближайшие намерения.
Прежде всего и непосредственно нашему взгляду представляется то различие между судьбами немцев и всех прочих племен, родившихся от того же корня, что первые остались в местах проживания народа-предка (Stammvolk), а последние переселились на жительство в другие места, – что первые сохранили и развили у себя первоначальный язык народа-предка, а последние приняли чужой язык и постепенно преобразовали его на свой лад. Из этого, самого первого по времени, различия, следует объяснять те различия, которые явились позднее, – например, то, что в первоначальном отечестве, сообразно с коренным обычаем германцев, сохранился союз государств под началом одного ограниченного главы, а в чужих землях государственное устройство перешло в монархии, весьма подобно тому, как это было прежде в Риме, и т. п., – а вовсе не наоборот.
Первое из указанных сейчас изменений – перемена родины – совершенно несущественно. Человек легко приживается в любом краю, и своеобразие народа не только не меняется сколько-нибудь значительно от перемены места жительства, но скорее само овладевает этим новым местом жительства и изменяет его по себе. К тому же различие влияния природы в разных краях, населяемых германскими народами, не очень велико. Столь же мало можно придавать значения и тому обстоятельству, что потомки германцев смешались в завоеванных ими странах с их прежними обитателями; ибо победителями и властелинами, и образователями нового народа, возникающего из этого смешения племен, были все же только германцы. Кроме того, такое же смешение, какое случилось у германцев за рубежами отечества с галлами, кантабрийцами и т. д., произошло у них ничуть не в меньшей степени и на родине со славянами; так что любому из народов, возникших от германцев, в наше время непросто будет доказать, будто его родословная чище, чем у всех прочих народов того же корня.
Но более значительным, и, как я убежден, основанием совершенной противоположности между немцами и другими народами, происходящими от германцев, является второе изменение – изменение языка. А здесь, – это я хочу совершенно определенно высказать с самого же начала, важно не особенное свойство того языка, который это племя сохранило, и не особенное свойство других языков, которые другое племя приняло, но единственно лишь то, что здесь сохранили свое собственное, а там приняли чужое; и неважно также, каково было прежнее происхождение тех, кто продолжает говорить на первоначальном языке, а важно лишь то, что они именно без перерыва продолжают говорить на этом языке: ведь язык образует людей намного более, чем сами люди образуют язык[13 - Исследователи отмечают значительную близость этого и многих других ключевых положений философии языка у Фихте к философским и языковедческим воззрениям Вильгельма фон Гумбольдт, и даже говорят о прямом влиянии Фихте на Гумбольдта в этом отношении. Ср., например: «Он (язык) обладает некоторой зримо открывающейся нашему взгляду самодеятельностью, и с этой стороны он есть не создание наций, но дар, доставшийся им силою их внутренней судьбы» (Humboldt W. von. Gesammelte Schriften. Bd. 7. Berlin, 1921. S. 17). «Всякая речь, начиная с самой простейшей, есть присоединение отдельного восприятия к общей человеческой природе» (Ibid. S. 56).].
Чтобы пояснить Вам следствия, какие имеет подобное различие зарождения народов, и определенный характер противоположности их национальных черт, необходимо возникающий из этого различия, я вынужден предложить Вам подумать вместе со мною о сущности языка вообще.
Язык вообще, и в частности обозначение предметов на этом языке через звучание органов речи, нисколько не зависит от произвольных решений и соглашений, но существует, прежде всего, основной закон, согласно которому любое понятие становится в человеческих органах речи именно этим, а не каким-нибудь иным звуком. Так же, как в органах чувств человека предметы отображаются этой определенной фигурой, цветом и т. п., так в органе общественного человека, в языке, они отображаются этим определенным звуком. Говорит, собственно, не человек, но в нем говорит человеческая природа, и извещает себя другим ему подобным существам. А потому нужно было бы сказать: существует один-единственный и абсолютно необходимый язык.
Правда, язык в этом своем единстве, – и таков будет второй момент, – быть может, нигде и никогда не возник у человека вообще, просто как такового, но повсюду его изменяло и образовывало воздействие, которое оказывало различие местностей и большая или меньшая частота употребления на органы речи, а последовательность наблюдаемых и обозначаемых предметов на последовательность этого обозначения. Однако и здесь действует не произвол, не слепая случайность, но строгий закон; и в обусловленном таким образом упомянутыми условиями органе речи совершенно необходимо возник не один и чистый человеческий язык, но отклонение от него, и притом именно это определенное отклонение.
Если людей, живущих сообща, подлежащих одним и тем же внешним воздействиям на их орган речи и в непрерывном взаимном сообщении развивающих свой язык, мы назовем народом, то должны будем сказать: язык этого народа необходимо таков, каков он есть, и не народ собственно выражает в нем свое познание, но само познание этого народа выражает себя в его языке.
Во всех изменениях, происходящих в развитии языка в силу тех же самых упомянутых выше обстоятельств, неизменно действует та же самая закономерность; причем та же самая единая закономерность действует для всех, остающихся друг с другом в непрерывном сообщении, и всюду, где любым человеком высказанная новость достигает слуха всех прочих. Через века, и после всех изменений, каким подвергнется за эти века внешнее явление языка этого народа, он всегда останется той же единой живой словесной силой природы, которая изначально должна была произойти на свет именно такой, которая неизменно текла сквозь частные условия и при каждом из условий должна была стать такой, какой стала, и в конце ряда этих условий должна была явиться такой, какова она теперь, и по прошествии некоторого времени будет именно такова, какой необходимо должна будет стать. Вначале чисто человеческий язык, вместе с органом речи народа, когда раздался из него первый звук; затем то, что возникнет отсюда, вместе со всем тем особенным развитием, которое должен был получить это первый звук речи при данных обстоятельствах, – все это в конечном итоге дает нам нынешний язык данного народа. Поэтому язык и остается всегда одним и тем же языком. Пусть даже, по прошествии нескольких веков, потомство не понимает уже языка, на котором говорили некогда его предки, потому что для него утрачены переходные звенья, – однако с самого же начала в языке существует непрерывный переход без скачков, который всегда неприметен в настоящем и становится заметен только от присовокупления новых переходов, являясь в таком случае как некий скачок. Никогда еще не бывало такого времени, когда бы современники перестали понимать друг друга, ибо вечным посредником и переводчиком для них всегда была и оставалась говорящая во всех и общая всем сила природы. Так обстоит дело с языком, как обозначением предметов непосредственно-чувственного восприятия, а таков вначале всякий человеческий язык. Если народ возвысится от этого восприятия к постижению сверхчувственного, то сверхчувственное – для произвольного повторения и во избежание смешения его с чувственным, в уме первого узнавшего его человека, и для сообщения его другим людям и целесообразного руководства их познанием, – он не сумеет поначалу удержать в понятии иначе, чем обозначив некоторую самость как орган сверхчувственного мира и строго отличив ее от той же самости как органа мира чувственного – противопоставив душу, дух и т. п. физическому телу. Далее, различные предметы этого сверхчувственного мира, поскольку все они вместе являются лишь в этом сверхчувственном органе и существуют лишь для него, обозначаются в языке лишь таким образом, что говорят: особенное отношение этих предметов к своему органу таково же, каково отношение таких-то и таких-то определенных чувственных предметов к чувственному органу, и в этом отношении особенный сверхчувственный предмет отождествляется с особенным чувственным предметом, и через это отождествление язык дает нам указание на место этого первого предмета в сверхчувственном органе. Более язык ничего не способен выразить в этой сфере; он дает нам чувственный образ сверхчувственного, но только замечает при этом, что это именно такой образ; кто хочет проникнуть к самой вещи, тот должен привести в действие свой собственный духовный орган согласно правилу, которое указывает ему этот образ. – В общем же ясно, что это символическое обозначение сверхчувственного должно всякий раз сообразоваться с той ступенью, какой достигло у данного народа развитие чувственной способности познания; что поэтому начало и дальнейший ход развития этого символического обозначения окажется весьма различным в различных языках, соответственно различным отношениям, в которых находились и в которых неизменно находятся у народа, говорящего на известном языке, чувственное и духовное его образование.
Приведем один пример, чтобы оживить это, само по себе ясное, замечание. Нечто, возникающее вследствие постижения основного влечения не одним только смутным чувством, но одновременно и ясным познанием (что мы объяснили в прошлой речи), – а таков всегда и бывает сверхчувственный предмет, – называется греческим словом «идея», часто употребляющимся и в немецком языке, и это слово заключает в себе точно такой же символ, как тот, который встречается в следующих выражениях Лютерова перевода Библии: «увидите видения», «будут вам сновидения»[14 - Имеется в виду целый ряд мест в Библии, где в немецком Лютеровом переводе стоит Gesicht – видение, вид. Русский перевод не обнаруживает, конечно, того именно, на что хочет указать здесь Фихте, но сохраняет живую конкретность этого пророческого видения, в противоположность пустому лже-видению лжепророков. Особенно близко место из Книги пророка Иоиля, 2, 28: «И будет после того, излию от духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Также следующие места ветхозаветного текста: Книга Чисел, 12, 6 («И сказал: Слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним»); Книга пророка Иезекииля 1, 1 («разверзлись небеса, И я видел видения Божии»); Книга пророка Даниила 1, 17 («И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение, и сны»); 4, 6–7; («Видения же головы моей на ложе моем были такие»); Книга Иова, 7, 14 («Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня»); Книга пророка Иезекииля 40, 2 («В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву»); 8, 31 («и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим»); 12, 24.]. «Идея» или «вид» в чувственном значении этого слова – это нечто такое, что может быть схвачено лишь плотскими глазами, а отнюдь не органом иного чувства – осязания, слуха и т. п., – как например, радуга, или те фигуры, которые проходят перед нашим взором во сне. «Идея» же в сверхчувственном значении слова означала бы прежде всего, ввиду особой сферы, к которой должно относиться теперь это слово, нечто такое, что постигается вовсе не плотским, но только духовным органом; а далее, то, что может быть постигнуто не смутным чувством духа, как некоторые другие предметы, но только глазом духа, ясным познанием. Если мы и допустим, далее, что греки, давая такое символическое обозначение предмету, опирались все же при этом прежде всего на образ радуги и явлений такого рода, то нам придется признать, что их чувственное познание уже прежде того должно было подняться до постижения того различия между вещами, что некоторые вещи доступны всем или большинству органов чувств, а некоторые – только глазу, и что кроме того, они должны были бы обозначить развитое понятие, если бы только уяснили его, не так, но как-то иначе. Тогда нам открылось бы также и преимущество духовной ясности греков перед другим народом, который не умел бы обозначить различие между чувственным и сверхчувственным с помощью символа, заимствованного из состояния разумного бодрствования, но прибегнул бы, желая найти образ для иного мира, к представлениям сновидений. В то же время нам стало бы ясно, что это различие обусловлено не большей или меньшей силой органа познания сверхчувственного у этих двух народов, но исключительно лишь различием чувственной ясности, свойственной им в ту пору, когда они пожелали обозначить словом сверхчувственное.
Итак, обозначение сверхчувственного в слове всегда сообразуется с обширностью и ясностью чувственного познания в обозначающем человеке. Символ ясен для него и совершенно понятно выражает для него отношение постигнутого им к духовному органу, ибо он поясняет ему это отношение через другое, с непосредственной живостью ему известное, отношение к его чувственному органу. Это, возникшее таким образом, новое обозначение, со всей новой ясностью, какую сообщает это расширенное употребление знака и самому чувственному познанию, фиксируется теперь в языке; и любое возможное в будущем сверхчувственное познание обозначается отныне по тому отношению, в каком стоит оно ко всей совокупности зафиксированного в языке сверхчувственного и чувственного познания; и так продолжается непрерывно; и потому непосредственная ясность и понятность символов языка никогда не может нарушиться, но остается одним непрерывным потоком. – Далее, коль скоро язык не опосредуется произволом, но рождается в разумном живом существе как непосредственная сила природы, язык, развивающийся беспрерывно по этому общему закону, способен также непосредственно вмешаться в жизнь и служить для нее побуждением. Как непосредственно данные вещи побуждают человека к действию, так и слова такого языка должны побуждать того, кто понимает их, ибо и они тоже суть вещи, а вовсе не произвольные человеческие поделки. Так обстоит поначалу в области чувственного. Однако не иначе обстоит и в области сверхчувственного. Ибо, хотя в отношении этой последней непрерывный ход развития и нарушается свободным размышлением и рефлексией, и здесь вступает как бы Бог, не имеющий зримого образа (der unbildliche Gott), однако обозначение в языке опять ставит не имеющее образа на подобающее ему место в непрерывной взаимосвязи образного, а таким образом и в этом отношении постепенный ход развития языка, зародившегося вначале как сила природы, не знает перерывов, и в поток обозначения не вмешивается ничей произвол. Поэтому и сверхчувственная часть постепенно развивающегося таким образом языка не может утратить живой побуждающей силы для того, кто только способен привести в действие свой духовный орган. Слова такого языка во всех его частях суть жизнь и творят жизнь. – Если мы предположим также и для развития в языке обозначений для сверхчувственного, что народ, говорящий на этом языке, остался в непрерывном взаимном сообщении, и что все, что помыслил и высказал один человек, достигло в скором времени до слуха всех, – то сказанное до сих пор в общем виде окажется справедливо для всех говорящих на этом языке. Для всех, кто только пожелает мыслить, будет ясен зафиксированный в языке символ; для всех действительно мыслящих он будет живым и побуждающим их жизнь образом.
Так обстоит дело, говорю я, с языком, который (с самого первого звука, прозвучавшего на этом языке) непрерывно развивался в действительной совместной жизни народа, и в который ни разу не попало ни одного элемента, не выражающего какого-нибудь действительно пережитого этим народом воззрения, – созерцания, состоящего во всеобъемлюще полной связи со всеми прочими воззрениями, свойственными этому же народу. Пусть в состав народа-предка этого языка вольется сколько угодно людей другого племени и другого языка, но, если только им не будет позволено сделать сферу их собственных воззрений исходным пунктом, на котором должен будет отныне развиваться язык этого народа, они останутся немыми членами этой общины, и не окажут никакого влияния на язык, пока сами они не вступят в сферу воззрений народа-предка, и таким образом не они образуют язык, но язык образует их.
Совершенно противоположное всему вышесказанному произойдет, если некий народ, отказавшись от собственного своего языка, примет чужой язык, уже весьма образованный для обозначения сверхчувственного; причем не так, чтобы он с полной свободой предался влиянию этого чужого языка и ограничится тем, что останется безъязыким до тех пор, пока не вступит в сферу воззрений этого чужого языка, – но так, что станет навязывать этому языку свою собственную сферу воззрений, так что этот язык вынужден будет пребывать отныне в этой его сфере воззрений, пребывающих на той точке зрения, на которой эти прирожденные воззрения застали новый язык народа. Правда, для чувственной части языка это обстоятельство не будет иметь никаких последствий. Ведь у каждого народа дети и так должны учить эту часть языка так, словно его знаки созданы произволом, и повторять таким образом все предшествующее развитие языка своей нации, но в этой чувственной сфере всякий знак можно вполне пояснить им, непосредственно показывая им обозначаемое или давая прикоснуться к нему. Из этого могло бы в этом отношении произойти, самое большее, лишь то, что первое поколение такого изменившего свой язык народа оказалось бы вынуждено в зрелости и возмужалости вновь вернуться в пору детства; но у следующего, и у всех будущих поколений все вернулось бы к прежнему порядку. Для сверхчувственной же части языка это изменение имеет чрезвычайно важные последствия. Хотя у первых обладателей языка эта часть его составилась описанным выше способом, однако для тех, кто завладел этим языком впоследствии, символ заключает в себе сравнение с чувственным воззрением, которое они или давно уже превзошли, не пройдя однако сопровождавшего это воззрение духовного образования, или которого у них пока еще не было, да и не может когда-либо появиться. Самое большее, что они смогут сделать с этим символом – это потребовать от других объяснения этого символа и его духовного значения, в итоге чего они получат мертвую и плоскую историю чужого образования, а вовсе не свое собственное образование, и образы, которые для них не будут ни непосредственно ясны сами по себе, ни побуждением в действительной жизни, но которые должны казаться им совершенно столь же произвольными, как и чувственная часть языка. Вследствие этого явления простой истории, как истолковательницы, язык, во всей полноте его символического содержания, останется мертв, запечатлен, и непрерывное течение его жизни прервано; и хотя за пределами этой сферы они могут по-своему (насколько это вообще возможно с подобной точки зрения) дать этому языку новое живое развитие; и все же этот сверхчувственный его элемент останется преградой, об которую разобьются все без исключения потуги заставить язык изначально родиться вновь из их жизни как живую силу природы, и вернуть действительный язык в жизнь народа. Хотя на поверхности подобный язык движут ветры самой жизни, и потому он кажется даже живым, однако в глубине в нем скрыт мертвый элемент, и вследствие явления новой сферы воззрений и прекращения прежней он отрезан от своих живых корней.
Оживим только что сказанное одним частным примером; а к этому примеру заметим еще мимоходом, что такой, в основе своей, мертвый и непонятный язык очень легко также будет извратить и злоупотреблять им, всячески приукрашивая с его помощью нравственную порчу человеческого сердца, между тем как на языке, никогда не умиравшем, сделать подобное будет не так-то просто. Для примера же возьму три печально известных слова: гуманность, популярность, либеральность. Эти слова, если их сказать немцу, который не учился никакому другому языку, будут для него совершенно пустым звуком, не напомнят ему сродством своих звуков ни о чем уже ему известном и таким образом совершенно вырвут его из сферы его воззрений и всяких вообще возможных воззрений. Если незнакомое слово все же привлечет к себе его внимание своим чуждым, благородным и складным звучанием, и он решит, что возвышенно звучащее должно и означать нечто высокое, – то это значение ему уже с самого же начала, и как нечто для него совсем новое, потребуется объяснить, и этому объяснению он может именно что слепо поверить. А таким образом он незаметно для себя самого будет привыкать к тому, чтобы признавать существующим и даже достойным нечто такое, что он, будь предоставлен самому себе, никогда, быть может, не счел бы даже стоящим упоминания. Не думайте, что у новолатинских народов, которые произносят эти слова якобы как слова своего родного языка, дело обстоит намного иначе. Корни этих слов они понимают нисколько не лучше немца, если только не занимались ученым исследованием древности и ее действительного языка. Если бы теперь мы сказали немцу, вместо слова «гуманность», слово «человечность» (как первое слово и следует переводить буквально), – он понял бы нас без дальнейших исторических объяснений; только он сказал бы: не очень-то это много, если ты человек, а не дикий зверь. Но немец сказал бы это (чего, конечно, римлянин никогда не сказал бы), потому что в его языке человечность вообще осталась чувственным понятием, но так и не стала, как у римлян, символом сверхчувственного: оттого что наши предки, может быть, давно уже приметили отдельные человеческие добродетели и дали им символическое обозначение в языке, прежде чем им пришла в голову мысль сочетать все эти добродетели в едином понятии, причем как противоположность животной природе, чего нельзя поставить и в упрек нашим предкам, сравнительно с римлянами. Кто, однако, захотел бы искусственно подбросить в язык немцев этот чужой и римский символ, тот без сомнения снизил бы их нравственный образ мысли, предложив им как превосходное и похвальное нечто такое, что, может быть, на иностранном языке и вправду таково, но что немец, в силу неискоренимой природы своего национального воображения, понимает просто как известное и как то, без чего и обойтись невозможно. При более обстоятельном исследовании можно было бы, вероятно, доказать, что подобного рода снижения прежнего нравственного образа мыслей вследствие появления в языке неподходящих и чуждых символов уже в самом начале происходили с германскими племенами, усвоившими себе язык римлян; однако отнюдь не этому обстоятельству мы придаем здесь наибольшее значение.
Если бы, далее, немцу, вместо слов «популярность» и «либеральность» я сказал «искание благосклонности толпы» и «удаление от раболепия» (как эти слова и следует переводить буквально), то в уме его, прежде всего, не возникло бы даже ясного и живого чувственного образа, какой бесспорно являлся при этих словах в уме римлянина древнейшей эпохи. Этот римлянин каждый день видел перед собою податливую учтивость честолюбивого кандидата ко всем людям без разбора, как и вспышки раболепия, и эти слова живо проображали в его уме известные ему явления. С изменением формы правления и с введением христианства уже римлянин позднейших времен лишился подобных зрелищ, – ведь и вообще у этого римлянина, особенно из-за чужеродного ему христианства, которое он не в силах был ни отвергнуть, ни вполне усвоить себе, его собственный язык в немалой части начал умирать прямо на устах. И как же возможно было бы теперь с живой наглядностью передать этот, уже и на собственной своей родине полумертвый, язык чужому народу? Как можно было бы передать его нам, немцам? Что же касается, далее, данного в обоих этих выражениях символа духовной действительности, то в популярности уже изначально заключается некоторая низость, которая от нравственной порчи нации и ее государственного устройства обманным путем обращается в ее собственных устах в добродетель. Немец никогда не согласится на этот обман, если только он будет предложен ему на собственном его языке. А если «либеральность» ему переведут, сказав, что она означает человека, у которого не рабская душа, или, применительно к нравам нового времени, у которого не лакейский образ мысли, то он ответит вам опять-таки, что и это, значит, не очень-то много.
Но, далее, в эти символические выражения, уже и в чистом виде своем возникшие у римлян на весьма низкой ступени их нравственного образования, или прямо означавшие у них низость характера, в ходе дальнейшего развития новолатинских языков привнесли еще значение несерьезности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия, и внедрили эти оттенки смысла также в немецкий язык, чтобы, представляя нам картины древности и заграницы, втихомолку и так, чтобы никто не мог ясно заметить, о чем идет речь, доставить всему только что названному почет и вес и в нашем обществе. Такова была всегда цель, и таков результат, всякого вмешательства: погрузить сперва слушателя из непосредственной понятности и определенности, какая свойственна всякому изначальному языку, в темноту и непонятности; затем обратиться к возникшей в нем от этого слепой вере с объяснением смысла новых слов, в котором он теперь нуждается; а в этом объяснении так смешать, наконец, добродетель с пороком, чтобы слушателю нелегко было вновь отделить их друг от друга. Если бы то, чего собственно должны хотеть эти три иностранных слова (если они вообще чего-нибудь хотят), немцу, на его языке и в привычной для него сфере символов, выразили так: «человеколюбие», «общительность», «благородство», то он бы нас понял, а названные выше низменные значения никогда бы не удалось подтасовкою вложить в эти словесные обозначения. На всем пространстве, где звучит немецкая речь, подобное облачение слов покровом непонятности и темноты происходит либо от неумелости оратора, либо же от его злого умысла. Этой темноты нужно избегать, а для того у нас всегда наготове подспорье – перевод этих слов на настоящий и подлинный немецкий язык. В новолатинских же языках эта непонятность естественна и изначальна, и там ее не избежать решительно никакими средствами, потому что эти народы не располагают вообще никаким живым языком, которым они могли бы поверить мертвый язык, и у них, строго говоря, вовсе нет родного языка.
Изложенное на этом отдельном примере (что мы легко могли бы проверить на всем объеме слов языка и что всюду оказалось бы в точности таково же) прояснит для Вас сказанное мною до сих пор настолько, насколько это здесь вообще возможно. Речь идет здесь о сверхчувственной части языка; о чувственной, поначалу и непосредственно, вовсе не говорим. В языке, всегда бывшем живым языком народа, эта сверхчувственная его часть является символической, подытоживая в себе на каждом шагу развития всю целокупность чувственной и духовной, зафиксированной в языке жизни нации в совершенном единстве, чтобы дать обозначение понятию, которое также не произвольно, но с необходимостью возникло из всей прежней жизни нации, из которого – и из его обозначения – зоркий глаз непременно сумеет воссоздать вновь, шаг за шагом, всю историю образования этой нации. А в мертвом языке, в котором, когда он был еще жив, эта часть была в точности такова же, после его насильственной смерти эта часть языка становится бессвязным собранием произвольных и не допускающих никакого дальнейшего объяснения знаков для столь же произвольных понятий, так что и те, и другие годятся именно только на то, чтобы просто заучить их на память.
Таким образом, ближайшая наша задача – найти основную черту, отличающую немцев от других народов германского происхождения – теперь решена. Это различие возникло сразу при первом же разделении общего племени, и заключается в том, что немец говорит на языке, который оставался живым с тех самых пор, как впервые проистек из силы природы, все же прочие германские племена – на таком языке, который лишь на поверхности подвижен, в корне же своем мертв. Только в этом обстоятельстве – живости или смерти языка – мы полагаем, состоит все различие; но мы нисколько не имеем в виду какой-либо иной внутренней ценности немецкого языка. Между жизнью и смертью не может быть никаких мировых соглашений, и ценность первой, сравнительно с последней, бесконечна; поэтому все непосредственные сопоставления немецкого языка и новолатинских языков совершенно ничтожны, и вынуждены вести речь о таких вещах, которые не стоят обсуждения. Если бы зашла речь о внутренней ценности немецкого языка, то, по крайней мере, нужно бы было противопоставить ему язык, равный ему достоинством, язык столько же изначальный; но подобное сопоставление намного превосходит нашу нынешнюю задачу.
Сколь огромное влияние на всю совокупность человеческого развития известного народа оказывает свойство его языка, – языка, который сопутствует человеку, в мысли и воле, повсюду, вплоть до потаеннейших глубин его души, и окрыляет его или ставит ему преграды, который соединяет все множество говорящих на нем людей в населяемой ими области в один единый разум, который составляет подлинную точку взаимного излияния мира чувственного и духовного, и в котором концы обоих миров сплавлены друг с другом настолько, что нам решительно невозможно сказать, к которому из этих миров относится он сам; сколь различны будут последствия этого влияния, там, где языки относятся друг к другу так, как жизнь и смерть, – это в общем угадать нетрудно. Прежде всего оказывается, что у немца есть средство для того, чтобы еще глубже понять свой живой язык, через сопоставление его с законченным в себе языком римлян, весьма отличным от его собственного по степени развития в нем символизма, а равно и понять таким способом с большей ясностью этот последний язык, что не так уже просто для человека новолатинского языка, который, в сущности, остается пленником в области одного и того же единого языка; что немец, изучая корневой латинский язык, получает одновременно, в известном смысле в придачу к нему, и все от него производные, и если он выучит латинский основательнее иностранца (что, по вышеуказанной причине, ему вполне по силам), он в то же самое время научится понимать и собственные языки этого иностранца гораздо основательнее, и владеть ими гораздо свободнее, чем сам говорящий на них иностранец; что поэтому немец, если только он воспользуется всеми своими преимуществами, сможет во всякое время проницательнее видеть и вполне понимать его, лучше даже, чем он сам себя понимает, и переводить его на свой язык во всем объеме его смыслов; иностранец же, если он не приложил прежде великих стараний, чтобы выучиться немецкому языку, никогда не сможет понять настоящего немца, и подлинно немецкие выражения останутся у него, без всякого сомнения, непереведенными. То, чему в этих языках можно научиться только от самого иностранца – это, чаще всего, лишь явившаяся от скуки и частной прихоти новомодная манера речи, и тот поистине весьма непритязателен, кто станет прислушиваться к наставлениям на этот счет. В большинстве случаев мы могли бы показать им вместо этого, как, соответственно корневому языку и закону его преобразования, следовало бы им говорить, и показать, что эта новая мода ничего не стоит и оскорбляет старинные добрые обычаи. – Все это множество следствий вообще, как и упомянутое только что следствие в частности, являются здесь, как мы уже сказали, сами собою.
Наше же намерение состоит теперь в том, чтобы постичь все эти следствия в целом, из глубины и в их общей связи, чтобы дать тем самым основательное описание немцев, в противоположность прочим германским племенам. Эти следствия я укажу Вам предварительно вот как: 1) У народа с живым языком образование духа влияет на самую жизнь; в противоположном же случае жизнь и духовное образование идут порознь, каждый своим путем. 2) По этой же причине народ первого рода воспринимает любое образование духа с полной серьезностью, и он хочет, чтобы это образование вмешалось в его жизнь; между тем как для народа второго рода это образование есть скорее некая игра гениев, и занимаясь им он решительно ничего более не желает. Последние остроумны; первые же, помимо остроумия, еще и душевно богаты. 3) Из этого второго момента следует: первые честно прилежны во всех делах и готовы к тяжелому труду, вторые же идут на поводу у своей счастливой натуры. 4) Из всего вместе следует: в нации первого рода великий народ восприимчив к образованию, и образователи этого народа испытывают свои открытия на своем народе и желают иметь на него влияние; в нации же второго рода образованные сословия отделяются от народа, и этот народ считают разве только слепым орудием для осуществления своих планов. Дальнейшее обсуждение этих, указанных сейчас, отличительных признаков я оставлю до следующего раза.
* * *
Пятая речь
Следствия указанного различия
В прошлый раз, чтобы описать своеобразие немцев, мы указали Вам основное различие между ними и другими народами германского происхождения: а именно то, что первые остались верными непрерывному течению своего изначального языка, развивающегося, как и прежде, на основе действительной жизни, последние же приняли чуждый им язык, который и умертвили своим влиянием. В конце прошлой речи мы указали другие явления в этих народностях, обнаруживающих подобное различие, которые с необходимостью должны были последовать из этого основного различия между ними, а сегодня намерены развить описание этих явлений более подробно и еще прочнее обосновать их в общей их основе.
Исследование, заботящееся о том, чтобы быть основательным, может избавить себя от нужды вступать в иные споры и опровергать иных завистников. И как мы поступали прежде в том исследовании, продолжением которого служит наше теперешнее рассуждение, так поступим мы и теперь. Мы станем шаг за шагом логически выводить все, что следует из указанного нами основного различия, и при этом следить лишь за тем, чтобы этот вывод был неизменно правилен. Возникают ли в действительном опыте все те многоразличные явления, которые должны наступить согласно этой нашей дедукции, или же нет – это я предоставляю решать лишь Вам и любому наблюдателю. Хотя, что касается в особенности немца, я покажу в свое время, что он действительно оказался таким, каким он и должен был быть согласно нашей дедукции. Но что касается германца-иностранца, то я не стану возражать, если один из этих иностранцев действительно поймет, о чем здесь собственно идет речь, и если впоследствии ему удастся доказать нам, что его соотечественники как раз были именно тем же самым, чем были немцы, и он сумеет совершенно снять с них любые подозрения в том, что свойства их противоположны. Вообще наше описание даже и этих противоположных свойств отнюдь не станет рисовать их в резком и невыгодном свете, ибо это сделает нам победу легкой, однако бесславной, но укажет лишь на необходимые последствия, и выразит их в выражениях настолько благопристойных, насколько позволяет нам уважение к истине.
Первое указанное мною следствие представленного основного различия было следующее: у народа с живым языком образование духа вторгается в саму жизнь; у народа же противоположного духовное образование и жизнь идут порознь, каждое своей дорогой. Полезно будет обстоятельнее объяснить вначале смысл высказанного нами положения. Прежде всего, коль скоро здесь идет речь о жизни и о вмешательстве духовного образования в эту жизнь, то под этим следует понимать изначальную жизнь и непрерывное ее проистечение из истока всякой духовной жизни, из Бога, дальнейшее образование человеческих отношений в соответствии с их прообразом, и тем самым – сотворение жизни новой и никогда прежде небывалой. Но отнюдь не идет речи о простом поддержании этих отношений на той ступени, на которой они уже находятся, не о предохранении их от возможного упадка, и тем более не о помощи только отдельным членам общества, отставшим в своем развитии от всеобщего образования. Далее, коль скоро здесь идет речь о духовном образовании, то под этим образованием следует понимать, прежде всего, философию (мы вынуждены назвать его иностранным именем, ибо немцы не позволили нам ввести в оборот давно уже предложенное немецкое название[15 - «Немецкое название» для философии есть предложенное самим Фихте слово «наукоучение». См. первое упоминание термина: «вопрос ставится так: Как возможно вообще содержание и форма науки, т. е. как возможна сама наука? Нечто, в чем будет дан ответ на этот вопрос, будет само наукой и именно наукой о науке вообще… Наименование подобной науки, возможность которой до сего времени проблематична, произвольно… Нация, которая найдет эту науку, будет, конечно, достойной дать ей имя из своего языка; и она может называться тогда просто наукой или наукоучением. Так называемая до сих пор философия стала бы таким образом Наукой о науке вообще» (Фихте И. Г. О понятии наукоучения или так называемой философии // И. Г. Фихте. Избранные сочинения. Том 1. М., 1916. С. 16–18).]): Философию, говорю я, нужно прежде всего понимать под таким образованием; ибо именно философия постигает в научной форме вечный прообраз всякой духовной жизни. И вот в ней, и во всякой основанной на ней науке, мы и хвалим теперь то в особенности, что у народа с живым языком она вмешивается в самую жизнь его. Между тем, и в кажущемся противоречии с этим утверждением, нередко говорили – и говорили, в том числе, наши же земляки, – что философия, наука, художество и тому подобное суть самоцели и не служат жизни, и что оценивать их по их полезности на службе этой жизни значит унижать их достоинство. Здесь уместно будет подробнее определить смысл этих выражений и защитить их от всякого неверного толкования. Эти суждения истинны, в следующем двояком, однако ограниченном смысле: верно, во-первых, что наука или искусство, как думали некоторые, не должны стремиться служить жизни на известной низшей ее ступени, например, земной и чувственной жизни, или пошлой назидательности; верно, во-вторых, что человек может, уединившись лично сам от всего духовного мира, совершенно предаться этим частным отраслям всеобщей божественной жизни, не нуждаясь в каком-либо мотиве вне их самих, и находить в них совершенное удовлетворение. Но эти суждения совершенно неверны в строгом смысле, ибо не может быть нескольких самоцелей, точно так же как не может быть нескольких абсолютов. Единственная самоцель, кроме которой не может быть никакой другой, это духовная жизнь. И вот эта духовная жизнь обнаруживается и является отчасти как вечное проистечение из себя самой, как исток, т. е. как вечная деятельность. Эта деятельность вовеки получает себе прообраз от науки, умение оформлять себя согласно этому образу – от искусства, и постольку может показаться, будто наука и искусство существуют как средства для деятельной жизни как цели. Но жизнь в этой форме деятельности сама никогда не бывает завершена и закончена как единство, но продолжается бесконечно. Если жизнь должна все-таки существовать в подобном законченном единстве, то она должна существовать как такое единство в некоторой иной форме. Эта форма есть форма чистой мысли, которую дает описанное в третьей речи религиозное постижение; форма, которая, как законченное единство, пребывает в абсолютном распаде с бесконечностью поступков и в этом последнем – в деянии – никогда не может быть выражена вполне. Поэтому обе – как мысль, так и деятельность, – суть лишь распадающиеся в явлении формы, а по ту сторону явления они, – и одна, и другая, – суть та же единая абсолютная жизнь; и вовсе нельзя сказать, что мысль существует, и именно такова, ради поступков, или же поступки существуют и именно таковы ради мысли, но можно лишь сказать, что и то, и другое безусловно должно быть, ибо жизнь и в явлении так же должна быть законченным целым, как она есть законченное целое и по ту сторону всякого явления. А значит, в пределах этой сферы и вследствие этого рассуждения, сказать, что наука влияет на жизнь – значит сказать еще совсем немного: скорее сама наука есть жизнь, и жизнь в себе самосущая. – Или можно еще соотнести то же самое с одним известным выражением. Что толку во всем вашем знании, – слышим мы порою, – если человек не действует соответственно ему? В этом высказывании знание рассматривается как средство для действия, а это последнее – как подлинная цель. Можно было бы, напротив, сказать: как же можно хорошо поступать, не зная, в чем состоит добро? А в этом высказывании знание рассматривалось бы как условие действия. Однако оба эти высказывания односторонни; а истина состоит в том, что и то, и другое – как знание, так и действие, – суть одинаково неотъемлемые элементы разумной жизни.
Основное различие между немцами и другими народами германского происхождения
Предлагаемое в этих речах средство для образования нового поколения людей должны применить прежде всего немцы к немцам, и это средство прежде всего и поистине подобает усвоить именно нашей нации, – сказали мы в прошлый раз. Это положение также требует доказательства, и здесь, так же точно как и прежде, мы начнем это доказательство с самого высшего и всеобщего: покажем, что такое немец в себе и для себя в основной своей черте, независимо от постигшей его ныне судьбы, и чем он был издавна, с тех самых пор, как он существует, – и докажем, что уже в этой основной его черте заключена способность и восприимчивость к подобного рода образованию, свойственная исключительно только ему среди всех других европейских наций.
Немцы, прежде всего – это одно из племен германцев вообще, о которых здесь достаточно будет указать то определение, что они были предназначены соединить общественный порядок, созданный в древней Европе, с сохраненной в Азии истинной религией, и таким образом развить в себе и из себя самих новое время, противоположное погибшей древности. Здесь достаточно будет также обозначить свойство немцев лишь в противоположность другим возникшим рядом с ними германским племенам и народностям. Ибо другие нации новой Европы (к примеру, народы славянского происхождения) еще не получили, кажется, столь ясного развития сравнительно с остальною Европой, чтобы возможно было определенно обрисовать их основные черты, а другие народы, также происходящие от германцев, но к которым не относится утверждаемое нами отличительное свойство (каковы скандинавы), мы здесь без всяких сомнений признаем за немцев, и на них также распространяются общие выводы, следующие из нашего рассуждения.
Но прежде всего предстоящему нам сейчас в особенности рассуждению мы должны предпослать следующее замечание. Как основание различия, появившегося в изначально едином основном племени, я укажу одно обстоятельство, которое – просто как обстоятельство – ясно и неоспоримо находится на виду у всех; затем я назову некоторые отдельные проявления этого возникшего различия, которые, просто как обстоятельства, могут, вероятно, стать столь же очевидными. Но вот что касается связи этих последних, как следствий, с первым, как их основанием, и вывода следствия из основания, то здесь я вообще-то не могу рассчитывать на то, что он будет столь же ясен и убедителен для всех. Правда, и в этом отношении я не собираюсь высказывать каких-то совершенно новых и прежде неслыханных суждений, и среди нас есть много людей, которые либо хорошо подготовлены к принятию такого воззрения на дело, или уже и знакомы с этим воззрением. Но в большинстве публики имеют хождение понятия о подлежащем здесь обсуждению предмете, которые весьма отличаются от наших о нем понятий, так что их исправление и опровержение всех возражений, которые могут высказать нам по частным случаям люди, лишенные испытанной опытом способности видеть целое, далеко вышло бы за границы и нашего времени, и нашего плана. Относительно этих последних людей мне придется удовлетвориться тем, чтобы предложить им то, что я имею сказать по этому поводу, и что в целокупности моего мышления не остается столь отрывочным и обособленным, каким является здесь, и не лишено обоснования в глубинах знания, только как предмет для дальнейшего размышления. Совершенно обойти этот предмет я не мог, – не только ради непременной для понимания целого основательности, но уже и ввиду важных выводов, которые последуют из него в дальнейшем ходе наших речей и которые существенно входят в наши собственные ближайшие намерения.
Прежде всего и непосредственно нашему взгляду представляется то различие между судьбами немцев и всех прочих племен, родившихся от того же корня, что первые остались в местах проживания народа-предка (Stammvolk), а последние переселились на жительство в другие места, – что первые сохранили и развили у себя первоначальный язык народа-предка, а последние приняли чужой язык и постепенно преобразовали его на свой лад. Из этого, самого первого по времени, различия, следует объяснять те различия, которые явились позднее, – например, то, что в первоначальном отечестве, сообразно с коренным обычаем германцев, сохранился союз государств под началом одного ограниченного главы, а в чужих землях государственное устройство перешло в монархии, весьма подобно тому, как это было прежде в Риме, и т. п., – а вовсе не наоборот.
Первое из указанных сейчас изменений – перемена родины – совершенно несущественно. Человек легко приживается в любом краю, и своеобразие народа не только не меняется сколько-нибудь значительно от перемены места жительства, но скорее само овладевает этим новым местом жительства и изменяет его по себе. К тому же различие влияния природы в разных краях, населяемых германскими народами, не очень велико. Столь же мало можно придавать значения и тому обстоятельству, что потомки германцев смешались в завоеванных ими странах с их прежними обитателями; ибо победителями и властелинами, и образователями нового народа, возникающего из этого смешения племен, были все же только германцы. Кроме того, такое же смешение, какое случилось у германцев за рубежами отечества с галлами, кантабрийцами и т. д., произошло у них ничуть не в меньшей степени и на родине со славянами; так что любому из народов, возникших от германцев, в наше время непросто будет доказать, будто его родословная чище, чем у всех прочих народов того же корня.
Но более значительным, и, как я убежден, основанием совершенной противоположности между немцами и другими народами, происходящими от германцев, является второе изменение – изменение языка. А здесь, – это я хочу совершенно определенно высказать с самого же начала, важно не особенное свойство того языка, который это племя сохранило, и не особенное свойство других языков, которые другое племя приняло, но единственно лишь то, что здесь сохранили свое собственное, а там приняли чужое; и неважно также, каково было прежнее происхождение тех, кто продолжает говорить на первоначальном языке, а важно лишь то, что они именно без перерыва продолжают говорить на этом языке: ведь язык образует людей намного более, чем сами люди образуют язык[13 - Исследователи отмечают значительную близость этого и многих других ключевых положений философии языка у Фихте к философским и языковедческим воззрениям Вильгельма фон Гумбольдт, и даже говорят о прямом влиянии Фихте на Гумбольдта в этом отношении. Ср., например: «Он (язык) обладает некоторой зримо открывающейся нашему взгляду самодеятельностью, и с этой стороны он есть не создание наций, но дар, доставшийся им силою их внутренней судьбы» (Humboldt W. von. Gesammelte Schriften. Bd. 7. Berlin, 1921. S. 17). «Всякая речь, начиная с самой простейшей, есть присоединение отдельного восприятия к общей человеческой природе» (Ibid. S. 56).].
Чтобы пояснить Вам следствия, какие имеет подобное различие зарождения народов, и определенный характер противоположности их национальных черт, необходимо возникающий из этого различия, я вынужден предложить Вам подумать вместе со мною о сущности языка вообще.
Язык вообще, и в частности обозначение предметов на этом языке через звучание органов речи, нисколько не зависит от произвольных решений и соглашений, но существует, прежде всего, основной закон, согласно которому любое понятие становится в человеческих органах речи именно этим, а не каким-нибудь иным звуком. Так же, как в органах чувств человека предметы отображаются этой определенной фигурой, цветом и т. п., так в органе общественного человека, в языке, они отображаются этим определенным звуком. Говорит, собственно, не человек, но в нем говорит человеческая природа, и извещает себя другим ему подобным существам. А потому нужно было бы сказать: существует один-единственный и абсолютно необходимый язык.
Правда, язык в этом своем единстве, – и таков будет второй момент, – быть может, нигде и никогда не возник у человека вообще, просто как такового, но повсюду его изменяло и образовывало воздействие, которое оказывало различие местностей и большая или меньшая частота употребления на органы речи, а последовательность наблюдаемых и обозначаемых предметов на последовательность этого обозначения. Однако и здесь действует не произвол, не слепая случайность, но строгий закон; и в обусловленном таким образом упомянутыми условиями органе речи совершенно необходимо возник не один и чистый человеческий язык, но отклонение от него, и притом именно это определенное отклонение.
Если людей, живущих сообща, подлежащих одним и тем же внешним воздействиям на их орган речи и в непрерывном взаимном сообщении развивающих свой язык, мы назовем народом, то должны будем сказать: язык этого народа необходимо таков, каков он есть, и не народ собственно выражает в нем свое познание, но само познание этого народа выражает себя в его языке.
Во всех изменениях, происходящих в развитии языка в силу тех же самых упомянутых выше обстоятельств, неизменно действует та же самая закономерность; причем та же самая единая закономерность действует для всех, остающихся друг с другом в непрерывном сообщении, и всюду, где любым человеком высказанная новость достигает слуха всех прочих. Через века, и после всех изменений, каким подвергнется за эти века внешнее явление языка этого народа, он всегда останется той же единой живой словесной силой природы, которая изначально должна была произойти на свет именно такой, которая неизменно текла сквозь частные условия и при каждом из условий должна была стать такой, какой стала, и в конце ряда этих условий должна была явиться такой, какова она теперь, и по прошествии некоторого времени будет именно такова, какой необходимо должна будет стать. Вначале чисто человеческий язык, вместе с органом речи народа, когда раздался из него первый звук; затем то, что возникнет отсюда, вместе со всем тем особенным развитием, которое должен был получить это первый звук речи при данных обстоятельствах, – все это в конечном итоге дает нам нынешний язык данного народа. Поэтому язык и остается всегда одним и тем же языком. Пусть даже, по прошествии нескольких веков, потомство не понимает уже языка, на котором говорили некогда его предки, потому что для него утрачены переходные звенья, – однако с самого же начала в языке существует непрерывный переход без скачков, который всегда неприметен в настоящем и становится заметен только от присовокупления новых переходов, являясь в таком случае как некий скачок. Никогда еще не бывало такого времени, когда бы современники перестали понимать друг друга, ибо вечным посредником и переводчиком для них всегда была и оставалась говорящая во всех и общая всем сила природы. Так обстоит дело с языком, как обозначением предметов непосредственно-чувственного восприятия, а таков вначале всякий человеческий язык. Если народ возвысится от этого восприятия к постижению сверхчувственного, то сверхчувственное – для произвольного повторения и во избежание смешения его с чувственным, в уме первого узнавшего его человека, и для сообщения его другим людям и целесообразного руководства их познанием, – он не сумеет поначалу удержать в понятии иначе, чем обозначив некоторую самость как орган сверхчувственного мира и строго отличив ее от той же самости как органа мира чувственного – противопоставив душу, дух и т. п. физическому телу. Далее, различные предметы этого сверхчувственного мира, поскольку все они вместе являются лишь в этом сверхчувственном органе и существуют лишь для него, обозначаются в языке лишь таким образом, что говорят: особенное отношение этих предметов к своему органу таково же, каково отношение таких-то и таких-то определенных чувственных предметов к чувственному органу, и в этом отношении особенный сверхчувственный предмет отождествляется с особенным чувственным предметом, и через это отождествление язык дает нам указание на место этого первого предмета в сверхчувственном органе. Более язык ничего не способен выразить в этой сфере; он дает нам чувственный образ сверхчувственного, но только замечает при этом, что это именно такой образ; кто хочет проникнуть к самой вещи, тот должен привести в действие свой собственный духовный орган согласно правилу, которое указывает ему этот образ. – В общем же ясно, что это символическое обозначение сверхчувственного должно всякий раз сообразоваться с той ступенью, какой достигло у данного народа развитие чувственной способности познания; что поэтому начало и дальнейший ход развития этого символического обозначения окажется весьма различным в различных языках, соответственно различным отношениям, в которых находились и в которых неизменно находятся у народа, говорящего на известном языке, чувственное и духовное его образование.
Приведем один пример, чтобы оживить это, само по себе ясное, замечание. Нечто, возникающее вследствие постижения основного влечения не одним только смутным чувством, но одновременно и ясным познанием (что мы объяснили в прошлой речи), – а таков всегда и бывает сверхчувственный предмет, – называется греческим словом «идея», часто употребляющимся и в немецком языке, и это слово заключает в себе точно такой же символ, как тот, который встречается в следующих выражениях Лютерова перевода Библии: «увидите видения», «будут вам сновидения»[14 - Имеется в виду целый ряд мест в Библии, где в немецком Лютеровом переводе стоит Gesicht – видение, вид. Русский перевод не обнаруживает, конечно, того именно, на что хочет указать здесь Фихте, но сохраняет живую конкретность этого пророческого видения, в противоположность пустому лже-видению лжепророков. Особенно близко место из Книги пророка Иоиля, 2, 28: «И будет после того, излию от духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Также следующие места ветхозаветного текста: Книга Чисел, 12, 6 («И сказал: Слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним»); Книга пророка Иезекииля 1, 1 («разверзлись небеса, И я видел видения Божии»); Книга пророка Даниила 1, 17 («И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякое видение, и сны»); 4, 6–7; («Видения же головы моей на ложе моем были такие»); Книга Иова, 7, 14 («Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня»); Книга пророка Иезекииля 40, 2 («В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву»); 8, 31 («и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим»); 12, 24.]. «Идея» или «вид» в чувственном значении этого слова – это нечто такое, что может быть схвачено лишь плотскими глазами, а отнюдь не органом иного чувства – осязания, слуха и т. п., – как например, радуга, или те фигуры, которые проходят перед нашим взором во сне. «Идея» же в сверхчувственном значении слова означала бы прежде всего, ввиду особой сферы, к которой должно относиться теперь это слово, нечто такое, что постигается вовсе не плотским, но только духовным органом; а далее, то, что может быть постигнуто не смутным чувством духа, как некоторые другие предметы, но только глазом духа, ясным познанием. Если мы и допустим, далее, что греки, давая такое символическое обозначение предмету, опирались все же при этом прежде всего на образ радуги и явлений такого рода, то нам придется признать, что их чувственное познание уже прежде того должно было подняться до постижения того различия между вещами, что некоторые вещи доступны всем или большинству органов чувств, а некоторые – только глазу, и что кроме того, они должны были бы обозначить развитое понятие, если бы только уяснили его, не так, но как-то иначе. Тогда нам открылось бы также и преимущество духовной ясности греков перед другим народом, который не умел бы обозначить различие между чувственным и сверхчувственным с помощью символа, заимствованного из состояния разумного бодрствования, но прибегнул бы, желая найти образ для иного мира, к представлениям сновидений. В то же время нам стало бы ясно, что это различие обусловлено не большей или меньшей силой органа познания сверхчувственного у этих двух народов, но исключительно лишь различием чувственной ясности, свойственной им в ту пору, когда они пожелали обозначить словом сверхчувственное.
Итак, обозначение сверхчувственного в слове всегда сообразуется с обширностью и ясностью чувственного познания в обозначающем человеке. Символ ясен для него и совершенно понятно выражает для него отношение постигнутого им к духовному органу, ибо он поясняет ему это отношение через другое, с непосредственной живостью ему известное, отношение к его чувственному органу. Это, возникшее таким образом, новое обозначение, со всей новой ясностью, какую сообщает это расширенное употребление знака и самому чувственному познанию, фиксируется теперь в языке; и любое возможное в будущем сверхчувственное познание обозначается отныне по тому отношению, в каком стоит оно ко всей совокупности зафиксированного в языке сверхчувственного и чувственного познания; и так продолжается непрерывно; и потому непосредственная ясность и понятность символов языка никогда не может нарушиться, но остается одним непрерывным потоком. – Далее, коль скоро язык не опосредуется произволом, но рождается в разумном живом существе как непосредственная сила природы, язык, развивающийся беспрерывно по этому общему закону, способен также непосредственно вмешаться в жизнь и служить для нее побуждением. Как непосредственно данные вещи побуждают человека к действию, так и слова такого языка должны побуждать того, кто понимает их, ибо и они тоже суть вещи, а вовсе не произвольные человеческие поделки. Так обстоит поначалу в области чувственного. Однако не иначе обстоит и в области сверхчувственного. Ибо, хотя в отношении этой последней непрерывный ход развития и нарушается свободным размышлением и рефлексией, и здесь вступает как бы Бог, не имеющий зримого образа (der unbildliche Gott), однако обозначение в языке опять ставит не имеющее образа на подобающее ему место в непрерывной взаимосвязи образного, а таким образом и в этом отношении постепенный ход развития языка, зародившегося вначале как сила природы, не знает перерывов, и в поток обозначения не вмешивается ничей произвол. Поэтому и сверхчувственная часть постепенно развивающегося таким образом языка не может утратить живой побуждающей силы для того, кто только способен привести в действие свой духовный орган. Слова такого языка во всех его частях суть жизнь и творят жизнь. – Если мы предположим также и для развития в языке обозначений для сверхчувственного, что народ, говорящий на этом языке, остался в непрерывном взаимном сообщении, и что все, что помыслил и высказал один человек, достигло в скором времени до слуха всех, – то сказанное до сих пор в общем виде окажется справедливо для всех говорящих на этом языке. Для всех, кто только пожелает мыслить, будет ясен зафиксированный в языке символ; для всех действительно мыслящих он будет живым и побуждающим их жизнь образом.
Так обстоит дело, говорю я, с языком, который (с самого первого звука, прозвучавшего на этом языке) непрерывно развивался в действительной совместной жизни народа, и в который ни разу не попало ни одного элемента, не выражающего какого-нибудь действительно пережитого этим народом воззрения, – созерцания, состоящего во всеобъемлюще полной связи со всеми прочими воззрениями, свойственными этому же народу. Пусть в состав народа-предка этого языка вольется сколько угодно людей другого племени и другого языка, но, если только им не будет позволено сделать сферу их собственных воззрений исходным пунктом, на котором должен будет отныне развиваться язык этого народа, они останутся немыми членами этой общины, и не окажут никакого влияния на язык, пока сами они не вступят в сферу воззрений народа-предка, и таким образом не они образуют язык, но язык образует их.
Совершенно противоположное всему вышесказанному произойдет, если некий народ, отказавшись от собственного своего языка, примет чужой язык, уже весьма образованный для обозначения сверхчувственного; причем не так, чтобы он с полной свободой предался влиянию этого чужого языка и ограничится тем, что останется безъязыким до тех пор, пока не вступит в сферу воззрений этого чужого языка, – но так, что станет навязывать этому языку свою собственную сферу воззрений, так что этот язык вынужден будет пребывать отныне в этой его сфере воззрений, пребывающих на той точке зрения, на которой эти прирожденные воззрения застали новый язык народа. Правда, для чувственной части языка это обстоятельство не будет иметь никаких последствий. Ведь у каждого народа дети и так должны учить эту часть языка так, словно его знаки созданы произволом, и повторять таким образом все предшествующее развитие языка своей нации, но в этой чувственной сфере всякий знак можно вполне пояснить им, непосредственно показывая им обозначаемое или давая прикоснуться к нему. Из этого могло бы в этом отношении произойти, самое большее, лишь то, что первое поколение такого изменившего свой язык народа оказалось бы вынуждено в зрелости и возмужалости вновь вернуться в пору детства; но у следующего, и у всех будущих поколений все вернулось бы к прежнему порядку. Для сверхчувственной же части языка это изменение имеет чрезвычайно важные последствия. Хотя у первых обладателей языка эта часть его составилась описанным выше способом, однако для тех, кто завладел этим языком впоследствии, символ заключает в себе сравнение с чувственным воззрением, которое они или давно уже превзошли, не пройдя однако сопровождавшего это воззрение духовного образования, или которого у них пока еще не было, да и не может когда-либо появиться. Самое большее, что они смогут сделать с этим символом – это потребовать от других объяснения этого символа и его духовного значения, в итоге чего они получат мертвую и плоскую историю чужого образования, а вовсе не свое собственное образование, и образы, которые для них не будут ни непосредственно ясны сами по себе, ни побуждением в действительной жизни, но которые должны казаться им совершенно столь же произвольными, как и чувственная часть языка. Вследствие этого явления простой истории, как истолковательницы, язык, во всей полноте его символического содержания, останется мертв, запечатлен, и непрерывное течение его жизни прервано; и хотя за пределами этой сферы они могут по-своему (насколько это вообще возможно с подобной точки зрения) дать этому языку новое живое развитие; и все же этот сверхчувственный его элемент останется преградой, об которую разобьются все без исключения потуги заставить язык изначально родиться вновь из их жизни как живую силу природы, и вернуть действительный язык в жизнь народа. Хотя на поверхности подобный язык движут ветры самой жизни, и потому он кажется даже живым, однако в глубине в нем скрыт мертвый элемент, и вследствие явления новой сферы воззрений и прекращения прежней он отрезан от своих живых корней.
Оживим только что сказанное одним частным примером; а к этому примеру заметим еще мимоходом, что такой, в основе своей, мертвый и непонятный язык очень легко также будет извратить и злоупотреблять им, всячески приукрашивая с его помощью нравственную порчу человеческого сердца, между тем как на языке, никогда не умиравшем, сделать подобное будет не так-то просто. Для примера же возьму три печально известных слова: гуманность, популярность, либеральность. Эти слова, если их сказать немцу, который не учился никакому другому языку, будут для него совершенно пустым звуком, не напомнят ему сродством своих звуков ни о чем уже ему известном и таким образом совершенно вырвут его из сферы его воззрений и всяких вообще возможных воззрений. Если незнакомое слово все же привлечет к себе его внимание своим чуждым, благородным и складным звучанием, и он решит, что возвышенно звучащее должно и означать нечто высокое, – то это значение ему уже с самого же начала, и как нечто для него совсем новое, потребуется объяснить, и этому объяснению он может именно что слепо поверить. А таким образом он незаметно для себя самого будет привыкать к тому, чтобы признавать существующим и даже достойным нечто такое, что он, будь предоставлен самому себе, никогда, быть может, не счел бы даже стоящим упоминания. Не думайте, что у новолатинских народов, которые произносят эти слова якобы как слова своего родного языка, дело обстоит намного иначе. Корни этих слов они понимают нисколько не лучше немца, если только не занимались ученым исследованием древности и ее действительного языка. Если бы теперь мы сказали немцу, вместо слова «гуманность», слово «человечность» (как первое слово и следует переводить буквально), – он понял бы нас без дальнейших исторических объяснений; только он сказал бы: не очень-то это много, если ты человек, а не дикий зверь. Но немец сказал бы это (чего, конечно, римлянин никогда не сказал бы), потому что в его языке человечность вообще осталась чувственным понятием, но так и не стала, как у римлян, символом сверхчувственного: оттого что наши предки, может быть, давно уже приметили отдельные человеческие добродетели и дали им символическое обозначение в языке, прежде чем им пришла в голову мысль сочетать все эти добродетели в едином понятии, причем как противоположность животной природе, чего нельзя поставить и в упрек нашим предкам, сравнительно с римлянами. Кто, однако, захотел бы искусственно подбросить в язык немцев этот чужой и римский символ, тот без сомнения снизил бы их нравственный образ мысли, предложив им как превосходное и похвальное нечто такое, что, может быть, на иностранном языке и вправду таково, но что немец, в силу неискоренимой природы своего национального воображения, понимает просто как известное и как то, без чего и обойтись невозможно. При более обстоятельном исследовании можно было бы, вероятно, доказать, что подобного рода снижения прежнего нравственного образа мыслей вследствие появления в языке неподходящих и чуждых символов уже в самом начале происходили с германскими племенами, усвоившими себе язык римлян; однако отнюдь не этому обстоятельству мы придаем здесь наибольшее значение.
Если бы, далее, немцу, вместо слов «популярность» и «либеральность» я сказал «искание благосклонности толпы» и «удаление от раболепия» (как эти слова и следует переводить буквально), то в уме его, прежде всего, не возникло бы даже ясного и живого чувственного образа, какой бесспорно являлся при этих словах в уме римлянина древнейшей эпохи. Этот римлянин каждый день видел перед собою податливую учтивость честолюбивого кандидата ко всем людям без разбора, как и вспышки раболепия, и эти слова живо проображали в его уме известные ему явления. С изменением формы правления и с введением христианства уже римлянин позднейших времен лишился подобных зрелищ, – ведь и вообще у этого римлянина, особенно из-за чужеродного ему христианства, которое он не в силах был ни отвергнуть, ни вполне усвоить себе, его собственный язык в немалой части начал умирать прямо на устах. И как же возможно было бы теперь с живой наглядностью передать этот, уже и на собственной своей родине полумертвый, язык чужому народу? Как можно было бы передать его нам, немцам? Что же касается, далее, данного в обоих этих выражениях символа духовной действительности, то в популярности уже изначально заключается некоторая низость, которая от нравственной порчи нации и ее государственного устройства обманным путем обращается в ее собственных устах в добродетель. Немец никогда не согласится на этот обман, если только он будет предложен ему на собственном его языке. А если «либеральность» ему переведут, сказав, что она означает человека, у которого не рабская душа, или, применительно к нравам нового времени, у которого не лакейский образ мысли, то он ответит вам опять-таки, что и это, значит, не очень-то много.
Но, далее, в эти символические выражения, уже и в чистом виде своем возникшие у римлян на весьма низкой ступени их нравственного образования, или прямо означавшие у них низость характера, в ходе дальнейшего развития новолатинских языков привнесли еще значение несерьезности в отношении к общественным делам, самоунижения, бездушного легкомыслия, и внедрили эти оттенки смысла также в немецкий язык, чтобы, представляя нам картины древности и заграницы, втихомолку и так, чтобы никто не мог ясно заметить, о чем идет речь, доставить всему только что названному почет и вес и в нашем обществе. Такова была всегда цель, и таков результат, всякого вмешательства: погрузить сперва слушателя из непосредственной понятности и определенности, какая свойственна всякому изначальному языку, в темноту и непонятности; затем обратиться к возникшей в нем от этого слепой вере с объяснением смысла новых слов, в котором он теперь нуждается; а в этом объяснении так смешать, наконец, добродетель с пороком, чтобы слушателю нелегко было вновь отделить их друг от друга. Если бы то, чего собственно должны хотеть эти три иностранных слова (если они вообще чего-нибудь хотят), немцу, на его языке и в привычной для него сфере символов, выразили так: «человеколюбие», «общительность», «благородство», то он бы нас понял, а названные выше низменные значения никогда бы не удалось подтасовкою вложить в эти словесные обозначения. На всем пространстве, где звучит немецкая речь, подобное облачение слов покровом непонятности и темноты происходит либо от неумелости оратора, либо же от его злого умысла. Этой темноты нужно избегать, а для того у нас всегда наготове подспорье – перевод этих слов на настоящий и подлинный немецкий язык. В новолатинских же языках эта непонятность естественна и изначальна, и там ее не избежать решительно никакими средствами, потому что эти народы не располагают вообще никаким живым языком, которым они могли бы поверить мертвый язык, и у них, строго говоря, вовсе нет родного языка.
Изложенное на этом отдельном примере (что мы легко могли бы проверить на всем объеме слов языка и что всюду оказалось бы в точности таково же) прояснит для Вас сказанное мною до сих пор настолько, насколько это здесь вообще возможно. Речь идет здесь о сверхчувственной части языка; о чувственной, поначалу и непосредственно, вовсе не говорим. В языке, всегда бывшем живым языком народа, эта сверхчувственная его часть является символической, подытоживая в себе на каждом шагу развития всю целокупность чувственной и духовной, зафиксированной в языке жизни нации в совершенном единстве, чтобы дать обозначение понятию, которое также не произвольно, но с необходимостью возникло из всей прежней жизни нации, из которого – и из его обозначения – зоркий глаз непременно сумеет воссоздать вновь, шаг за шагом, всю историю образования этой нации. А в мертвом языке, в котором, когда он был еще жив, эта часть была в точности такова же, после его насильственной смерти эта часть языка становится бессвязным собранием произвольных и не допускающих никакого дальнейшего объяснения знаков для столь же произвольных понятий, так что и те, и другие годятся именно только на то, чтобы просто заучить их на память.
Таким образом, ближайшая наша задача – найти основную черту, отличающую немцев от других народов германского происхождения – теперь решена. Это различие возникло сразу при первом же разделении общего племени, и заключается в том, что немец говорит на языке, который оставался живым с тех самых пор, как впервые проистек из силы природы, все же прочие германские племена – на таком языке, который лишь на поверхности подвижен, в корне же своем мертв. Только в этом обстоятельстве – живости или смерти языка – мы полагаем, состоит все различие; но мы нисколько не имеем в виду какой-либо иной внутренней ценности немецкого языка. Между жизнью и смертью не может быть никаких мировых соглашений, и ценность первой, сравнительно с последней, бесконечна; поэтому все непосредственные сопоставления немецкого языка и новолатинских языков совершенно ничтожны, и вынуждены вести речь о таких вещах, которые не стоят обсуждения. Если бы зашла речь о внутренней ценности немецкого языка, то, по крайней мере, нужно бы было противопоставить ему язык, равный ему достоинством, язык столько же изначальный; но подобное сопоставление намного превосходит нашу нынешнюю задачу.
Сколь огромное влияние на всю совокупность человеческого развития известного народа оказывает свойство его языка, – языка, который сопутствует человеку, в мысли и воле, повсюду, вплоть до потаеннейших глубин его души, и окрыляет его или ставит ему преграды, который соединяет все множество говорящих на нем людей в населяемой ими области в один единый разум, который составляет подлинную точку взаимного излияния мира чувственного и духовного, и в котором концы обоих миров сплавлены друг с другом настолько, что нам решительно невозможно сказать, к которому из этих миров относится он сам; сколь различны будут последствия этого влияния, там, где языки относятся друг к другу так, как жизнь и смерть, – это в общем угадать нетрудно. Прежде всего оказывается, что у немца есть средство для того, чтобы еще глубже понять свой живой язык, через сопоставление его с законченным в себе языком римлян, весьма отличным от его собственного по степени развития в нем символизма, а равно и понять таким способом с большей ясностью этот последний язык, что не так уже просто для человека новолатинского языка, который, в сущности, остается пленником в области одного и того же единого языка; что немец, изучая корневой латинский язык, получает одновременно, в известном смысле в придачу к нему, и все от него производные, и если он выучит латинский основательнее иностранца (что, по вышеуказанной причине, ему вполне по силам), он в то же самое время научится понимать и собственные языки этого иностранца гораздо основательнее, и владеть ими гораздо свободнее, чем сам говорящий на них иностранец; что поэтому немец, если только он воспользуется всеми своими преимуществами, сможет во всякое время проницательнее видеть и вполне понимать его, лучше даже, чем он сам себя понимает, и переводить его на свой язык во всем объеме его смыслов; иностранец же, если он не приложил прежде великих стараний, чтобы выучиться немецкому языку, никогда не сможет понять настоящего немца, и подлинно немецкие выражения останутся у него, без всякого сомнения, непереведенными. То, чему в этих языках можно научиться только от самого иностранца – это, чаще всего, лишь явившаяся от скуки и частной прихоти новомодная манера речи, и тот поистине весьма непритязателен, кто станет прислушиваться к наставлениям на этот счет. В большинстве случаев мы могли бы показать им вместо этого, как, соответственно корневому языку и закону его преобразования, следовало бы им говорить, и показать, что эта новая мода ничего не стоит и оскорбляет старинные добрые обычаи. – Все это множество следствий вообще, как и упомянутое только что следствие в частности, являются здесь, как мы уже сказали, сами собою.
Наше же намерение состоит теперь в том, чтобы постичь все эти следствия в целом, из глубины и в их общей связи, чтобы дать тем самым основательное описание немцев, в противоположность прочим германским племенам. Эти следствия я укажу Вам предварительно вот как: 1) У народа с живым языком образование духа влияет на самую жизнь; в противоположном же случае жизнь и духовное образование идут порознь, каждый своим путем. 2) По этой же причине народ первого рода воспринимает любое образование духа с полной серьезностью, и он хочет, чтобы это образование вмешалось в его жизнь; между тем как для народа второго рода это образование есть скорее некая игра гениев, и занимаясь им он решительно ничего более не желает. Последние остроумны; первые же, помимо остроумия, еще и душевно богаты. 3) Из этого второго момента следует: первые честно прилежны во всех делах и готовы к тяжелому труду, вторые же идут на поводу у своей счастливой натуры. 4) Из всего вместе следует: в нации первого рода великий народ восприимчив к образованию, и образователи этого народа испытывают свои открытия на своем народе и желают иметь на него влияние; в нации же второго рода образованные сословия отделяются от народа, и этот народ считают разве только слепым орудием для осуществления своих планов. Дальнейшее обсуждение этих, указанных сейчас, отличительных признаков я оставлю до следующего раза.
* * *
Пятая речь
Следствия указанного различия
В прошлый раз, чтобы описать своеобразие немцев, мы указали Вам основное различие между ними и другими народами германского происхождения: а именно то, что первые остались верными непрерывному течению своего изначального языка, развивающегося, как и прежде, на основе действительной жизни, последние же приняли чуждый им язык, который и умертвили своим влиянием. В конце прошлой речи мы указали другие явления в этих народностях, обнаруживающих подобное различие, которые с необходимостью должны были последовать из этого основного различия между ними, а сегодня намерены развить описание этих явлений более подробно и еще прочнее обосновать их в общей их основе.
Исследование, заботящееся о том, чтобы быть основательным, может избавить себя от нужды вступать в иные споры и опровергать иных завистников. И как мы поступали прежде в том исследовании, продолжением которого служит наше теперешнее рассуждение, так поступим мы и теперь. Мы станем шаг за шагом логически выводить все, что следует из указанного нами основного различия, и при этом следить лишь за тем, чтобы этот вывод был неизменно правилен. Возникают ли в действительном опыте все те многоразличные явления, которые должны наступить согласно этой нашей дедукции, или же нет – это я предоставляю решать лишь Вам и любому наблюдателю. Хотя, что касается в особенности немца, я покажу в свое время, что он действительно оказался таким, каким он и должен был быть согласно нашей дедукции. Но что касается германца-иностранца, то я не стану возражать, если один из этих иностранцев действительно поймет, о чем здесь собственно идет речь, и если впоследствии ему удастся доказать нам, что его соотечественники как раз были именно тем же самым, чем были немцы, и он сумеет совершенно снять с них любые подозрения в том, что свойства их противоположны. Вообще наше описание даже и этих противоположных свойств отнюдь не станет рисовать их в резком и невыгодном свете, ибо это сделает нам победу легкой, однако бесславной, но укажет лишь на необходимые последствия, и выразит их в выражениях настолько благопристойных, насколько позволяет нам уважение к истине.
Первое указанное мною следствие представленного основного различия было следующее: у народа с живым языком образование духа вторгается в саму жизнь; у народа же противоположного духовное образование и жизнь идут порознь, каждое своей дорогой. Полезно будет обстоятельнее объяснить вначале смысл высказанного нами положения. Прежде всего, коль скоро здесь идет речь о жизни и о вмешательстве духовного образования в эту жизнь, то под этим следует понимать изначальную жизнь и непрерывное ее проистечение из истока всякой духовной жизни, из Бога, дальнейшее образование человеческих отношений в соответствии с их прообразом, и тем самым – сотворение жизни новой и никогда прежде небывалой. Но отнюдь не идет речи о простом поддержании этих отношений на той ступени, на которой они уже находятся, не о предохранении их от возможного упадка, и тем более не о помощи только отдельным членам общества, отставшим в своем развитии от всеобщего образования. Далее, коль скоро здесь идет речь о духовном образовании, то под этим образованием следует понимать, прежде всего, философию (мы вынуждены назвать его иностранным именем, ибо немцы не позволили нам ввести в оборот давно уже предложенное немецкое название[15 - «Немецкое название» для философии есть предложенное самим Фихте слово «наукоучение». См. первое упоминание термина: «вопрос ставится так: Как возможно вообще содержание и форма науки, т. е. как возможна сама наука? Нечто, в чем будет дан ответ на этот вопрос, будет само наукой и именно наукой о науке вообще… Наименование подобной науки, возможность которой до сего времени проблематична, произвольно… Нация, которая найдет эту науку, будет, конечно, достойной дать ей имя из своего языка; и она может называться тогда просто наукой или наукоучением. Так называемая до сих пор философия стала бы таким образом Наукой о науке вообще» (Фихте И. Г. О понятии наукоучения или так называемой философии // И. Г. Фихте. Избранные сочинения. Том 1. М., 1916. С. 16–18).]): Философию, говорю я, нужно прежде всего понимать под таким образованием; ибо именно философия постигает в научной форме вечный прообраз всякой духовной жизни. И вот в ней, и во всякой основанной на ней науке, мы и хвалим теперь то в особенности, что у народа с живым языком она вмешивается в самую жизнь его. Между тем, и в кажущемся противоречии с этим утверждением, нередко говорили – и говорили, в том числе, наши же земляки, – что философия, наука, художество и тому подобное суть самоцели и не служат жизни, и что оценивать их по их полезности на службе этой жизни значит унижать их достоинство. Здесь уместно будет подробнее определить смысл этих выражений и защитить их от всякого неверного толкования. Эти суждения истинны, в следующем двояком, однако ограниченном смысле: верно, во-первых, что наука или искусство, как думали некоторые, не должны стремиться служить жизни на известной низшей ее ступени, например, земной и чувственной жизни, или пошлой назидательности; верно, во-вторых, что человек может, уединившись лично сам от всего духовного мира, совершенно предаться этим частным отраслям всеобщей божественной жизни, не нуждаясь в каком-либо мотиве вне их самих, и находить в них совершенное удовлетворение. Но эти суждения совершенно неверны в строгом смысле, ибо не может быть нескольких самоцелей, точно так же как не может быть нескольких абсолютов. Единственная самоцель, кроме которой не может быть никакой другой, это духовная жизнь. И вот эта духовная жизнь обнаруживается и является отчасти как вечное проистечение из себя самой, как исток, т. е. как вечная деятельность. Эта деятельность вовеки получает себе прообраз от науки, умение оформлять себя согласно этому образу – от искусства, и постольку может показаться, будто наука и искусство существуют как средства для деятельной жизни как цели. Но жизнь в этой форме деятельности сама никогда не бывает завершена и закончена как единство, но продолжается бесконечно. Если жизнь должна все-таки существовать в подобном законченном единстве, то она должна существовать как такое единство в некоторой иной форме. Эта форма есть форма чистой мысли, которую дает описанное в третьей речи религиозное постижение; форма, которая, как законченное единство, пребывает в абсолютном распаде с бесконечностью поступков и в этом последнем – в деянии – никогда не может быть выражена вполне. Поэтому обе – как мысль, так и деятельность, – суть лишь распадающиеся в явлении формы, а по ту сторону явления они, – и одна, и другая, – суть та же единая абсолютная жизнь; и вовсе нельзя сказать, что мысль существует, и именно такова, ради поступков, или же поступки существуют и именно таковы ради мысли, но можно лишь сказать, что и то, и другое безусловно должно быть, ибо жизнь и в явлении так же должна быть законченным целым, как она есть законченное целое и по ту сторону всякого явления. А значит, в пределах этой сферы и вследствие этого рассуждения, сказать, что наука влияет на жизнь – значит сказать еще совсем немного: скорее сама наука есть жизнь, и жизнь в себе самосущая. – Или можно еще соотнести то же самое с одним известным выражением. Что толку во всем вашем знании, – слышим мы порою, – если человек не действует соответственно ему? В этом высказывании знание рассматривается как средство для действия, а это последнее – как подлинная цель. Можно было бы, напротив, сказать: как же можно хорошо поступать, не зная, в чем состоит добро? А в этом высказывании знание рассматривалось бы как условие действия. Однако оба эти высказывания односторонни; а истина состоит в том, что и то, и другое – как знание, так и действие, – суть одинаково неотъемлемые элементы разумной жизни.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: