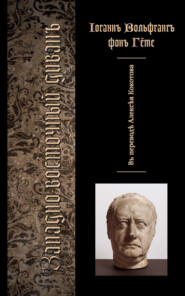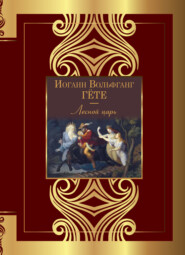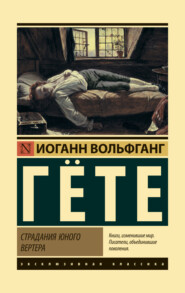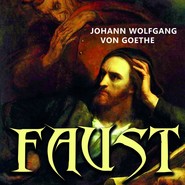По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фауст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что духом тех веков слывет,
То, в сущности, дух самых тех господ, –
лишь потому, что понятие, как достояние мозга, ни в чем ином существовать не может; тогда как платоновская идея – вещь необходимо проявляется в каждой особи, и задача искусства, вызывая в яркое освещение известную сторону явления, выставлять его идею более очевидным образом, чем она непосредственно раскрывается самой вещью. Верное подражание природе не составляет в этом случае главного средства к воспроизведению идеи. Последнее преимущественно зависит от помянутого привходящего освещения, как первого условия успеха. Выражение: «Каждый род хорош, кроме скучного» собственно значит: всякий предмет перестает быть бесплодным для искусства, когда озарен светом вдохновения. Попробуйте заговорить стихами о многом, о чем говорил Пушкин. Кто станет вас слушать? Самая преувеличенная карикатура, начерченная рукою мастера, может быть несравненно вернее идее оригинала, чем самый тщательный его фотограф. Сколько примеров тому, что тончайшие знатоки искусства, тщательно угадывая идею статуи с отбитыми членами, самым определенным образом указывали на мысль и повод ее зарождения, – и вдруг найденный не достававший член ее изменял все догадки, парализуя прежнее толкование. Несколько охотников, любуясь античным луврским кабаном, заслышавшим неприязненные звуки, могли бы, пожалуй, разыскивая в мраморе так называемые идеи художника, написать по интересной книге. Но в одном взгляде на кабана совмещаются все настоящие и будущие о нем суждения, и лишь потому, что художнику удалось вызвать из мрамора, так сказать, наикабаннейшего из всех кабанов.
Истина, как известно, является совпадением нашего представления или понятия с данным предметом. А как искусство есть воспроизведение нашего представления, а не самого понятия, то и истинность (реальность) искусства не есть безусловная верность будничной действительности. Мы видим красивую, вполне реальную руку; та же рука, совершенно измененная под микроскопом, никак не менее реальна, но, изваянная из мрамора, она преимущественно перед первыми двумя видами заслуживает название реальной, так как способна сохранить эту реальность тысячелетия, когда от первых не останется следа. До какой степени явления природы органической напрашиваются своею платоновской идеей, чувствовал уже Августин, говоря: «Растения предлагают нашим чувственным ощущениям различные свои формы, которыми так прекрасно видимое устройство этого мира, как бы желая, по-видимому, за невозможностью познавать, быть познаваемыми».
Сказанное утверждает нас в несомненной истине, что настоящий художник не задается первоначально какой-то отвлеченной идеей, для приискания ей соответственной формы, а что действительный прием творчества оказывается совершенно противоположным. Физический или умственный взор художника, падая случайно на известный предмет, при внезапном освещении последнего волшебным светом, провидит его вечную идею, и затем уже художник воспроизводит ее в пределах своего искусства. Этим объясняются и самые границы требований верности природе. Если мы эту верность станем понимать в смысле подражания, то она не выдержит ни малейшей критики. Можно ли в живописи – области двух измерений – подражать предметам трех измерений? Можно ли в неподвижной скульптуре подражать дышащим и движущимся организмам? И можно ли, наконец, мозаикой понятий, выражаемых отдельными словами, воспроизводить какое-либо нераздельное лицо или явление?
Если же от способа подражания мы перейдем к его сущности, то и тут легко заметим причину различия в понятии верности по отношению к миру действительности и к миру искусства. Припомнив, что художник представляет нам не сырой сколок с действительности, а ее отражение в его собственном волшебном фонаре, мы перестанем удивляться, что изображаемая им действительность нередко является действительностью только сна. Кто же имеет право возбранить спящему или мечтающему человеку видеть те или другие сны? Правило Горация[15 - Гораций (65 г. до н. э. – 8 г. до н. э.) – древнеримский поэт.] касательно несочетания разнородных членов в смешанное целое относится именно к тому, что перед художником не было определенной вещи, и он созерцание идеи ищет заменить механическим богатством форм. В противном случае поучение обращалось бы против самого Горация, у которого химеры, треглавый Цербер и всевозможные превращения на каждом шагу. Если так трудно уловить идею будничных образов, то какая сила творчества нужна для правдивого изображения фантастических явлений и превращений «Тысячи и одной ночи» или сказок Гофмана? Мы не хотим сказать, что художественная правда преимущественно состоит в неправде, а лишь, что независимо от будничной, она заключает в себе большую внутреннюю истинность, чем первая. Искусство не изменяет себе, воспроизводя человеческие сны или народные фантазии, ибо и здесь имеет дело не с понятиями, а с образами; художественная правда и тут остается верной образу, а не естественным наукам. Напрасно анатомия стала бы указывать на невозможность крыльев у льва с женской головой, или от пояса книзу мраморного принца. Эдип и Шехерезада говорят противное, а у Пушкина мы любуемся даже шестикрылым серафимом, заимствованным у пророков. Утверждать противное значило бы отвергать целый ряд гениальных произведений. Не лучше ли отвергнуть теорию, неспособную покрывать в своем предмете столь широкого поля. Истинный художник, вызывающий посредством волшебного фонаря первообраз предмета, должен руководствоваться его сущностью, а не случайной действительностью, как бы бесспорна она ни была. Его задача способствовать нам вступить в волшебное освещение, восхищающее наш дух, бегущий от мучений относительно реального к возможно прекрасному. Вызывая в портрете основную идею лица, художник не станет изображать сангвиника в ту минуту, когда флюс придает ему вид лимфатика, зная, что такая верность природе будет ложью в искусстве. И ложь, и правда не бывают без основания. Иногда трудно познать это основание, а иногда оно, коренясь в непосредственном чувстве и инстинкте, ярко выступает пред познанием. Так, например, красота низкого женского лба с глубокой древности инстинктивно чувствуется самими женщинами, которые в последнее время окончательно завешивают его до бровей волосами. Не удивительно, что эгоизм заставляет женщину нравиться в качестве женщины, а мужчину в качестве мужчины. Средство женщины, – красота, средство мужчины – телесная и умственная сила. Хранилищем последней является череп, и чем он обширней, тем большая умственная рекомендация. Преувеличивая на портрете лоб женщины, вы льстите ей как человеку и принижаете ее как женщину, и она справедливо негодует. Вы подчеркиваете в вашем Христе еврея, плотника, странника на счет царя и Господа, которого требует идея, и отгоняете алчущего вознестись в безотносительное, в ту же тесноту, от которой он уповал уйти. Ваша будничная правда становится в искусстве клеветой. Ведь искусство – праздник жизни, и последовательные пессимисты, не признающие праздников вообще, начиная с улучшенной пищи или жилища, будут правы, отвергнув всякое свободное искусство.
Упомянув о свободе искусства, не можем умолчать о свойствах этой свободы, еще раз указывающих на коренное отличие уличной идеи от художественной. В мире искусства повторяется тайна человеческой жизни. Умопостигаемая воля человека свободна, но индивидуальный человек – раб своей эмпирической воли. Не в нашей власти выдумывать себе волю… И если совершенно справедливо сказать: воля человека свободна, но сам человек не свободен, то не менее справедливо сказать: искусство свободно, но художник раб своего искусства. Достаточно привести стихи из «Онегина»:
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.
Ту же мысль приходилось нам слышать из уст самых могучих художников. Они не знали, что станут далее делать их герои и как выйдут из своего положения. Перейдем к поучительности. Поучение, в сущности, есть умственное сближение вполне по себе безразличных фактов с известным из него выводом. То и другое, будучи делом разума, никак не может заключаться во внешних фактах, способных быть лишь предметом бесконечных сближений и поучений. Так Парижская коммуна способна быть для одних поучением, как сжигать петролеумом дома и истреблять памятники истории и искусства, а для других, как избежать причин таких действий. Отрицать у искусства такого рода поучительность значило бы выдвигать его из области действительности, т. е. не признавать его существования. Для основателя буддизма, принца Шакьямуни[16 - Будда Шакьямуни (563 г. до н. э. – 483 г. до н. э.) – легендарный основатель буддизма.] случайная встреча с погребальной процессией была до того поучительна, что заставила его покинуть царский блеск для пустынножительства и проповеди. Но возможность поучения все-таки заключалась в нем, и нельзя утверждать, что появление смерти имеет целью научить одного Шакьямуни, так как обычно оно никого не поучает. Конечно, в ряду действительных явлений искусство по преимуществу поучительно уже потому, что сокращает нам наполовину доступ к идее предмета, озаряя его волшебным своим светом. Поэтому группа деревьев, которым художник, в смысле Августина, помог высказаться, гораздо поучительнее той же группы, не освещенной волшебным светом. Но, помимо главной цели, искусство при беспредельном своем запасе, невзирая на строгость своих границ, может нападать на содержание, имеющее внешнюю форму поучительности. С богатой мантии художника могут между прочими самоцветами спадать и алмазы поучений, в назидание желающим поднимать их; но превращать такие явления в цель искусства – то же, что утверждать, будто целью «Илиады» было научить греков энергически ругаться с противником. Психолог, политик, юноша, вступающий в жизнь, молодая девушка, актер и т. д. могут действительно найти в «Гамлете» драгоценные поучения, но не можем согласиться, что драма ставила их конечной целью.
Когда прирожденный художник в силу известных соображений и решается насиловать природу своего дела, начиная его не с созерцания, а с головной мысли, то зрелище выходит истинно поучительное. Личная головная мысль, способная произвести лишь мертворожденное, так и остается в одном заглавии, а сила творчества, овладев художником, ведет его своим путем, которым наглядно опровергается мысль заглавия. В этом случае мы не знаем более разительного примера, чем прекрасный рассказ графа Льва Толстого «Чем люди живы». Целых 8 цитат из посланий Иоанна указывают на любовь к ближнему, которой сам рассказ должен служить иллюстрацией. Всматриваясь в два самостоятельных факта, преднамеренно сближенных автором, мы видим, с одной стороны, что вся заслуга и значение поучений Иоанна в том, что, указывая людям на врожденное и общее у них со всей органической природой чувство любви, они напоминают им, что в будничной жизни люди слишком дозволяют гнетущим их обстоятельствам и собственным похотям заглушать это высокое чувство. Так что любовь к ближнему, как редкое исключение, как бы вовсе не существует между людьми. Зная, что вся природа, в том числе и человеческая, в силу вечных законов, живет чувством самосохранения особи, Иоанн рекомендует этой особи таящуюся в ней самой, высшую по значению, но нижайшую по мощи, силу братской любви, т. е. способность расширять свое я, свой эгоизм, как это явно в курице, идущей на бой с коршуном из-за цыплят. Этой рекомендацией Иоанн желает возвысить, но не изменить человеческую жизнь. Невзирая на свой платонизм, он не в силах закрыть глаз на ход человеческой жизни, – и знает, что последняя совершенно противоположна его высокому идеалу, осуществляемому лишь отрывочными, минутными проявлениями. Повторяю, в таком понимании и стремлении все значение проповеди апостола. С другой стороны мы видим художественный рассказ, вполне независимый от проповеди Иоанна, но, тем не менее, способный, рядом со всяким живым организмом, стать орудием не только поучения, но и целого ряда поучений. Читатель, привыкший наслаждаться художеством автора, и здесь отдался бы этому чувству, если бы его не смущали диссонансы, внесенные на этот раз преднамеренностью. Граф Толстой далеко не из людей, не владеющих словом. Всегда адекватное мысли, оно лишает нас возможности понимать его неточно. Поэтому, мы вынуждены, наравне со всеми, понимать заглавие «Чем люди живы» в смысле: вот основа и способ жизни людской. Или: если люди живы, то обязаны своим существованием попечению о них собратий. Предположим, что автор своим рассказом несомненно утвердил такое положение. В таком случае его рассказ являлся бы прямым опровержением апостола, на которого он ссылается. Если люди действительно искони живы (сущность человека неизменна) братской любовью, то слова Иоанна являются излишней рекомендацией вечно существующего. Кто серьезно станет учить людей дышать воздухом и враждовать? Уж если задаваться рассказом в подтверждение слов апостола, то надо выводить примеры тщетности таких поучений, чтобы сохранить за ними честь значительности.
Наслаждаясь произведениями графа Толстого, мы до сих пор ни разу не задавались розысками поучений. На этот раз автор сам побуждает нас к тому своим примером. Каково же по рассказу выходит это поучение? Воспользовавшись легендой, автор сообщает нам, что архангел Михаил, свергнутый Богом с неба за непослушание, спасен от замерзания бедным сапожником, у которого, выучившись в три дня ремеслу, он довел его до совершенства, доставившего хозяину известность и барыш.
Ангел предузнает смерть требовательного заказчика и, увидав женщину, выкормившую своим молоком, кроме собственного ребенка, двух сирот, получает прощение и возносится на небо. На земле он узнал три слова Господних: что есть в людях, чего не дано людям и чем люди живы? Непослушание ангела состояло в том, что он не вынул душу из больной, родившей двойню, но на земле он узнал, что у людей есть любовь, что люди не знают будущего, и что люди живы любовью к ним ближнего. Повторяем, если бы перед нами был чистый миф, то мы не стали бы искать в нем будничного здравого смысла. Но видя перед собой проповедь в рассказе, мы не можем не спросить: каким образом архангел, согрешивший неповиновением из-за любви матери к новорожденным, принужден был узнавать чувство любви на земле, как нечто ему совершенно незнакомое? Из легенды не видно, для кого важна истина незнания человеком будущего. Очевидно, не для людей, которые давным-давно поняли, что не только не знают будущего, но что им вообще не дано ни в чем истинного познания. Ясно, что ангел сходил на землю за этой истиной для себя; хотя странно, как он, зная о меньшем совершенстве людей, не догадался о деле по собственному незнанию будущего. Зная будущее, он не подпал бы под наказание. Но целью рассказа оказывается третья истина, послужившая заглавием: чем люди живы? Если бы в этой фразе были слова: иногда остаются, то и сам рассказ утратил бы свою тенденциозность, а слова апостола остались бы неприкосновенными. Между тем, оказывается, что работник Михаил «работает без разгиба, ест мало» – «и прошла слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник, Михайла. И стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться». Стало быть, и Семен, и случайно спасенный его любовью Михайла стали живы, подобно всем людям, трудом и трезвостью. Что любовью не проживешь, знает по опыту Матрена, у которой муж из любви к вину пропил холсты, и потому на здравый вопрос ее: «Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?» – «не знал Семен, что сказать». Женщина, выкормившая грудью троих, сама объясняет возможность такого дела: «Молода была, сильна была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются бывало». Следовательно, и женщина сама, а при ее посредстве и сироты живы остались, если не прямо трудом, то накопленным чужим трудом, – капиталом. Таким образом, головная сентенция осталась сентенцией, а художественная правда не только не дозволила автору оправдывать сентенцию рассказом, но и привела его к очевидному утверждению противоположного. Поневоле вспомнишь мудрый совет Козьмы Пруткова: «Когда в зоологическом саду на клетке носорога прочтешь надпись: буйвол, – не верь глазам своим».
Прослеживая шаг за шагом значительное по объему и громадное по содержанию произведение Гете, мы убеждаемся, что оно менее всего модное платье на вешалке предвзятого понятия в окне магазина поэзии. Гете не сочинял «Фауста» по правилам пиитики, а так сказать, наткнулся на готовый факт народной легенды и только при свете поэзии развил зачатки, лежавшие в легенде непосредственно.
Еще с двенадцатого века появилось множество людей, обманывавших толпу мнимым волшебством, которое объяснялось общением с дьяволом. Уже в XV столетии должен был существовать такой прославленный волшебник, принявший имя Фауста (Faustus – счастливый) так как в начале XVI века подобный площадной обманщик писался: Magister Georgius Sabellius – Фауст младший, второй маг, второй по предсказаниям по руке, по воздуху, по огню и по воде. Но главным носителем народного сказания является Иоанн Фауст (Фуст?) из Книтлингена (Кудлинга), земляк и знакомый Меланхтона, при котором около 1530 года проживал он некоторое время в Виттенберге. В 1525 году он выехал верхом на бочке из Ауербахова погреба в Лейпциге, как о том свидетельствуют там позднейшие картины и стихи. В сочинении виттенбергских теологов 1585 года много рассказано историй о Фаусте, мучительно умерщвленном дьяволом, после тщетной попытки волшебника обратиться снова к Богу. Два года спустя появилась во Франкфурте древнейшая книга о Фаусте: «Historia о Д. Иоанне Фаусте». Здесь уже указано на высокомерное стремление «к исследованию всех оснований на небе и на земле», как на причину, ввергнувшую Фауста в сети дьявола. Старейшая форма соблазнителя (одного из служителей сатаны) Мефистофель, от греческого «не любящий света», хотя само имя Мефистофель, подобно другим именам злых и добрых духов, происхождения ассирийского, откуда через посредство еврейской каббалы проникло в Европу. Мефистофелю Фауст за 24 года земных услуг записывает свою душу. На 23-м году договора Фауст требует у Мефистофеля греческую Елену, как сам он в Светлое Воскресенье показывал ее виттенбергским студентам. В начале последнего года он назначает своим наследником своего Фамулуса (помощника) – Христофа Вагнера (знаменитого в свою очередь волшебника), которому после своей смерти обещает прислать особенного духа Ауерхана (глухаря) в виде обезьяны.
В 1588 году в Тюбингене появилась в стихах история Фауста; а прозаическое ее распространение в 1591 и 1592 годах переведено на простонародный немецкий, датский, английский и французский языки – еще до исхода XVI века. По одним источникам время жизни Фауста относится к эпохе Карла V и Лютера, а по другим – Максимилиана I, перед которым он вызывает тень Александра Великого, с помощью Соломонова ключа (clavicula Salomonis)[17 - В приписываемой доктору Иоанну Фаусту волшебной книге (Zauberbuch) Мефистофель изображен на картине в виде черной собаки (примечание А. Фета).]. Уже в XVI столетии являются в Германии английские комедианты, игравшие на немецком языке. Таким образом «Doctor Faustus» Марло, вероятно, очень рано стал известен в Германии.
В 1626 году, 6 июля, англичане давали в Дрездене «Трагедию Д-ра Фауста». Склоняющийся попеременно к духам света и мрака Фауст у Марло близок к спасенью, но греховная связь с вызванной Мефистофелем призрачной Еленой окончательно губит Фауста. На творении Марло основана, вероятно, народная кукольная комедия, с которой Гёте с ранних лет мог познакомиться на Франкфуртской ярмарке. В кукольной комедии, кроме соблазнительного образа Елены, находится и полет на плаще в Константинополь, и таким образом, зародыш классической Вальпургиевой ночи и всех греческих сцен. Здесь же в минуты высочайших страданий Фауст ищет заступничества Святой Девы. Из истории возникновения гетевского «Фауста» видно, что поэт вынашивал идею трагедии с 1772 года по самую смерть свою в 1832 году, следовательно, в течение 60 лет.
Не у Гете, а у всех веков надо спрашивать, почему их постоянно пленяла безграничная гордыня непрестанных поисков и неизменной верности нравственным требованиям духа, до полного забвения личных интересов? Почему художественные образы таких людей, теряя под ногами местную и временную почву, становились выражением целого культурно-исторического типа? Так Иов является подобным типом восточного человека, Прометей – эллина и, наконец, Фауст – германца и вообще нового человека. Продолжая вопросы, мы могли бы спросить, почему во всех случаях человеческое сознание, насколько это допускали религиозные представления, приписывало, при драматическом раздвоении духа, терзания, испытываемые мужем желаний, враждебным, злым силам, – и удовлетворялось только окончательным возвращением такого борца к блаженству духовного равновесия? Только непреложные законы искусства способны отвечать на такие вопросы. Изображать неуловимые и разноречивые колебания человеческого духа едва ли удобно, в особенности в драме, которая, оставаясь верной наглядной действительности, была бы вынуждена совместить поэта Ленского и Мельмота-Онегина в одном лице. Сродство положения Иова с Фаустом не требует доказательств, так как на него указывает пролог первой части. Что же касается до Прометея, то и тут мучителем является не человек и не бог, а, за отсутствием духов зла, животный элемент в виде орла. И здесь дело не кончается простым терзанием богоборца. Миф был бы не закончен. Чувство высшей справедливости оставалось бы неудовлетворенным, и у Эсхила Геркулес освобождает Прометея, который становится сотрапезником олимпийцев. Возвращаемся к Фаусту. Легенда наивно представляет ученого волшебника, которому черт помогает, перенося его на коврах-самолетах, за какие услуги волшебник продал черту душу. Гете, слишком хорошо знавший и средства, и границы науки, не мог так наивно отнестись к преданию. Но при этом он ничего не выдумывал, а лишь ясно понял, что ученый и духовно ненасытный Фауст не стал бы никому, а тем более черту, продавать душу из-за детского желания покататься на ковре-самолете, или удовольствия изумлять чернь необыкновенными штуками. Фауст, убедившись в бессилии науки отвечать на капитальнейшие вопросы бытия, обращается от самих предметов познания к первоначальным силам природы, к стихийным силам, – и только узнав, что беседа с глазу на глаз с ними ему не под силу, с отчаяния, как бы махнув рукой на свое прошлое, вступает в союз с Мефистофелем, в той же надежде узнать истину. Испытав тщету усилий добраться до нее путем размышлений и науки, в которую так наивно верует ограниченный Вагнер, Фауст готов покончить с жизнью, потерявшей для него всякий смысл. Но непосредственный свет красоты, живой в душе всякого нормального человека, удерживает его, и затем разговор с Мефистофелем наводит его на иной путь. Ну, как истина-то скрывается в самой жизни, которую он до старости прозевал над книгами и ретортами? Почему бы с его светлым и отважным духом не поискать истины там? Но для такой школы нужна юность, и вот, при помощи Мефистофеля, он отправляется в кухню ведьмы. Оставаясь верным идее Фауста, Гете вынужден был, вопреки пословице «Si jeunesse savait, si viellesse pouvait[18 - Если бы молодость знала, а старость могла (фр.).]» – сочетать в Фаусте молодость с прежней ученостью и мудростью. Новость положения дозволяет Фаусту полагать, что его поиски принесут не те горькие плоды, какими жизнь питает заурядных людей. Между тем, жить и для Фауста, как для всей вселенной, значит: теснить другую жизнь. И вот, вопреки высоким рассуждениям о чистоте Гретхен, он не только губит безгранично преданную ему девушку, но доводит ее до детоубийства, сделав сперва орудием смерти брата и матери. В сцене темницы драма достигает вершины. Инстинктивный ужас смерти носится над обезумевшей Гретхен. Фауст протягивает ей руку внешнего, будничного спасения; но воля к жизни окончательно сокрушена в несчастной жертве чужой воли. Она прямо говорит:
Отсюда на вечный покой
И дальше ни шагу… –
как бы подтверждая смысл тютчевского:
Могу дышать, но жить уж не могу.
Она чувствует, что, даже избежав земного правосудия, она не избежала бы общественного и собственного суда.
Но великий художник не останавливается и на этом ярком озарении сокровеннейшей тайны жизни, когда представитель и истолкователь будничной цели причинности Мефистофель вполне логично восклицает: «Ей нет спасенья!» Голос свыше произносит свой суд: спасена, и этим словом единовременно вносит то чувство высшей справедливости, на которое мы указали в Иове и Прометее, и намекает на духовный путь искупления страданием и покаянием, на который указала христианская эра, в качестве нового слова. Призывом Мефистофеля «За мной!» кончается личная драма Фауста. Ни в науке, ни в магии, ни в будничной жизни не нашел он искомого удовлетворения. Обманутый, он не мог сказать мгновению: «Остановись!», и таким образом обманул до некоторой степени надежды Мефистофеля. Зритель не вправе требовать большего. Искусство, обращаясь к известной озаренной стороне предмета, не может в тот же момент смотреть на него с разных сторон. Глядя на Аполлона ящероубийцу[19 - «Аполлон, убивающий ящерицу» – выставленная в Лувре мраморная фигура нагого юноши рядом с деревом, по которому ползет ящерица (первые столетия Римской империи с утраченного бронзового оригинала).], никому в голову не приходит спросить, почему художник не представил его в то же время и на колеснице, и у овечьего стада?
Тем не менее, при размышлении над всечеловеческим типом Фауста, мы невольно задаемся вопросом: как же такой пытливый дух в своих поисках мог остановиться на тщете буржуазных отношений к прекрасному полу?
Неужели человеческая деятельность клином сошлась в этом единственном направлении, на исключительном поле малого света? Недаром в первой части Мефистофель говорит:
Посмотрим малый свет, посмотрим и большой.
Сама легенда указывает на посещение Фаустом императорского двора Максимилиана. Но такое посещение лишило бы первую часть художественной одноцентренности. Тем не менее, ширина самого типа, представшего художнику и разлившегося на все человечество, настоятельно требовала воспроизведения не внешних, исторических событий, а тех наисущественнейших нравственных, которыми обозначился ход общечеловеческого развития, насколько такое воспроизведение возможно в лице представшего типа. Невозможное для всякого другого является возможным для колоссального Гете. Нечего спорить о возможности, когда 2-я часть перед нами.
Но препятствия, превосходящие силу даже людей исключительных, не изменяют своей природы, и победа над ними не проходит даром. Мы справедливо изумляемся пловцу через Ламанш или 50-дневному постнику, но не удивляемся и известной болезненности, вытекающей из их подвигов. Победа Гете над своей мировой задачей не обошлась без изъянов в самом творении. Если, в силу драматических условий, Гете в 1-й части расколол своего героя на Фауста и Мефистофеля, введя Вагнера, крестьян, студентов, ведьм, Гретхен и т. д. и намекнув в Вальпургиевой ночи на большой свет, то, пускаясь в поиски по всей истории человеческого развития, он вынужден был наводнить сцену не только группами живых или мифических лиц, но даже аллегориями человеческих и природных сил. Ясно, что по мере наплыва разнородных личностей, фигура самого Фауста отодвигается на 2-й план, хотя нигде не изменяет своему основному типу.
Если никакими словами и невозможно заменить художественного произведения, то, прежде всего, необходимо понять его, и потому обращаемся к материальному содержанию 2-й части «Фауста».
Тяжкое сознание собственной вины не могло окончательно подавить всевопрошающего духа Фауста.
Возрождающая красота весны в лице Ариэля пробуждает в Фаусте энергию. Согласно легенде, он вступает в высший круг при дворе императора Максимилиана I[20 - Максимилиан I (1459–1519) – король Германии с 1486 г., император Священной Римской империи с 1508 г., реформатор государственных систем Германии и Австрии.], при особе которого Мефистофель ловко занимает место шута. Здесь Фауст лицом к лицу встречается с величайшим политическим разладом, доходящим до полного разложения государства, вследствие крайней ограниченности эгоистических стремлений правительственных лиц и склонности молодого монарха к пышности и развлечениям. Бесконечно добрый император не прочь от благодетельных, по его мнению, реформ, которые, не захватывая, однако, сущности вещей, ограничиваются формальными перетасовками, передающими дело в те же самые неспособные руки. Не будучи в силах понять причины зла в его корне, правители, тем не менее, ясно понимают его наглядность, выражающуюся отсутствием денег. Ехидный Мефистофель видит удобный случай к злобной штуке. Зная, что обилие денег служит только внешним выражением соответствия продуктивности страны с ее же потребностями и затратами, он, вместо того, чтобы указать на способ восстановления нарушенного равновесия, указывает на минутную пальятиву[21 - Пальятив (лат.) – временная помощь, срочная, но не исцеляющая помощь.] в виде внутреннего займа, – в форме ассигнаций. Он хорошо знает, что всякий новый долг только ухудшает, а не улучшает дело. Таким образом, Фауст имеет случай наглядно убедиться в невозможности со стороны одного частного лица достигнуть в области политики народного блага. Та же основная истина выражается и маскарадною шуткою, в которой император, в образе великого Пана, увлекаемый нимфами и фавнами в беззаботную веселость, присутствует при волшебном наделении Фаустом, в костюме Плутоса, всех эфемерным богатством, причем также призрачно от вскипевшего золота погибает весь маскарад, представляющий целое государство. Но так как волшебнику Фаусту достаточно было аллегорически указать на горестные последствия беззаветных забав, то он магически восстанавливает все сгоревшее. Легенда говорит, что пресыщенный удовольствиями император требовал от Фауста, чтобы тот в Инсбрук вызвал ему тень Александра Великого и его супруги. Но не только Гете, но и предшественник Шекспира – Марло, в своей драме «Фауст», заменил Александра Македонского – Еленой и Парисом. На народном кукольном театре Фауст тоже обнимает чертовскую Елену, которая в его объятиях превращается в отвратительную змею. Когда Фауст за разрешением такой трудной задачи обращается к Мефистофелю, то последний, состоя в качестве духа отрицания в оппозиции к истинно прекрасным, вынуждает признаться в своем бессилии над героическими образами. Чтобы вызвать их на свет, Фауст должен сам низойти к матерям, чем намекается, что прирожденную идею прекрасного человек может отыскать только в глубине собственного духа. В присутствии императора и всего двора Фауст в одежде жреца «искусства» возникает из-под земли с магическим треножником, выведенным из царства матерей – (идей). Вызвав призрак Елены, он, до забвения роли жреца, увлекается ее идеальной красотою и, в ревности бросившись на Париса, касается его своим волшебным ключом. Но так как невозможно под влиянием личной страсти удержать образа, вызванного объективным художественным вдохновением, то за насилием волшебного ключа следует страшный взрыв. Елена и Парис исчезают, и Мефистофель с насмешкою уносит оглушенного и собою не владеющего жреца Фауста. Во втором акте влюбленный Фауст вынужден проникнуть сам в идеальный мир греческого искусства, чтобы овладеть действительною тенью Елены, которой в первом акте он видел лишь призрак.
Неудержимое стремление Фауста к идеальной красоте, выражает Гомункул, освещающий своим интеллигентным фонарем дорогу в классическую Вальпургиеву ночь. Хотя тупоумный Вагнер и воображает, что в своей лаборатории изготовил химическим путем разумного человечка, но оказывается, что, так сказать, отвлеченно разумный человек, жаждущий окончательно произойти в человека, засажен в реторту тем же Мефистофелем, как новое олицетворение художественного стремления Фауста.
Если для ширины картины Гете был вынужден в первой части, независимо от характеристического сборища колдунов на Брокене, привести в Вальпургиевой ночи силуэты многоразличных гражданских и художественных деятелей, то классическая Вальпургиева ночь является во второй части уже не только роскошной прихотью художника, но неизбежным требованием самой трагедии, как со стороны наглядного уяснения постепенности развития античного культа, так и в видах приобретения фактической почвы для драматического сближения искательного Фауста с идеальною Еленою. Отсутствие злых духов в античном мире представляло громадные затруднения для воспроизведения классического подобия средневекового Брокена, но и тут глубокое знакомство с древним миром выручило великого художника. Мы видим, что Фауст, в Вальпургиевой ночи, проходит между образами греческого искусства, начиная с самых грубых до самых окончательно прекрасных, но, не находя нигде Елены. Он при помощи Персефоны вынужден сам искать ее в подземном мире. Гнусному Мефистофелю приходится держаться среди греческих мифов наиболее звероподобных и безобразных, так что под конец он принимает вид гнуснейших из форкиад. Следя в своей картине за развитием грубых зачатков искусства в высшие формы, Гете не мог удержаться от сближения такого постепенного возрастания с учением нептунизма, причем не щадил вулканизма стрелами своей сатиры.
В третьем акте является действительный союз Фауста с Еленой. Персефона дозволила Фаусту вызвать Елену, но, по-видимому, строго обозначила положение, в котором она должна снова появиться на свет, т. е. по возвращении из Трои, в собственном дворце в Спарте, откуда только угрозы Мефистофеля-форкиады по поводу намерения мстительного Менелая принести виновную Елену в жертву богам склоняют последнюю искать, при помощи того же Мефистофеля, убежища в средневековом неприступном замке Фауста, обладающего многочисленным войском и храбрыми предводителями. Такая концепция дает Гете полную возможность с первой строки третьего акта ввести нас в самобытный по своему внутреннему и внешнему строю мир античной драмы. Размеры античного драматического стиха, расположение хоров, со строфами, антистрофами и эподами вполне переносят нас в трагедию Софокла. Мы в Древней Греции, которую, по-видимому, только случайное историческое потрясение могло заставить незаметно перейти в жизнь и дух новых народов без утраты своей типической красоты. Такое потрясение воспроизведено в нашей драме в образе роковых угроз Мефистофел-форкиады, а самый переход художественной формы из античной в средневековую наглядно и прелестно воплощен в сцене, в которой Фауст учит Елену говорить рифмами.
Плодом сближения средневекового Фауста с классической Еленой является Эвфорион, коего имя Гете заимствовал из позднейшего греческого сказания о крылатом сыне Ахиллеса и Елены. Верный необузданной стремительности пытливого отца, мальчик, срываясь с колен матери, подымается все выше и выше по скалам и наконец, считая себя крылатым, падает мертвый к ногам родителей. Вот что об этой сцене говорит Дюнцер: «Эта первоначально не предполагавшаяся вставка смерти Эвфориона может быть объяснена только делающим честь поэту, но здесь неуместно осуществленным намерением почтить память могучего саморазрушительного поэтического стремления Байрона». Не входя в исторический разбор повода появления этой сцены, мы не можем согласиться с Дюнцером насчет ее неуместности. Байрон действительно является не только вершиной, возрожденной под влиянием греков европейской поэзии, но и родоначальником того разнузданного романтизма, которого образцом может служить Гюго. Мы не говорим уже о беззаветном духе свободы, самовластно попирающем и нравы, и закон, в чем Гете не преминул, среди похвал, упрекнуть Байрона; но нельзя не признать, что сама беззаветность форм и приемов байронизма, заключая в себе, между прочим, и протест против вековечных законов греческого искусства, равняется самоубийству поэзии в припадке безграничного стремления. Дальнейший исторический ход поэзии подтверждает истину пророческой аллегории. На новейшем поэтическом горизонте только те звезды сверкают чистой поэзией, которые ближе к Елене, чем к романтическому Эвфориону. Но и этого мало. Когда мы оглянемся на весь ход развития основной идеи трагедии, то придем к убеждению в художественной необходимости заключения третьего акта смертью Эвфориона и исчезновением самой Елены.
Человечество в типе Фауста, не удовлетворившись в области политики, ищет удовлетворения в области свободного искусства. Для наглядного изображения такого поиска Фауст появляется в образе жреца искусства. Но мы не должны забывать, что такое появление – только исторический момент. Сам Фауст, покоренный основе типа, не муж науки, политики или искусства, а муж желаний, попеременно ищущих удовлетворения то в той, то в другой сфере. Все человечество в совокупности лишь тот же муж желаний. Заставить Фауста удовлетвориться областью прекрасного значило бы не только окончить трагедию третьим актом, но и возвести на человечество нелепую клевету, будто бы оно в одном искусстве находит окончательное удовлетворение всех стремлений. Между тем в конце третьего акта мы узнаем, что видимые эмблемы поэзии, плащ и лира, служат для художников, бессильных подняться на высоту байроновской гениальности, только поводом к зависти и цеховому раздору. Такое грустное извращение возвышенного в низкое, конечно, не может удовлетворить человечества. Фауст пускается в новые поиски.
В начале четвертого акта мы видим Фауста, перенесенным облаком на уступ скалы, причем облако, отделяясь от него, уносится в виду колоссальных изваяний, напоминающих высокие идеалы искусства и чистой любви, двух сил, столь мощно захвативших и очистивших все его существо со времени его сближения с Мефистофелем. Фауст появляется до того исцеленным от страстных увлечений, что ищет счастья лишь в разумном развитии силы и целесообразной деятельности. Свое нерасположение ко всякому насильственному развитию он тотчас же высказывает перед собеседниками отвращением к учению вулканистов. Мефистофель, не имеющий о действительном стремлении Фауста никакого понятия, все надеется, по своей ограниченной односторонности, увлечь его в область низменных похотей и выиграть заклад. Своими предположениями об идеалах Фауста он высказывает свою неспособность понять его. Между тем, Фауст пришел к убеждению, что на земле достаточно места для великих дел, к совершению которых он чувствует в себе силу. Борьба с морем, коего необузданности он желает положить преграду, далеко ворвавшись в его область, возбуждает в нем отвагу. Дикие стихии, бессмысленно разрушающие плоды человеческих усилий, составляя прямую противоположность с обдуманною преднамеренностью окрепшего духом Фауста, вызывают его на открытый бой. Мефистофель, не обязанный понимать стремлений Фауста, должен, по договору, только быть его слугой, рабом. И вот он указывает на кратчайший путь к цели при благоприятных обстоятельствах. Оказывается, что в данную минуту император, обогащенный в первом акте призрачными ассигнациями, идет войной на анти-императора. Если Фауст с Мефистофелем силою чар помогут победе императора, то Фауст получит желанное прибрежье. Фауст, при всем отвращении к войне, соглашается, частью из сожаления к императору, частью в ожидании прибрежья. Тщетно Мефистофель возбуждает в нем воинственное тщеславие, предлагая ему военачальство. При помощи чар анти-император разбит, и единодержавие восстановлено. Император сознает необходимость заняться устройством порядка, но здесь-то именно ярко выступает коренное различие между всецелым беззаветным стремлением Фауста ко благу и головным к нему стремлением императора. Первый ошибается и тотчас же оставляет предмет минутного удовлетворения для новых поисков блага, а второй только головой ищет блага, а всем существом (эмпирическим характером) льнет к удовольствиям. При громких фразах о реформах, он сводит их на передачу придворных и государственных должностей тому же неспособному кружку, который уже привел государство на край гибели. Этого мало. Расширением феодальных прав этого кружка добрый император окончательно обессиливает монархический принцип, из-за которого только что сражался. Вновь подкупленный дорогим его душе блеском, он уже забыл, что все его придворные, начиная с главнокомандующего, бежали в минуту опасности, и что спасением он обязан не им и не себе, а случайному вмешательству волшебства.
Пятый акт представляет нам Фауста, достигнувшим грандиозной цели: победы над стихией. Трудом и искусством он вырвал громадную полосу земли у бесплодного моря; победил не преходящего, как сам он, человека, а вечную стихию. Совершенной противоположностью титаническому его стремлению является идиллически-добродушная пара под именами Филемона и Бавкиды. Поставивши на этот раз своей целью чувство власти и собственности, Фауст естественно чувствует себя стесненным присутствием близ центра своего владычества, хотя и прекрасного, но вполне чуждого элемента. В оправдание такого чувства, он старается уверить себя, что возвышение, на котором стоит хижина стариков, окруженная вековыми липами, необходимо ему для обзора владений. Великодушный, но страстный, он не хочет понять, что насильственный обмен, независимо от стоимости вещей, составляет сам по себе нарушение чужого права. Мефистофель, и тут подстрекающий его на нечистое дело, под конец цинически доносит ему о насильственной смерти стариков и защищавшего их гостя. Фауст, снова достигнув цели, проклинает и грубое насилие исполнителей, и деятельность, в которой благо одних неразрывно со злом для других. В минуту раскаяния он задается высшей и благороднейшей на земле целью: увеличения благосостояния людей без нарушения чьих-либо личных прав. Желая посредством канализации оздоровить громадное зараженное пространство, он мечтает о тех счастливых тружениках, которым из поколения в поколение доставит средства существования. Конечно, такой громадный труд связан с заботою. Олицетворенная забота лишает престарелого Фауста зрения. Но он, и ослепнув, блаженствует, предвкушая создаваемое им благо. Духовными очами предвидит он минуту, когда может сказать мгновенью: «Остановись! Прекрасно ты». На этой мечте застигает его смерть, и Мефистофель уже воображает свое двойное торжество. Он до конца служил прихотям Фауста, и смерть застигла Фауста на слове: остановись! Радостно скликает Мефистофель разнокалиберных чертей хватать душу Фауста, когда она порхнет из тела. Он не понимает, что ему, Мефистофелю, ни разу не удалось свести Фауста «до низменных кругов», и что хвастливые слова его перед Господом: «Он пыли всласть же насосется» не оправдались. От разгула Фауст отвернулся в ауербаховом погребе, у Гретхен увлекся духовной прелестью гармонической души, а политика, искусство, война, власть и деятельность на благо человечества и подавно составляют предметы духовных, а не плотских вожделений. В минуту кончины Фауста хитрец Мефистофель не догадывается, что ему придется устыдиться перед лицом Господним. Фауст, подобно Иову и Прометею, вышел чистым из искушений.
Нравственное чувство и простой смысл драмы требовал конца. Этим концом является мистическая апофеоза, в которой перед зрителями исполняется обещанный вывод высокого, хотя и заблудшего духа, окончательно на свет блестящий.
Художественный образ Фауста не потому только велик, что является носителем всех высоких человеческих стремлений, а главное потому, что запросы человеческого духа, в высшей его потенции, не вмещаются без остатка ни в какие земные задачи. Причина этого очевидна. Человек, прежде всего, лицо. А всякая деятельность, по мере своего совершенства, стремится к принижению, уничтожению личности. Совершенство простого рабочего и величайшего художника или полководца растет обратно пропорционально его самоличности. Чем менее он личен, тем совершеннее как специалист. Есть Венера Милосская, Гамлет, Ватерлоо; ни скульптора, ни Шекспира, ни Веллингтона тут нет, а есть творцы, повернувшиеся одной стороной к делу. Вот причина, почему вслед за достигнутой целью личность требует своих прав и чувствует себя неудовлетворенной. Смерть, застигнувшая Фауста на мечте о благе, независимо от чужих страданий, как бы указала, что такая задача на земле возможна лишь как стремление. Можно справедливо изумляться целесообразности частей хитро придуманного механизма, но такую целесообразность в живом организме, где она составляет сущность явления, можно только изучать. Гете не мог, не изменяя с одной стороны средним векам, а с другой условиям драмы, зачеркнуть чертей, представителей плотских стремлений. На том же основании не мог он отклонить целого ряда возносящихся духом аскетов и ангелов, представителей высших стремлений. Если мир Мефистофеля являлся миром отрицания, то мир святых является миром положения. По концепции целого, это естественно и просто. Но когда подумаем о художественных силах, необходимых для осуществления такой задачи, то всякое изумление и восторг немеют. Вспомним, что большинство гениальных творцов уклончиво обходили такую задачу даже по отношению к апофеозе земной любви.
Что же сказать о воспроизведении любви всеобъемлющей? Никто, кроме Гете, не осмелился бы подступиться к подобной задаче. И что же? Проникнувшись идеей всепримиряющего чувства любви, этого обратного конца всепожирающей воли, – любви, так сказать, утопающей в самоотречении, Гете, вместо того, чтобы удовольствоваться слабыми намеками на процесс духовного вознесения за женственно нежным, как бы сосредоточивает все лучи своего гения на этом моменте, давая возможность зрителю, так сказать, присутствовать при органической постепенности вечного прогресса. В хоре возносящихся грешниц появляется Гретхен.
С нашей точки зрения, мы в каждом художественном произведении видим индивидуальное проявление живой идеи. Художественный тип, таким образом, являясь личным, остается общим. Хлестаков, являясь знакомым нам Иваном Александровичем, остался представителем легионов. Если это относится до всех произведений искусства, то в «Фаусте» такая двойственность, кидаясь в глаза, составляет основное условие произведения.
В первой части искатель живой истины, не нашедший ее в науке и магии, потребовал ее от самой будничной жизни. Перед лицом невинной Гретхен он впервые почувствовал жар любовного умиления. Чистота и беспредельная любовь Гретхен пробудила нежнейшие струны человеческой души. Чувство к Гретхен было кульминационным пунктом личного Фауста. Гретхен на время спасла его от него самого, от его бесплодных поисков. Личный Фауст хоть на минуту познал женственно нежное и упал к ногам его. Конечно, слово женственный не должно здесь быть понимаемо в его ограниченном значении одного пола человеческого рода. Женственное стоит тут в смысле pulchritudo, красота, которая недаром женского рода. Привлекательная женственность красоты представляет вечный, сознательный или бессознательный мотив всякого творчества; в природе в виде весны, в животном и свободном искусстве в виде красоты. Надо преднамеренно закрыть глаза на окружающее, чтобы не видеть этого вечного Фауста. Нельзя не признать совершенной последовательности в женщинах, желающих всецело стать на почву мужского творчества (сущности мужчины) и восстающих в то же время на атрибуты женской красоты (женственной сущности). Равным образом Антиной уже не мужчина. Мы видели, так сказать, стихийную причину гибели Гретхен и нравственную причину ее спасения. Личный Фауст остался мужем желания. Но повторяем: куда девалась бы общечеловеческая драма, которую Гете прозрел в народном предании? Где выведение на свет, обещанное Господом?
Для личности самое дорогое – личность. А мы видели, что на всех жизненных путях: желать, искать, стремиться – значит ущерблять личность. Одно мистически-религиозное чувство представляет исключение. Только на этом пути всецелая личность отдается всецелому стремлению.
Вот причина его постоянного верховенства в развитии человеческого духа; вот причина завершения «Фауста» средневековой мистерией. Как в первой части Гретхен вызывает лучшую часть личного Фауста, так она, как представительница женственно-нежного, возносит за собой бессмертное человечество. Драма окончена. Фауст из мрака выведен на свет блестящий.
Мы успели указать на «Фауста» с нашей точки зрения, но уверены, что, как живой организм, он может служить поводом и источником всевозможных соображений и даже учений. Прибавим только, что углубленный во второй части в созерцание всеобъемлющего Фауста, Гете, хотя всюду и удержал личность своего героя, но нередко вынужден был условиями задачи отодвигать его на второй план, выдвигая на авансцену не саму историю человечества, а историю развития его духа. Он не мог, как в первой части, оставаться верным действительным событиям, а вынужден был, опираясь на действительные, но духовные события, находить для их воплощения очевидные события, хронологическое течение которых становилось уже на задний план. Теснимый ужасающей массой фактов, он вынужден был прибегать даже к воплощенным аллегориям, выводя, таким образом, сценическое действие из условий времени и места. Избежать этого было невозможно. Но такое насилие драматических условий не обошлось даром самому Гете. Он слишком хорошо понимал, что, желая быть кратким, т. е. выкидывая сцены, служащие лишь связью целого, он стал бы совершенно непонятным. И вот во избежание горацианского:
Brevis esse laboro
Obscurus fio[22 - Стремясь быть кратким, делаюсь темным (лат.).], –
он впадает в ту скучноватость, в которой та же «Ars Poetica»[23 - «Искусство Поэзии» (лат.).] упрекает Гомера:
Quandoque bonus dormitat Homerus[24 - Иногда и добрый наш Гомер дремлет (лат.).].
Подобно тому, как Гималайский хребет представляет крайний предел земных возвышенностей, «Фауст», и в особенности вторая его часть, выражает в искусстве крайний предел духовных поисков человечества. Желающий смотреть на жизнь с подобных высот не должен бояться холода.
То, в сущности, дух самых тех господ, –
лишь потому, что понятие, как достояние мозга, ни в чем ином существовать не может; тогда как платоновская идея – вещь необходимо проявляется в каждой особи, и задача искусства, вызывая в яркое освещение известную сторону явления, выставлять его идею более очевидным образом, чем она непосредственно раскрывается самой вещью. Верное подражание природе не составляет в этом случае главного средства к воспроизведению идеи. Последнее преимущественно зависит от помянутого привходящего освещения, как первого условия успеха. Выражение: «Каждый род хорош, кроме скучного» собственно значит: всякий предмет перестает быть бесплодным для искусства, когда озарен светом вдохновения. Попробуйте заговорить стихами о многом, о чем говорил Пушкин. Кто станет вас слушать? Самая преувеличенная карикатура, начерченная рукою мастера, может быть несравненно вернее идее оригинала, чем самый тщательный его фотограф. Сколько примеров тому, что тончайшие знатоки искусства, тщательно угадывая идею статуи с отбитыми членами, самым определенным образом указывали на мысль и повод ее зарождения, – и вдруг найденный не достававший член ее изменял все догадки, парализуя прежнее толкование. Несколько охотников, любуясь античным луврским кабаном, заслышавшим неприязненные звуки, могли бы, пожалуй, разыскивая в мраморе так называемые идеи художника, написать по интересной книге. Но в одном взгляде на кабана совмещаются все настоящие и будущие о нем суждения, и лишь потому, что художнику удалось вызвать из мрамора, так сказать, наикабаннейшего из всех кабанов.
Истина, как известно, является совпадением нашего представления или понятия с данным предметом. А как искусство есть воспроизведение нашего представления, а не самого понятия, то и истинность (реальность) искусства не есть безусловная верность будничной действительности. Мы видим красивую, вполне реальную руку; та же рука, совершенно измененная под микроскопом, никак не менее реальна, но, изваянная из мрамора, она преимущественно перед первыми двумя видами заслуживает название реальной, так как способна сохранить эту реальность тысячелетия, когда от первых не останется следа. До какой степени явления природы органической напрашиваются своею платоновской идеей, чувствовал уже Августин, говоря: «Растения предлагают нашим чувственным ощущениям различные свои формы, которыми так прекрасно видимое устройство этого мира, как бы желая, по-видимому, за невозможностью познавать, быть познаваемыми».
Сказанное утверждает нас в несомненной истине, что настоящий художник не задается первоначально какой-то отвлеченной идеей, для приискания ей соответственной формы, а что действительный прием творчества оказывается совершенно противоположным. Физический или умственный взор художника, падая случайно на известный предмет, при внезапном освещении последнего волшебным светом, провидит его вечную идею, и затем уже художник воспроизводит ее в пределах своего искусства. Этим объясняются и самые границы требований верности природе. Если мы эту верность станем понимать в смысле подражания, то она не выдержит ни малейшей критики. Можно ли в живописи – области двух измерений – подражать предметам трех измерений? Можно ли в неподвижной скульптуре подражать дышащим и движущимся организмам? И можно ли, наконец, мозаикой понятий, выражаемых отдельными словами, воспроизводить какое-либо нераздельное лицо или явление?
Если же от способа подражания мы перейдем к его сущности, то и тут легко заметим причину различия в понятии верности по отношению к миру действительности и к миру искусства. Припомнив, что художник представляет нам не сырой сколок с действительности, а ее отражение в его собственном волшебном фонаре, мы перестанем удивляться, что изображаемая им действительность нередко является действительностью только сна. Кто же имеет право возбранить спящему или мечтающему человеку видеть те или другие сны? Правило Горация[15 - Гораций (65 г. до н. э. – 8 г. до н. э.) – древнеримский поэт.] касательно несочетания разнородных членов в смешанное целое относится именно к тому, что перед художником не было определенной вещи, и он созерцание идеи ищет заменить механическим богатством форм. В противном случае поучение обращалось бы против самого Горация, у которого химеры, треглавый Цербер и всевозможные превращения на каждом шагу. Если так трудно уловить идею будничных образов, то какая сила творчества нужна для правдивого изображения фантастических явлений и превращений «Тысячи и одной ночи» или сказок Гофмана? Мы не хотим сказать, что художественная правда преимущественно состоит в неправде, а лишь, что независимо от будничной, она заключает в себе большую внутреннюю истинность, чем первая. Искусство не изменяет себе, воспроизводя человеческие сны или народные фантазии, ибо и здесь имеет дело не с понятиями, а с образами; художественная правда и тут остается верной образу, а не естественным наукам. Напрасно анатомия стала бы указывать на невозможность крыльев у льва с женской головой, или от пояса книзу мраморного принца. Эдип и Шехерезада говорят противное, а у Пушкина мы любуемся даже шестикрылым серафимом, заимствованным у пророков. Утверждать противное значило бы отвергать целый ряд гениальных произведений. Не лучше ли отвергнуть теорию, неспособную покрывать в своем предмете столь широкого поля. Истинный художник, вызывающий посредством волшебного фонаря первообраз предмета, должен руководствоваться его сущностью, а не случайной действительностью, как бы бесспорна она ни была. Его задача способствовать нам вступить в волшебное освещение, восхищающее наш дух, бегущий от мучений относительно реального к возможно прекрасному. Вызывая в портрете основную идею лица, художник не станет изображать сангвиника в ту минуту, когда флюс придает ему вид лимфатика, зная, что такая верность природе будет ложью в искусстве. И ложь, и правда не бывают без основания. Иногда трудно познать это основание, а иногда оно, коренясь в непосредственном чувстве и инстинкте, ярко выступает пред познанием. Так, например, красота низкого женского лба с глубокой древности инстинктивно чувствуется самими женщинами, которые в последнее время окончательно завешивают его до бровей волосами. Не удивительно, что эгоизм заставляет женщину нравиться в качестве женщины, а мужчину в качестве мужчины. Средство женщины, – красота, средство мужчины – телесная и умственная сила. Хранилищем последней является череп, и чем он обширней, тем большая умственная рекомендация. Преувеличивая на портрете лоб женщины, вы льстите ей как человеку и принижаете ее как женщину, и она справедливо негодует. Вы подчеркиваете в вашем Христе еврея, плотника, странника на счет царя и Господа, которого требует идея, и отгоняете алчущего вознестись в безотносительное, в ту же тесноту, от которой он уповал уйти. Ваша будничная правда становится в искусстве клеветой. Ведь искусство – праздник жизни, и последовательные пессимисты, не признающие праздников вообще, начиная с улучшенной пищи или жилища, будут правы, отвергнув всякое свободное искусство.
Упомянув о свободе искусства, не можем умолчать о свойствах этой свободы, еще раз указывающих на коренное отличие уличной идеи от художественной. В мире искусства повторяется тайна человеческой жизни. Умопостигаемая воля человека свободна, но индивидуальный человек – раб своей эмпирической воли. Не в нашей власти выдумывать себе волю… И если совершенно справедливо сказать: воля человека свободна, но сам человек не свободен, то не менее справедливо сказать: искусство свободно, но художник раб своего искусства. Достаточно привести стихи из «Онегина»:
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.
Ту же мысль приходилось нам слышать из уст самых могучих художников. Они не знали, что станут далее делать их герои и как выйдут из своего положения. Перейдем к поучительности. Поучение, в сущности, есть умственное сближение вполне по себе безразличных фактов с известным из него выводом. То и другое, будучи делом разума, никак не может заключаться во внешних фактах, способных быть лишь предметом бесконечных сближений и поучений. Так Парижская коммуна способна быть для одних поучением, как сжигать петролеумом дома и истреблять памятники истории и искусства, а для других, как избежать причин таких действий. Отрицать у искусства такого рода поучительность значило бы выдвигать его из области действительности, т. е. не признавать его существования. Для основателя буддизма, принца Шакьямуни[16 - Будда Шакьямуни (563 г. до н. э. – 483 г. до н. э.) – легендарный основатель буддизма.] случайная встреча с погребальной процессией была до того поучительна, что заставила его покинуть царский блеск для пустынножительства и проповеди. Но возможность поучения все-таки заключалась в нем, и нельзя утверждать, что появление смерти имеет целью научить одного Шакьямуни, так как обычно оно никого не поучает. Конечно, в ряду действительных явлений искусство по преимуществу поучительно уже потому, что сокращает нам наполовину доступ к идее предмета, озаряя его волшебным своим светом. Поэтому группа деревьев, которым художник, в смысле Августина, помог высказаться, гораздо поучительнее той же группы, не освещенной волшебным светом. Но, помимо главной цели, искусство при беспредельном своем запасе, невзирая на строгость своих границ, может нападать на содержание, имеющее внешнюю форму поучительности. С богатой мантии художника могут между прочими самоцветами спадать и алмазы поучений, в назидание желающим поднимать их; но превращать такие явления в цель искусства – то же, что утверждать, будто целью «Илиады» было научить греков энергически ругаться с противником. Психолог, политик, юноша, вступающий в жизнь, молодая девушка, актер и т. д. могут действительно найти в «Гамлете» драгоценные поучения, но не можем согласиться, что драма ставила их конечной целью.
Когда прирожденный художник в силу известных соображений и решается насиловать природу своего дела, начиная его не с созерцания, а с головной мысли, то зрелище выходит истинно поучительное. Личная головная мысль, способная произвести лишь мертворожденное, так и остается в одном заглавии, а сила творчества, овладев художником, ведет его своим путем, которым наглядно опровергается мысль заглавия. В этом случае мы не знаем более разительного примера, чем прекрасный рассказ графа Льва Толстого «Чем люди живы». Целых 8 цитат из посланий Иоанна указывают на любовь к ближнему, которой сам рассказ должен служить иллюстрацией. Всматриваясь в два самостоятельных факта, преднамеренно сближенных автором, мы видим, с одной стороны, что вся заслуга и значение поучений Иоанна в том, что, указывая людям на врожденное и общее у них со всей органической природой чувство любви, они напоминают им, что в будничной жизни люди слишком дозволяют гнетущим их обстоятельствам и собственным похотям заглушать это высокое чувство. Так что любовь к ближнему, как редкое исключение, как бы вовсе не существует между людьми. Зная, что вся природа, в том числе и человеческая, в силу вечных законов, живет чувством самосохранения особи, Иоанн рекомендует этой особи таящуюся в ней самой, высшую по значению, но нижайшую по мощи, силу братской любви, т. е. способность расширять свое я, свой эгоизм, как это явно в курице, идущей на бой с коршуном из-за цыплят. Этой рекомендацией Иоанн желает возвысить, но не изменить человеческую жизнь. Невзирая на свой платонизм, он не в силах закрыть глаз на ход человеческой жизни, – и знает, что последняя совершенно противоположна его высокому идеалу, осуществляемому лишь отрывочными, минутными проявлениями. Повторяю, в таком понимании и стремлении все значение проповеди апостола. С другой стороны мы видим художественный рассказ, вполне независимый от проповеди Иоанна, но, тем не менее, способный, рядом со всяким живым организмом, стать орудием не только поучения, но и целого ряда поучений. Читатель, привыкший наслаждаться художеством автора, и здесь отдался бы этому чувству, если бы его не смущали диссонансы, внесенные на этот раз преднамеренностью. Граф Толстой далеко не из людей, не владеющих словом. Всегда адекватное мысли, оно лишает нас возможности понимать его неточно. Поэтому, мы вынуждены, наравне со всеми, понимать заглавие «Чем люди живы» в смысле: вот основа и способ жизни людской. Или: если люди живы, то обязаны своим существованием попечению о них собратий. Предположим, что автор своим рассказом несомненно утвердил такое положение. В таком случае его рассказ являлся бы прямым опровержением апостола, на которого он ссылается. Если люди действительно искони живы (сущность человека неизменна) братской любовью, то слова Иоанна являются излишней рекомендацией вечно существующего. Кто серьезно станет учить людей дышать воздухом и враждовать? Уж если задаваться рассказом в подтверждение слов апостола, то надо выводить примеры тщетности таких поучений, чтобы сохранить за ними честь значительности.
Наслаждаясь произведениями графа Толстого, мы до сих пор ни разу не задавались розысками поучений. На этот раз автор сам побуждает нас к тому своим примером. Каково же по рассказу выходит это поучение? Воспользовавшись легендой, автор сообщает нам, что архангел Михаил, свергнутый Богом с неба за непослушание, спасен от замерзания бедным сапожником, у которого, выучившись в три дня ремеслу, он довел его до совершенства, доставившего хозяину известность и барыш.
Ангел предузнает смерть требовательного заказчика и, увидав женщину, выкормившую своим молоком, кроме собственного ребенка, двух сирот, получает прощение и возносится на небо. На земле он узнал три слова Господних: что есть в людях, чего не дано людям и чем люди живы? Непослушание ангела состояло в том, что он не вынул душу из больной, родившей двойню, но на земле он узнал, что у людей есть любовь, что люди не знают будущего, и что люди живы любовью к ним ближнего. Повторяем, если бы перед нами был чистый миф, то мы не стали бы искать в нем будничного здравого смысла. Но видя перед собой проповедь в рассказе, мы не можем не спросить: каким образом архангел, согрешивший неповиновением из-за любви матери к новорожденным, принужден был узнавать чувство любви на земле, как нечто ему совершенно незнакомое? Из легенды не видно, для кого важна истина незнания человеком будущего. Очевидно, не для людей, которые давным-давно поняли, что не только не знают будущего, но что им вообще не дано ни в чем истинного познания. Ясно, что ангел сходил на землю за этой истиной для себя; хотя странно, как он, зная о меньшем совершенстве людей, не догадался о деле по собственному незнанию будущего. Зная будущее, он не подпал бы под наказание. Но целью рассказа оказывается третья истина, послужившая заглавием: чем люди живы? Если бы в этой фразе были слова: иногда остаются, то и сам рассказ утратил бы свою тенденциозность, а слова апостола остались бы неприкосновенными. Между тем, оказывается, что работник Михаил «работает без разгиба, ест мало» – «и прошла слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник, Михайла. И стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться». Стало быть, и Семен, и случайно спасенный его любовью Михайла стали живы, подобно всем людям, трудом и трезвостью. Что любовью не проживешь, знает по опыту Матрена, у которой муж из любви к вину пропил холсты, и потому на здравый вопрос ее: «Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?» – «не знал Семен, что сказать». Женщина, выкормившая грудью троих, сама объясняет возможность такого дела: «Молода была, сильна была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются бывало». Следовательно, и женщина сама, а при ее посредстве и сироты живы остались, если не прямо трудом, то накопленным чужим трудом, – капиталом. Таким образом, головная сентенция осталась сентенцией, а художественная правда не только не дозволила автору оправдывать сентенцию рассказом, но и привела его к очевидному утверждению противоположного. Поневоле вспомнишь мудрый совет Козьмы Пруткова: «Когда в зоологическом саду на клетке носорога прочтешь надпись: буйвол, – не верь глазам своим».
Прослеживая шаг за шагом значительное по объему и громадное по содержанию произведение Гете, мы убеждаемся, что оно менее всего модное платье на вешалке предвзятого понятия в окне магазина поэзии. Гете не сочинял «Фауста» по правилам пиитики, а так сказать, наткнулся на готовый факт народной легенды и только при свете поэзии развил зачатки, лежавшие в легенде непосредственно.
Еще с двенадцатого века появилось множество людей, обманывавших толпу мнимым волшебством, которое объяснялось общением с дьяволом. Уже в XV столетии должен был существовать такой прославленный волшебник, принявший имя Фауста (Faustus – счастливый) так как в начале XVI века подобный площадной обманщик писался: Magister Georgius Sabellius – Фауст младший, второй маг, второй по предсказаниям по руке, по воздуху, по огню и по воде. Но главным носителем народного сказания является Иоанн Фауст (Фуст?) из Книтлингена (Кудлинга), земляк и знакомый Меланхтона, при котором около 1530 года проживал он некоторое время в Виттенберге. В 1525 году он выехал верхом на бочке из Ауербахова погреба в Лейпциге, как о том свидетельствуют там позднейшие картины и стихи. В сочинении виттенбергских теологов 1585 года много рассказано историй о Фаусте, мучительно умерщвленном дьяволом, после тщетной попытки волшебника обратиться снова к Богу. Два года спустя появилась во Франкфурте древнейшая книга о Фаусте: «Historia о Д. Иоанне Фаусте». Здесь уже указано на высокомерное стремление «к исследованию всех оснований на небе и на земле», как на причину, ввергнувшую Фауста в сети дьявола. Старейшая форма соблазнителя (одного из служителей сатаны) Мефистофель, от греческого «не любящий света», хотя само имя Мефистофель, подобно другим именам злых и добрых духов, происхождения ассирийского, откуда через посредство еврейской каббалы проникло в Европу. Мефистофелю Фауст за 24 года земных услуг записывает свою душу. На 23-м году договора Фауст требует у Мефистофеля греческую Елену, как сам он в Светлое Воскресенье показывал ее виттенбергским студентам. В начале последнего года он назначает своим наследником своего Фамулуса (помощника) – Христофа Вагнера (знаменитого в свою очередь волшебника), которому после своей смерти обещает прислать особенного духа Ауерхана (глухаря) в виде обезьяны.
В 1588 году в Тюбингене появилась в стихах история Фауста; а прозаическое ее распространение в 1591 и 1592 годах переведено на простонародный немецкий, датский, английский и французский языки – еще до исхода XVI века. По одним источникам время жизни Фауста относится к эпохе Карла V и Лютера, а по другим – Максимилиана I, перед которым он вызывает тень Александра Великого, с помощью Соломонова ключа (clavicula Salomonis)[17 - В приписываемой доктору Иоанну Фаусту волшебной книге (Zauberbuch) Мефистофель изображен на картине в виде черной собаки (примечание А. Фета).]. Уже в XVI столетии являются в Германии английские комедианты, игравшие на немецком языке. Таким образом «Doctor Faustus» Марло, вероятно, очень рано стал известен в Германии.
В 1626 году, 6 июля, англичане давали в Дрездене «Трагедию Д-ра Фауста». Склоняющийся попеременно к духам света и мрака Фауст у Марло близок к спасенью, но греховная связь с вызванной Мефистофелем призрачной Еленой окончательно губит Фауста. На творении Марло основана, вероятно, народная кукольная комедия, с которой Гёте с ранних лет мог познакомиться на Франкфуртской ярмарке. В кукольной комедии, кроме соблазнительного образа Елены, находится и полет на плаще в Константинополь, и таким образом, зародыш классической Вальпургиевой ночи и всех греческих сцен. Здесь же в минуты высочайших страданий Фауст ищет заступничества Святой Девы. Из истории возникновения гетевского «Фауста» видно, что поэт вынашивал идею трагедии с 1772 года по самую смерть свою в 1832 году, следовательно, в течение 60 лет.
Не у Гете, а у всех веков надо спрашивать, почему их постоянно пленяла безграничная гордыня непрестанных поисков и неизменной верности нравственным требованиям духа, до полного забвения личных интересов? Почему художественные образы таких людей, теряя под ногами местную и временную почву, становились выражением целого культурно-исторического типа? Так Иов является подобным типом восточного человека, Прометей – эллина и, наконец, Фауст – германца и вообще нового человека. Продолжая вопросы, мы могли бы спросить, почему во всех случаях человеческое сознание, насколько это допускали религиозные представления, приписывало, при драматическом раздвоении духа, терзания, испытываемые мужем желаний, враждебным, злым силам, – и удовлетворялось только окончательным возвращением такого борца к блаженству духовного равновесия? Только непреложные законы искусства способны отвечать на такие вопросы. Изображать неуловимые и разноречивые колебания человеческого духа едва ли удобно, в особенности в драме, которая, оставаясь верной наглядной действительности, была бы вынуждена совместить поэта Ленского и Мельмота-Онегина в одном лице. Сродство положения Иова с Фаустом не требует доказательств, так как на него указывает пролог первой части. Что же касается до Прометея, то и тут мучителем является не человек и не бог, а, за отсутствием духов зла, животный элемент в виде орла. И здесь дело не кончается простым терзанием богоборца. Миф был бы не закончен. Чувство высшей справедливости оставалось бы неудовлетворенным, и у Эсхила Геркулес освобождает Прометея, который становится сотрапезником олимпийцев. Возвращаемся к Фаусту. Легенда наивно представляет ученого волшебника, которому черт помогает, перенося его на коврах-самолетах, за какие услуги волшебник продал черту душу. Гете, слишком хорошо знавший и средства, и границы науки, не мог так наивно отнестись к преданию. Но при этом он ничего не выдумывал, а лишь ясно понял, что ученый и духовно ненасытный Фауст не стал бы никому, а тем более черту, продавать душу из-за детского желания покататься на ковре-самолете, или удовольствия изумлять чернь необыкновенными штуками. Фауст, убедившись в бессилии науки отвечать на капитальнейшие вопросы бытия, обращается от самих предметов познания к первоначальным силам природы, к стихийным силам, – и только узнав, что беседа с глазу на глаз с ними ему не под силу, с отчаяния, как бы махнув рукой на свое прошлое, вступает в союз с Мефистофелем, в той же надежде узнать истину. Испытав тщету усилий добраться до нее путем размышлений и науки, в которую так наивно верует ограниченный Вагнер, Фауст готов покончить с жизнью, потерявшей для него всякий смысл. Но непосредственный свет красоты, живой в душе всякого нормального человека, удерживает его, и затем разговор с Мефистофелем наводит его на иной путь. Ну, как истина-то скрывается в самой жизни, которую он до старости прозевал над книгами и ретортами? Почему бы с его светлым и отважным духом не поискать истины там? Но для такой школы нужна юность, и вот, при помощи Мефистофеля, он отправляется в кухню ведьмы. Оставаясь верным идее Фауста, Гете вынужден был, вопреки пословице «Si jeunesse savait, si viellesse pouvait[18 - Если бы молодость знала, а старость могла (фр.).]» – сочетать в Фаусте молодость с прежней ученостью и мудростью. Новость положения дозволяет Фаусту полагать, что его поиски принесут не те горькие плоды, какими жизнь питает заурядных людей. Между тем, жить и для Фауста, как для всей вселенной, значит: теснить другую жизнь. И вот, вопреки высоким рассуждениям о чистоте Гретхен, он не только губит безгранично преданную ему девушку, но доводит ее до детоубийства, сделав сперва орудием смерти брата и матери. В сцене темницы драма достигает вершины. Инстинктивный ужас смерти носится над обезумевшей Гретхен. Фауст протягивает ей руку внешнего, будничного спасения; но воля к жизни окончательно сокрушена в несчастной жертве чужой воли. Она прямо говорит:
Отсюда на вечный покой
И дальше ни шагу… –
как бы подтверждая смысл тютчевского:
Могу дышать, но жить уж не могу.
Она чувствует, что, даже избежав земного правосудия, она не избежала бы общественного и собственного суда.
Но великий художник не останавливается и на этом ярком озарении сокровеннейшей тайны жизни, когда представитель и истолкователь будничной цели причинности Мефистофель вполне логично восклицает: «Ей нет спасенья!» Голос свыше произносит свой суд: спасена, и этим словом единовременно вносит то чувство высшей справедливости, на которое мы указали в Иове и Прометее, и намекает на духовный путь искупления страданием и покаянием, на который указала христианская эра, в качестве нового слова. Призывом Мефистофеля «За мной!» кончается личная драма Фауста. Ни в науке, ни в магии, ни в будничной жизни не нашел он искомого удовлетворения. Обманутый, он не мог сказать мгновению: «Остановись!», и таким образом обманул до некоторой степени надежды Мефистофеля. Зритель не вправе требовать большего. Искусство, обращаясь к известной озаренной стороне предмета, не может в тот же момент смотреть на него с разных сторон. Глядя на Аполлона ящероубийцу[19 - «Аполлон, убивающий ящерицу» – выставленная в Лувре мраморная фигура нагого юноши рядом с деревом, по которому ползет ящерица (первые столетия Римской империи с утраченного бронзового оригинала).], никому в голову не приходит спросить, почему художник не представил его в то же время и на колеснице, и у овечьего стада?
Тем не менее, при размышлении над всечеловеческим типом Фауста, мы невольно задаемся вопросом: как же такой пытливый дух в своих поисках мог остановиться на тщете буржуазных отношений к прекрасному полу?
Неужели человеческая деятельность клином сошлась в этом единственном направлении, на исключительном поле малого света? Недаром в первой части Мефистофель говорит:
Посмотрим малый свет, посмотрим и большой.
Сама легенда указывает на посещение Фаустом императорского двора Максимилиана. Но такое посещение лишило бы первую часть художественной одноцентренности. Тем не менее, ширина самого типа, представшего художнику и разлившегося на все человечество, настоятельно требовала воспроизведения не внешних, исторических событий, а тех наисущественнейших нравственных, которыми обозначился ход общечеловеческого развития, насколько такое воспроизведение возможно в лице представшего типа. Невозможное для всякого другого является возможным для колоссального Гете. Нечего спорить о возможности, когда 2-я часть перед нами.
Но препятствия, превосходящие силу даже людей исключительных, не изменяют своей природы, и победа над ними не проходит даром. Мы справедливо изумляемся пловцу через Ламанш или 50-дневному постнику, но не удивляемся и известной болезненности, вытекающей из их подвигов. Победа Гете над своей мировой задачей не обошлась без изъянов в самом творении. Если, в силу драматических условий, Гете в 1-й части расколол своего героя на Фауста и Мефистофеля, введя Вагнера, крестьян, студентов, ведьм, Гретхен и т. д. и намекнув в Вальпургиевой ночи на большой свет, то, пускаясь в поиски по всей истории человеческого развития, он вынужден был наводнить сцену не только группами живых или мифических лиц, но даже аллегориями человеческих и природных сил. Ясно, что по мере наплыва разнородных личностей, фигура самого Фауста отодвигается на 2-й план, хотя нигде не изменяет своему основному типу.
Если никакими словами и невозможно заменить художественного произведения, то, прежде всего, необходимо понять его, и потому обращаемся к материальному содержанию 2-й части «Фауста».
Тяжкое сознание собственной вины не могло окончательно подавить всевопрошающего духа Фауста.
Возрождающая красота весны в лице Ариэля пробуждает в Фаусте энергию. Согласно легенде, он вступает в высший круг при дворе императора Максимилиана I[20 - Максимилиан I (1459–1519) – король Германии с 1486 г., император Священной Римской империи с 1508 г., реформатор государственных систем Германии и Австрии.], при особе которого Мефистофель ловко занимает место шута. Здесь Фауст лицом к лицу встречается с величайшим политическим разладом, доходящим до полного разложения государства, вследствие крайней ограниченности эгоистических стремлений правительственных лиц и склонности молодого монарха к пышности и развлечениям. Бесконечно добрый император не прочь от благодетельных, по его мнению, реформ, которые, не захватывая, однако, сущности вещей, ограничиваются формальными перетасовками, передающими дело в те же самые неспособные руки. Не будучи в силах понять причины зла в его корне, правители, тем не менее, ясно понимают его наглядность, выражающуюся отсутствием денег. Ехидный Мефистофель видит удобный случай к злобной штуке. Зная, что обилие денег служит только внешним выражением соответствия продуктивности страны с ее же потребностями и затратами, он, вместо того, чтобы указать на способ восстановления нарушенного равновесия, указывает на минутную пальятиву[21 - Пальятив (лат.) – временная помощь, срочная, но не исцеляющая помощь.] в виде внутреннего займа, – в форме ассигнаций. Он хорошо знает, что всякий новый долг только ухудшает, а не улучшает дело. Таким образом, Фауст имеет случай наглядно убедиться в невозможности со стороны одного частного лица достигнуть в области политики народного блага. Та же основная истина выражается и маскарадною шуткою, в которой император, в образе великого Пана, увлекаемый нимфами и фавнами в беззаботную веселость, присутствует при волшебном наделении Фаустом, в костюме Плутоса, всех эфемерным богатством, причем также призрачно от вскипевшего золота погибает весь маскарад, представляющий целое государство. Но так как волшебнику Фаусту достаточно было аллегорически указать на горестные последствия беззаветных забав, то он магически восстанавливает все сгоревшее. Легенда говорит, что пресыщенный удовольствиями император требовал от Фауста, чтобы тот в Инсбрук вызвал ему тень Александра Великого и его супруги. Но не только Гете, но и предшественник Шекспира – Марло, в своей драме «Фауст», заменил Александра Македонского – Еленой и Парисом. На народном кукольном театре Фауст тоже обнимает чертовскую Елену, которая в его объятиях превращается в отвратительную змею. Когда Фауст за разрешением такой трудной задачи обращается к Мефистофелю, то последний, состоя в качестве духа отрицания в оппозиции к истинно прекрасным, вынуждает признаться в своем бессилии над героическими образами. Чтобы вызвать их на свет, Фауст должен сам низойти к матерям, чем намекается, что прирожденную идею прекрасного человек может отыскать только в глубине собственного духа. В присутствии императора и всего двора Фауст в одежде жреца «искусства» возникает из-под земли с магическим треножником, выведенным из царства матерей – (идей). Вызвав призрак Елены, он, до забвения роли жреца, увлекается ее идеальной красотою и, в ревности бросившись на Париса, касается его своим волшебным ключом. Но так как невозможно под влиянием личной страсти удержать образа, вызванного объективным художественным вдохновением, то за насилием волшебного ключа следует страшный взрыв. Елена и Парис исчезают, и Мефистофель с насмешкою уносит оглушенного и собою не владеющего жреца Фауста. Во втором акте влюбленный Фауст вынужден проникнуть сам в идеальный мир греческого искусства, чтобы овладеть действительною тенью Елены, которой в первом акте он видел лишь призрак.
Неудержимое стремление Фауста к идеальной красоте, выражает Гомункул, освещающий своим интеллигентным фонарем дорогу в классическую Вальпургиеву ночь. Хотя тупоумный Вагнер и воображает, что в своей лаборатории изготовил химическим путем разумного человечка, но оказывается, что, так сказать, отвлеченно разумный человек, жаждущий окончательно произойти в человека, засажен в реторту тем же Мефистофелем, как новое олицетворение художественного стремления Фауста.
Если для ширины картины Гете был вынужден в первой части, независимо от характеристического сборища колдунов на Брокене, привести в Вальпургиевой ночи силуэты многоразличных гражданских и художественных деятелей, то классическая Вальпургиева ночь является во второй части уже не только роскошной прихотью художника, но неизбежным требованием самой трагедии, как со стороны наглядного уяснения постепенности развития античного культа, так и в видах приобретения фактической почвы для драматического сближения искательного Фауста с идеальною Еленою. Отсутствие злых духов в античном мире представляло громадные затруднения для воспроизведения классического подобия средневекового Брокена, но и тут глубокое знакомство с древним миром выручило великого художника. Мы видим, что Фауст, в Вальпургиевой ночи, проходит между образами греческого искусства, начиная с самых грубых до самых окончательно прекрасных, но, не находя нигде Елены. Он при помощи Персефоны вынужден сам искать ее в подземном мире. Гнусному Мефистофелю приходится держаться среди греческих мифов наиболее звероподобных и безобразных, так что под конец он принимает вид гнуснейших из форкиад. Следя в своей картине за развитием грубых зачатков искусства в высшие формы, Гете не мог удержаться от сближения такого постепенного возрастания с учением нептунизма, причем не щадил вулканизма стрелами своей сатиры.
В третьем акте является действительный союз Фауста с Еленой. Персефона дозволила Фаусту вызвать Елену, но, по-видимому, строго обозначила положение, в котором она должна снова появиться на свет, т. е. по возвращении из Трои, в собственном дворце в Спарте, откуда только угрозы Мефистофеля-форкиады по поводу намерения мстительного Менелая принести виновную Елену в жертву богам склоняют последнюю искать, при помощи того же Мефистофеля, убежища в средневековом неприступном замке Фауста, обладающего многочисленным войском и храбрыми предводителями. Такая концепция дает Гете полную возможность с первой строки третьего акта ввести нас в самобытный по своему внутреннему и внешнему строю мир античной драмы. Размеры античного драматического стиха, расположение хоров, со строфами, антистрофами и эподами вполне переносят нас в трагедию Софокла. Мы в Древней Греции, которую, по-видимому, только случайное историческое потрясение могло заставить незаметно перейти в жизнь и дух новых народов без утраты своей типической красоты. Такое потрясение воспроизведено в нашей драме в образе роковых угроз Мефистофел-форкиады, а самый переход художественной формы из античной в средневековую наглядно и прелестно воплощен в сцене, в которой Фауст учит Елену говорить рифмами.
Плодом сближения средневекового Фауста с классической Еленой является Эвфорион, коего имя Гете заимствовал из позднейшего греческого сказания о крылатом сыне Ахиллеса и Елены. Верный необузданной стремительности пытливого отца, мальчик, срываясь с колен матери, подымается все выше и выше по скалам и наконец, считая себя крылатым, падает мертвый к ногам родителей. Вот что об этой сцене говорит Дюнцер: «Эта первоначально не предполагавшаяся вставка смерти Эвфориона может быть объяснена только делающим честь поэту, но здесь неуместно осуществленным намерением почтить память могучего саморазрушительного поэтического стремления Байрона». Не входя в исторический разбор повода появления этой сцены, мы не можем согласиться с Дюнцером насчет ее неуместности. Байрон действительно является не только вершиной, возрожденной под влиянием греков европейской поэзии, но и родоначальником того разнузданного романтизма, которого образцом может служить Гюго. Мы не говорим уже о беззаветном духе свободы, самовластно попирающем и нравы, и закон, в чем Гете не преминул, среди похвал, упрекнуть Байрона; но нельзя не признать, что сама беззаветность форм и приемов байронизма, заключая в себе, между прочим, и протест против вековечных законов греческого искусства, равняется самоубийству поэзии в припадке безграничного стремления. Дальнейший исторический ход поэзии подтверждает истину пророческой аллегории. На новейшем поэтическом горизонте только те звезды сверкают чистой поэзией, которые ближе к Елене, чем к романтическому Эвфориону. Но и этого мало. Когда мы оглянемся на весь ход развития основной идеи трагедии, то придем к убеждению в художественной необходимости заключения третьего акта смертью Эвфориона и исчезновением самой Елены.
Человечество в типе Фауста, не удовлетворившись в области политики, ищет удовлетворения в области свободного искусства. Для наглядного изображения такого поиска Фауст появляется в образе жреца искусства. Но мы не должны забывать, что такое появление – только исторический момент. Сам Фауст, покоренный основе типа, не муж науки, политики или искусства, а муж желаний, попеременно ищущих удовлетворения то в той, то в другой сфере. Все человечество в совокупности лишь тот же муж желаний. Заставить Фауста удовлетвориться областью прекрасного значило бы не только окончить трагедию третьим актом, но и возвести на человечество нелепую клевету, будто бы оно в одном искусстве находит окончательное удовлетворение всех стремлений. Между тем в конце третьего акта мы узнаем, что видимые эмблемы поэзии, плащ и лира, служат для художников, бессильных подняться на высоту байроновской гениальности, только поводом к зависти и цеховому раздору. Такое грустное извращение возвышенного в низкое, конечно, не может удовлетворить человечества. Фауст пускается в новые поиски.
В начале четвертого акта мы видим Фауста, перенесенным облаком на уступ скалы, причем облако, отделяясь от него, уносится в виду колоссальных изваяний, напоминающих высокие идеалы искусства и чистой любви, двух сил, столь мощно захвативших и очистивших все его существо со времени его сближения с Мефистофелем. Фауст появляется до того исцеленным от страстных увлечений, что ищет счастья лишь в разумном развитии силы и целесообразной деятельности. Свое нерасположение ко всякому насильственному развитию он тотчас же высказывает перед собеседниками отвращением к учению вулканистов. Мефистофель, не имеющий о действительном стремлении Фауста никакого понятия, все надеется, по своей ограниченной односторонности, увлечь его в область низменных похотей и выиграть заклад. Своими предположениями об идеалах Фауста он высказывает свою неспособность понять его. Между тем, Фауст пришел к убеждению, что на земле достаточно места для великих дел, к совершению которых он чувствует в себе силу. Борьба с морем, коего необузданности он желает положить преграду, далеко ворвавшись в его область, возбуждает в нем отвагу. Дикие стихии, бессмысленно разрушающие плоды человеческих усилий, составляя прямую противоположность с обдуманною преднамеренностью окрепшего духом Фауста, вызывают его на открытый бой. Мефистофель, не обязанный понимать стремлений Фауста, должен, по договору, только быть его слугой, рабом. И вот он указывает на кратчайший путь к цели при благоприятных обстоятельствах. Оказывается, что в данную минуту император, обогащенный в первом акте призрачными ассигнациями, идет войной на анти-императора. Если Фауст с Мефистофелем силою чар помогут победе императора, то Фауст получит желанное прибрежье. Фауст, при всем отвращении к войне, соглашается, частью из сожаления к императору, частью в ожидании прибрежья. Тщетно Мефистофель возбуждает в нем воинственное тщеславие, предлагая ему военачальство. При помощи чар анти-император разбит, и единодержавие восстановлено. Император сознает необходимость заняться устройством порядка, но здесь-то именно ярко выступает коренное различие между всецелым беззаветным стремлением Фауста ко благу и головным к нему стремлением императора. Первый ошибается и тотчас же оставляет предмет минутного удовлетворения для новых поисков блага, а второй только головой ищет блага, а всем существом (эмпирическим характером) льнет к удовольствиям. При громких фразах о реформах, он сводит их на передачу придворных и государственных должностей тому же неспособному кружку, который уже привел государство на край гибели. Этого мало. Расширением феодальных прав этого кружка добрый император окончательно обессиливает монархический принцип, из-за которого только что сражался. Вновь подкупленный дорогим его душе блеском, он уже забыл, что все его придворные, начиная с главнокомандующего, бежали в минуту опасности, и что спасением он обязан не им и не себе, а случайному вмешательству волшебства.
Пятый акт представляет нам Фауста, достигнувшим грандиозной цели: победы над стихией. Трудом и искусством он вырвал громадную полосу земли у бесплодного моря; победил не преходящего, как сам он, человека, а вечную стихию. Совершенной противоположностью титаническому его стремлению является идиллически-добродушная пара под именами Филемона и Бавкиды. Поставивши на этот раз своей целью чувство власти и собственности, Фауст естественно чувствует себя стесненным присутствием близ центра своего владычества, хотя и прекрасного, но вполне чуждого элемента. В оправдание такого чувства, он старается уверить себя, что возвышение, на котором стоит хижина стариков, окруженная вековыми липами, необходимо ему для обзора владений. Великодушный, но страстный, он не хочет понять, что насильственный обмен, независимо от стоимости вещей, составляет сам по себе нарушение чужого права. Мефистофель, и тут подстрекающий его на нечистое дело, под конец цинически доносит ему о насильственной смерти стариков и защищавшего их гостя. Фауст, снова достигнув цели, проклинает и грубое насилие исполнителей, и деятельность, в которой благо одних неразрывно со злом для других. В минуту раскаяния он задается высшей и благороднейшей на земле целью: увеличения благосостояния людей без нарушения чьих-либо личных прав. Желая посредством канализации оздоровить громадное зараженное пространство, он мечтает о тех счастливых тружениках, которым из поколения в поколение доставит средства существования. Конечно, такой громадный труд связан с заботою. Олицетворенная забота лишает престарелого Фауста зрения. Но он, и ослепнув, блаженствует, предвкушая создаваемое им благо. Духовными очами предвидит он минуту, когда может сказать мгновенью: «Остановись! Прекрасно ты». На этой мечте застигает его смерть, и Мефистофель уже воображает свое двойное торжество. Он до конца служил прихотям Фауста, и смерть застигла Фауста на слове: остановись! Радостно скликает Мефистофель разнокалиберных чертей хватать душу Фауста, когда она порхнет из тела. Он не понимает, что ему, Мефистофелю, ни разу не удалось свести Фауста «до низменных кругов», и что хвастливые слова его перед Господом: «Он пыли всласть же насосется» не оправдались. От разгула Фауст отвернулся в ауербаховом погребе, у Гретхен увлекся духовной прелестью гармонической души, а политика, искусство, война, власть и деятельность на благо человечества и подавно составляют предметы духовных, а не плотских вожделений. В минуту кончины Фауста хитрец Мефистофель не догадывается, что ему придется устыдиться перед лицом Господним. Фауст, подобно Иову и Прометею, вышел чистым из искушений.
Нравственное чувство и простой смысл драмы требовал конца. Этим концом является мистическая апофеоза, в которой перед зрителями исполняется обещанный вывод высокого, хотя и заблудшего духа, окончательно на свет блестящий.
Художественный образ Фауста не потому только велик, что является носителем всех высоких человеческих стремлений, а главное потому, что запросы человеческого духа, в высшей его потенции, не вмещаются без остатка ни в какие земные задачи. Причина этого очевидна. Человек, прежде всего, лицо. А всякая деятельность, по мере своего совершенства, стремится к принижению, уничтожению личности. Совершенство простого рабочего и величайшего художника или полководца растет обратно пропорционально его самоличности. Чем менее он личен, тем совершеннее как специалист. Есть Венера Милосская, Гамлет, Ватерлоо; ни скульптора, ни Шекспира, ни Веллингтона тут нет, а есть творцы, повернувшиеся одной стороной к делу. Вот причина, почему вслед за достигнутой целью личность требует своих прав и чувствует себя неудовлетворенной. Смерть, застигнувшая Фауста на мечте о благе, независимо от чужих страданий, как бы указала, что такая задача на земле возможна лишь как стремление. Можно справедливо изумляться целесообразности частей хитро придуманного механизма, но такую целесообразность в живом организме, где она составляет сущность явления, можно только изучать. Гете не мог, не изменяя с одной стороны средним векам, а с другой условиям драмы, зачеркнуть чертей, представителей плотских стремлений. На том же основании не мог он отклонить целого ряда возносящихся духом аскетов и ангелов, представителей высших стремлений. Если мир Мефистофеля являлся миром отрицания, то мир святых является миром положения. По концепции целого, это естественно и просто. Но когда подумаем о художественных силах, необходимых для осуществления такой задачи, то всякое изумление и восторг немеют. Вспомним, что большинство гениальных творцов уклончиво обходили такую задачу даже по отношению к апофеозе земной любви.
Что же сказать о воспроизведении любви всеобъемлющей? Никто, кроме Гете, не осмелился бы подступиться к подобной задаче. И что же? Проникнувшись идеей всепримиряющего чувства любви, этого обратного конца всепожирающей воли, – любви, так сказать, утопающей в самоотречении, Гете, вместо того, чтобы удовольствоваться слабыми намеками на процесс духовного вознесения за женственно нежным, как бы сосредоточивает все лучи своего гения на этом моменте, давая возможность зрителю, так сказать, присутствовать при органической постепенности вечного прогресса. В хоре возносящихся грешниц появляется Гретхен.
С нашей точки зрения, мы в каждом художественном произведении видим индивидуальное проявление живой идеи. Художественный тип, таким образом, являясь личным, остается общим. Хлестаков, являясь знакомым нам Иваном Александровичем, остался представителем легионов. Если это относится до всех произведений искусства, то в «Фаусте» такая двойственность, кидаясь в глаза, составляет основное условие произведения.
В первой части искатель живой истины, не нашедший ее в науке и магии, потребовал ее от самой будничной жизни. Перед лицом невинной Гретхен он впервые почувствовал жар любовного умиления. Чистота и беспредельная любовь Гретхен пробудила нежнейшие струны человеческой души. Чувство к Гретхен было кульминационным пунктом личного Фауста. Гретхен на время спасла его от него самого, от его бесплодных поисков. Личный Фауст хоть на минуту познал женственно нежное и упал к ногам его. Конечно, слово женственный не должно здесь быть понимаемо в его ограниченном значении одного пола человеческого рода. Женственное стоит тут в смысле pulchritudo, красота, которая недаром женского рода. Привлекательная женственность красоты представляет вечный, сознательный или бессознательный мотив всякого творчества; в природе в виде весны, в животном и свободном искусстве в виде красоты. Надо преднамеренно закрыть глаза на окружающее, чтобы не видеть этого вечного Фауста. Нельзя не признать совершенной последовательности в женщинах, желающих всецело стать на почву мужского творчества (сущности мужчины) и восстающих в то же время на атрибуты женской красоты (женственной сущности). Равным образом Антиной уже не мужчина. Мы видели, так сказать, стихийную причину гибели Гретхен и нравственную причину ее спасения. Личный Фауст остался мужем желания. Но повторяем: куда девалась бы общечеловеческая драма, которую Гете прозрел в народном предании? Где выведение на свет, обещанное Господом?
Для личности самое дорогое – личность. А мы видели, что на всех жизненных путях: желать, искать, стремиться – значит ущерблять личность. Одно мистически-религиозное чувство представляет исключение. Только на этом пути всецелая личность отдается всецелому стремлению.
Вот причина его постоянного верховенства в развитии человеческого духа; вот причина завершения «Фауста» средневековой мистерией. Как в первой части Гретхен вызывает лучшую часть личного Фауста, так она, как представительница женственно-нежного, возносит за собой бессмертное человечество. Драма окончена. Фауст из мрака выведен на свет блестящий.
Мы успели указать на «Фауста» с нашей точки зрения, но уверены, что, как живой организм, он может служить поводом и источником всевозможных соображений и даже учений. Прибавим только, что углубленный во второй части в созерцание всеобъемлющего Фауста, Гете, хотя всюду и удержал личность своего героя, но нередко вынужден был условиями задачи отодвигать его на второй план, выдвигая на авансцену не саму историю человечества, а историю развития его духа. Он не мог, как в первой части, оставаться верным действительным событиям, а вынужден был, опираясь на действительные, но духовные события, находить для их воплощения очевидные события, хронологическое течение которых становилось уже на задний план. Теснимый ужасающей массой фактов, он вынужден был прибегать даже к воплощенным аллегориям, выводя, таким образом, сценическое действие из условий времени и места. Избежать этого было невозможно. Но такое насилие драматических условий не обошлось даром самому Гете. Он слишком хорошо понимал, что, желая быть кратким, т. е. выкидывая сцены, служащие лишь связью целого, он стал бы совершенно непонятным. И вот во избежание горацианского:
Brevis esse laboro
Obscurus fio[22 - Стремясь быть кратким, делаюсь темным (лат.).], –
он впадает в ту скучноватость, в которой та же «Ars Poetica»[23 - «Искусство Поэзии» (лат.).] упрекает Гомера:
Quandoque bonus dormitat Homerus[24 - Иногда и добрый наш Гомер дремлет (лат.).].
Подобно тому, как Гималайский хребет представляет крайний предел земных возвышенностей, «Фауст», и в особенности вторая его часть, выражает в искусстве крайний предел духовных поисков человечества. Желающий смотреть на жизнь с подобных высот не должен бояться холода.