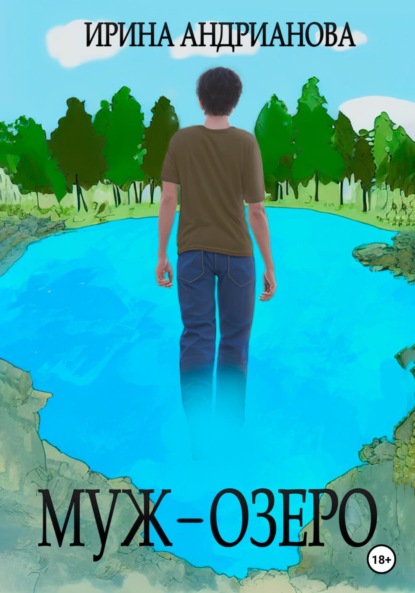По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муж-озеро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, понятно, в итоге вы дорогу найдете. Вариантов нет. Но проплутаете конкретно и из графика выйдете. У вас же типа категорийный поход, все серьезно. Не то что мы вышли погулять и водки выпить, – он переглянулся с Ионом и усмехнулся, – но, скажем, если не пройдем, не очень обидимся. А вы-то – другое дело.
Удивление на лице Сереги сменилось живым интересом. Убедившись, что его правильно поняли, Ярик продолжил.
– Короче, мы вот что придумали. Мы же идем вниз. Можем обойтись и без штурмана. Отдадим-ка мы его вам. – Он кивнул на Иона. – Еды ему с собой дадим. Так что не бойтесь, он вас не объест, хе-хе. А заодно на перевал приведет.
Серегина группа в изумлении переглядывалась. Таких чудес прежде никому встречать не приходилось. Самым невероятным было то, что вчера перед сном – Танюша этого не слыхала, она уже лежала в шатре – их штурман Игорек в шутку сказал Сереге, что хорошо бы, мол, Ярик им кого-нибудь из своих бойцов отрядил – довести до перевала. А что? Им же по прямой до самой станции, рюкзаки полупустые. Зачем им так много мужиков? Пускай поделятся… Насчет своих навигационных способностей и у Игорька, и у Сереги были некоторые сомнения. Так уж вышло, что оба оказались в этом районе впервые. Надеялись на чужие лыжни. А тут на тебе – снегопад. Нет, понятно, они не пропадут. Потыкаются туда, сунутся сюда. В конце концов, просто спустятся назад и перейдут в соседнюю долину, где продолжается маршрут. Но этого полукольца с тремя перевалами у них не будет, а значит, не будет и необходимых «технических препятствий» для спортивной категории, заявленной в маршрутной книжке. То есть «тройку» уже не засчитают. Это, конечно, тоже не смертельно. Не засчитают «тройку» – будет «двойка», на категорию ниже, что тоже ничего. Но все-таки, конечно, обидно. Ведь три месяца готовились. Тренировались сколько. Чтобы из-за какого-то паршивого снегопада все сорвалось.
И вот сейчас этот степенный, рассудительный Ярик слово в слово повторил все их вчерашние шутки! Только повторил совершенно всерьез. Это было невероятно. Серега растерянно хлопал глазами, не зная, что сказать, и оглядывался то на Игорька, то на ремонтника Данилу. Конечно, надо было сразу соглашаться. Но все-таки…
– Ну это… неожиданно, конечно. – Он откашлялся. – Идея-то, вобщем, неплохая. Но… А ты, Ионыч, не устал разве по лесам-то шляться? Неужели в баню не хочется, в магазин? – спросил он для вида.
– Я? Да я наоборот. Как подумаю, что надо в цивилизацию возвращаться, так такая тоска берет, что чуть один назад в горы не сбежал. – Ион просиял. – А тут такой повод нашелся. Можно сказать, мне с вами повезло. Если, конечно, местечко в шатре найдется.
Серега, Игорек, а следом и вся группа с готовностью закивали.
– Да-да, найдется, о чем разговор!
– Ну и отлично. Доведу, значит, вас до Каменного, и покажу спуск на Обманчивый. Дальше уже разберетесь, там все ясно. А сам назад пойду.
– Билетов на поезд у него все равно еще нет, дома прошляпил купить, – Ярик покровительственно хлопнул Иона по спине. – Ни к чему не привязан, вольная птица! А штурман он правда отличный. Всю дорогу нас вел без проблем.
Похвала была явно излишней, потому что Серега с Игорьком и так едва верили своей удаче. Но пришлось поверить. Вперед выступила Марианна – она была в их группе завхозом.
– Ребят, насчет его еды. Подарок подарком, а ведь он живой, его кормить нужно. – Она лукаво подмигнула Иону. – Вобщем, мы ему выгружаем полкило перловки, полкило пшенички и бо-ольшой мешок сухарей. Все равно нам их девать некуда, лишние остались.
Девушки в обеих группах захихикали, парни сдержанно заулыбались.
– Но вы это, не думайте, что нам не жалко с ним расставаться, – перебила другая девушка, симпатичная толстушка Женя. – Он у нас сущий ангел. Без него мужики давно бы все передрались.
– Ага, еле сдерживались, – поддакнул Ярик.
– А теперь не передерутся? – усмехнулся Серега.
– Три дня до выхода осталось, не успеют. – Марианна улыбнулась, став еще красивее. – Но вы там берегите нашего Ионушку. Мы вам его не насовсем отдаем, а напрокат.
– А почем день проката будет?
– У нас денег-то хватит?
Все снова засмеялись. Ион тем временем прощался с товарищами: с парнями – рукопожатием и похлопыванием, с девушками – объятием и поцелуем в щечку. Танюша судорожно вздохнула. Кажется, в продолжение всего разговора она не дышала, боясь спугнуть нежданное счастье. Неужели это чудо с карими глазами, с чуть сросшимися на переносице бровями, с выбившейся из-под шапки черной кудрей и со всегдашней лучезарной улыбкой взаправду пойдет с ними по маршруту? Он не исчезнет за поворотом лыжни, не растворится навсегда в прошлом, а будет рядом еще целых три дня? Это же сказка! Ион, Иончик, Ионушка! Спасибо, милый лес, спасибо тебе! – повторяла она. Танюша, хоть и неосознанно, верила, что все это – благодарный подарок леса, который она так любит, который оберегает и убирает от мусора. Нигде в другом месте такого случиться не могло. В городах действуют неколебимые рациональные законы, по которым никаких чудес никаким танюшам не положено. Чудеса возможны только здесь. …Целых три дня, боже! Это же так много. Здесь, в покрытых еловой шерстью северных горах, это целая вечность. Как минимум, целая жизнь. Можно даже не думать, что будет потом. Танюша и не думала. Она краем уха слушала, как девчонки хвалят Иона, как наперебой виснут на нем, ничуть не стесняясь, словно он был не молодой красивый мужчина, а их лучшая подружка. Ион в ответ краснел и отшучивался. Еще вчера Танюше было бы больно смотреть на это. Но сегодня она торжествовала: ведь и красавица Марианна, и просто симпатичные Женя с Катей скоро исчезнут из поля его зрения – хотя бы на время. А может, и надолго, до следующего похода: не похоже, чтобы у него были близкие отношения с кем-то из них. Иначе бы он не стал так легко менять их на лишние три дня в горах.
Танюша ни за что не осмелилась бы признаться себе, что надеется сама привлечь его внимание. Эта надежда, будь она явной, выглядела бы наглостью и почти кощунством, и Танюша бы сгорела от стыда. Во-первых, потому, что в ее группе были и другие женщины – пусть не такие яркие, как Марианна, но в сравнении с Танюшей – почти красавицы. А во-вторых – и это было самым главным – Танюша знала, что не имела права быть любимой и счастливой. Она поняла это давно, много лет назад. Тогда, после краткого расцвета в ранней юности (в ту пору на нее вдруг ненадолго стали обращать внимание мужчины, и это дало повод к обманчивым надеждам) вдруг все разом оборвалось, будто ухнуло в пропасть. С тех пор на нее словно опустилась колдовская пелена: как женщина, она стала невидимой для мужской части человечества. Можно было бы счесть это кокетливой жалобой, жаждущей того, чтобы ее опровергли, но Танюша никому не жаловалась – в том числе и по этой причине. Просто она знала, что обречена быть невидимкой, и этого было довольно. Почему, кто выбрал для нее на столь незавидную участь, было тайной. Пожалуй, она предпочла бы, чтобы это и впрямь был кто-то высший, а не слепая судьба, потому что в первом случае можно было бы утешиться, что следуешь высшему промыслу, а не просто бессмысленно влачишь никому не нужную жизнь. Ей было тридцать семь лет, и за все годы, истекшие с того самого недолгого расцвета, никто, ни одна живая душа, заключенная в столь желанное ею тело мужского пола, не захотело увидеть в ней желанное женское тело. Нет-нет, ее многие ценили и с ней дружили, о ее существовании многие помнили и то и дело приглашали ее в новые походы, но никто и никогда больше не оказывал ей того внимания, простого и банального, которого так жаждет женщина и которое и делает ее женщиной. То, что Танюша – тоже женщина, знала лишь она сама, да и то потому, что таила в душе сладкие воспоминания о недолгих юношеских успехах. Все прочие видели в ней просто Танюшу – точку в пространстве с определенным набором функций и личностных качеств, местами полезных, местами забавных, но всегда привычных, как знакомая стоянка в лесу. И – ничего больше. Танюша знала это и лишь горько гадала, чем же накликала себе такую судьбу. Мужчин вокруг было еще достаточно, ровесников Танюши еще не начала выкашивать преждевременная смертность, которая обычно приходит после сорока. Да и сама она не имела физических уродств, и гордо могла называть себя просто «обыкновенной» (впрочем, это как раз тот тип женщин, сквозь которых мужской взгляд проходит, как нож сквозь масло, не задерживаясь; быть уродиной где-то даже выгодней). Наконец, долго мучаясь догадками, Танюша решила, что попросту наказана за гордыню: она слишком переоценила спрос на себя в ранней юности, и за этот-то грех Бог наградил ее вечным одиночеством. Право, было отчего загордиться: шутка ли, в период с семнадцати и до девятнадцати лет с ней пожелали познакомиться в общей сложности не менее пяти лиц мужского пола! И хотя в большинстве случаев дело ограничивалось дежурным флиртом, которым опытный самец встречает любую молоденькую женскую особь, юная и неопытная Танюша успела преисполниться чувством собственной значимости. Она самодовольно подсчитывала оказанные ей знаки внимания, грелась в лучах обманчивого северного солнышка и ждала, когда же перед ней распахнуться ворота настоящей любовной сказки, где она будет главной героиней.
Но ничего не случилось. Солнце закатилось, немногочисленные мужчины исчезли, как вечерние тени, и Танюша осталась одна посреди жизни, как кем-то оброненная и забытая вещь. Единственный человек, хоть как-то оправдывавший ее существование, была ее пожилая мать; не раз потом Танюша в душе кляла ее за то, что та породила одиночество, хотя потом и всячески ругала себя за эти греховные мысли (впрочем, не слишком искренне). И вроде бы она была не единственной одинокой женщиной на свете, но у нее не получалось успокоиться и жить, как другие старые девы – спокойно и достойно, благодарная принимая каждую маленькую радость, что давала им судьба. Увы, она была одержима своим несчастьем, одержима недоступным ей мужским вниманием (ценность которого, вероятно, переоценивала – так она думала, и тоже неискренне), а потому вкупе ко всему чувствовала унижение и стыд – как за то, что оказалась никому не нужной, так и за то, что страдает из-за этого. Пытаясь приподняться над унижением, она придумывала всевозможные теории, сводившиеся к тому, что на свете просто слишком много женщин, а мужчин – чудесных, волшебных существ – слишком мало, и поэтому самым блеклым женщинам (а она, увы, была именно такой, и все больше блекла с каждым днем) по определению не должно доставаться ничего. Но рассуждения не спасали от тоски, потому что они были не холодно-разумными, а жалкими и слезливыми. Она была не самой глупой и понимала, что страдает, в первую очередь, от невероятно раздутых ожиданий, которые непомерны даже для харизматичной красавицы, а уж тем более для серой мыши. Прекрасная Марианна ждет от жизни гораздо меньше, чем она, и потому получает гораздо больше, справедливо рассуждала Танюша. Однако и мудреный психоанализ, и самобичевание не исцеляли мятущуюся душу, которая следующим шагом вопрошала, почему же именно ей, на не другим на роду положено томиться зноем неосуществимых желаний. В наказание за что Бог создал ее столь ненасытной? Почему вместо того, чтобы привыкнуть к многолетнему голоду (а может, научиться подхватывать и грызть какую-нибудь совсем уж завалящую кость), она упорно продолжала мечтать об изысканных яствах? Почему, старея и дурнея, она по-прежнему ждала сказочного принца, а не оглядывалась вокруг в поисках самцов попроще? (Впрочем, она оглядывалась, но это тоже было бесполезно). «Господи, зачем ты сделал меня такой жадной и глупой?» – политкорректно вопрошала она. И этот вопрос, хоть и содержал лицемерное покаяние, сам по себе был поставлен правильно.
Танюша была самой слабой в их походной компании; ее брали с собой просто потому, что привыкли к ней. Впрочем, она была удобным спутником, хотя бы потому, что пыталась всем угодить. Природоохранная тема была единственной, по которой она осмеливалась с кем-то спорить. Но эта ее одержимость (как все думали, единственная) за долгие годы стала чем-то милым и привычным, и Танюше отдали ее, как передают вещь в частную собственность. Без своей «экоактивности» она стала бы совсем безликой, и понимала это. Так что эта отчаянная борьба с мусорными следами их группы тоже, вобщем-то, была своеобразным способом угодить друзьям. Танюше хотелось стать образцовой туристкой, как в старых фильмах про рискованные полярные экспедиции – смелой, сильной, не боящейся холода и лишений, всегда готовой словом и делом прийти на помощь – в надежде, что ее оценят и полюбят. Воли, силы духа и сердца не хватало даже одну десятую этого образа, поэтому обычно Танюша просто молча тащилась по маршруту, мечтая о финише и надеясь, что никто в очередной раз не догадается, какое же она ничтожество на самом деле. Первые годы она еще верила, что ей удастся привести из похода мужа – другим же удалось! Но мало-помалу мечта угасла, и походы из средоточия надежд превратились просто в единственно доступный для нее источник человеческого общения, что за отсутствием выбора приходилось ценить.
Но было для нее в походах, конечно, и еще кое-что. Она действительно остро, всей душой любила природу, но это была не любовь-восхищение или любовь-наслаждение, а, скорее любовь-жалость и или любовь-испуг. В красоте природы она ощутимо видела ее грядущую гибель. Живописные картины лесов, гор, рек и водопадов окрашивались в ее глазах особыми красками печали, как любимый, которого видишь в последний раз в жизни. Лишенная возможности заботиться о близком человеке, она и вправду ощущала лес, как спутника жизни, болея его болью и ужасаясь его будущей печальной судьбе. То, что судьба природы всегда печальна, было для нее очевидным. Соединенная с лесом какими-то таинственными узами, она чувствовала, как сжимается холодная рука цивилизации у его горла: представляла себе одновременно все на свете вырубки и повсеместную застройку, которая плесенью расползается и по планете, и по России, поглощая последние зеленые островки. Даже шагая на лыжах под рюкзаком посреди глубоких северных снегов, любуясь елями, что упирались макушками в небо, она знала, что все это обречено. Пусть не сейчас, но завтра этой величественной красоты не будет. Может быть, уже родился человек, который срубит именно эти ели и построит коттеджи («коттедж» для нее было ругательным словом) на месте именно этого леса. Потому-то она не могла беззаботно радоваться общению с природой, как умели другие и как давным-давно, в свои семнадцать-девятнадцать лет умела она сама. Для нее природа была огромным несчастным больным, который, подобно ребенку, просто не догадывается о своей участи. Потому-то она не могла спокойно пройти мимо оставленного кем-то мусора, не подобрав его в свой пакет. Мусор был опасной бациллой, которая может породить язву, если его не удалить. Впрочем, такими же бациллами и вирусами были и любые двуногие, находящиеся в лесу, уже потому, что они не чувствовали его так, как Танюша, а потому могли оставить мусор, срубить живое дерево или просто веселиться где-нибудь на берегу речки, слушая громкую музыку и грубо хохоча. Эта музыка тоже мучила несчастного больного, поэтому Танюша, хоть и робела сделать замечание подобной веселой компании, всегда неизменно желала всем ее участникам скорой и болезненной смерти. Вечный нервный страх за своего больного доводил Танюшу до того, что она втайне предпочла бы сидеть дома и никуда не выезжать, лишь бы не видеть его страданий и не ненавидеть/бояться тех, кто мог его обидеть. Ей было бы спокойнее, если бы в леса вообще никто не выезжал, кроме нее. Каждую веселящуюся компанию, встреченную по пути, она ощущала, как ссадину на собственном теле. Да, наверное, в мире было бы лучше совсем без людей… Но как возможно было объединить это с тем, чего Танюша желала больше всего на свете – чтобы люди, особенно мужского пола, ее любили? Это было непонятно. Противоречие рвало ее на части. Тем не менее, привыкнув к нему, как к мазохистскому удовольствию, она снова и снова ехала в лес, чтобы убирать, спасать, проклинать, бояться – ведь только это и составляло смысл ее жалкой жизни.
У иррационального чувства, как у айсберга, была и разумная верхушка; иначе бы Танюша, наверное, просто сделалась бы сумасшедшей. Но она еще пыталась направить свои порывы в конструктивное русло, и потому кое-как кооперировалась с теми, кто хотя бы отчасти мог ее понять. Она вступила в ряды тех, кого именуют расплывчатым, иногда презрительным словом «экоактивисты» – то есть защищала леса от вырубки, а берега – от захвата, стояла в цепочках, блокируя работу тяжелой лесорубной техники, участвовала в волонтерских уборках мусора, писала визгливые письма чиновникам, требуя спасти от застройки то или иное место, и т.д.. Она завидовала своим коллегам: в сравнении с ней, те были рациональными людьми, потому что редкие, но все же успехи природоохранных акций способны были их порадовать, тогда как Танюшу – нет. В отличие от других, она знала, что занимается бесплодным камланием: раковая опухоль под названием цивилизация была неизлечима. Но не делать ничего означало бы бросить несчастного больного умирать одного. Тогда бы ее замучила совесть, и не только она: ведь пытаясь оказать умирающему хотя бы паллиативную помощь, как в хосписе, она помогала также и самой себе. Танюша действительно ощущала себя частью природы, безо всяких риторических фигур. Так, она получала почти физиологическое удовольствие от уборки мусора, оставленного отдыхающими на берегу речки или озера; она при этом словно бы очищала собственное тело. Если, устав или заленившись, она проходила на прогулке мимо валяющейся бутылки и не поднимала ее, то после чувствовала не просто стыд, а чуть ли не удушье, словно природа и впрямь была карающим богом, от которого нельзя было спрятаться. Неподнятые бутылки превращались в вериги, которыми он наказывал свою оступившуюся дочь.
Но и подними она все на свете бутылки, груз вериг не стал бы легче. Хоть и понимая, что это абсурд и, пожалуй, непомерное самомнение, она чувствовала свою ответственность за весь мир, за грехи всех мусорящих (веселящихся, слушающих музыку, просто существующих) людей, и страдала оттого, что эта ответственность ей непосильна. Уезжая в поход, или просто отправляясь в лес на выходные, она заранее представляла себе все ситуации, которые нанесут ей боль – вот группа каких-то уродов едет на квадроциклах, вытаптывая лесную подстилку и отравляя воздух, вот компания пьяных жлобов разложила еду и напитки, упаковку от которых она наверняка оставит тут же, а вот возмутительно-счастливая молодежь зажигает фейерверки, обрывки которых, конечно же, тоже не станет убирать. Танюша не могла помешать никому из них – она трусила – поэтому могла лишь прострадать за каждого, а потом тихо убрать мусор. В каждом незнакомце, встреченном в лесу, она видела потенциального обидчика – и природе, и себе, что было одно и то же. Для нее было невыносимо задержаться подольше, например, на пляже. Она ждала от своих соседей только одного, самого страшного – что они вот-вот оставят мусор. Чтобы не тяготиться ответственностью собирать его, запихивая чужие бутылки и пачки из-под сигарет в свой рюкзачок, Танюша старалась максимально быстро окунуться в воду и тотчас уйти. Она осознавала, что ее болезненная ответственность за природу – ни что иное, как жадность и нежелание делить мир, который она в душе считала своей безраздельной собственностью, с чужаками. Напомним – она не была глупа и понимала, что ее жадность нелепа, что другие люди тоже имеют право находиться в лесу, на берегу озера или в парке, но поделать с собой ничего не могла. Каждый незнакомец, просто проходящий мимо, вызывал у нее ощущение грубой пощечины, нанесенной грязной рукой, и Танюша испытывала желание тотчас оттереть эту грязь. Если людей было слишком много, она захлебывалась в невидимой грязи и едва не шаталась от тяжести невидимых пощечин, поэтому находиться в больших скоплениях народа – в транспорте, в больших магазинах или на шумных улицах – стало для нее невозможно. К тому же, она честно бичевала себя за свою злобу, и невидимые пощечины списывала на справедливую месть людей за то, что она их ненавидит. Она ненавидит их – они бьют ее, все естественно. Она старалась сократить до минимума пребывание в городских декорациях, и покидала свою маленькую квартирку только для того, чтобы, стыдливо пряча глаза от прохожих, прошмыгнуть на вокзал, а оттуда – в лесную более-менее свободу. Благо (а, может, и к несчастью), работа у нее была удаленная, что позволяло пестовать свою социопатию сколь душе угодно, без шансов исцелиться. В лес Танюша выезжала только с известными ей компаниями, где она наперед знала «патогенность» каждого из участников – сколько он способен оставить мусора, сломать елового лапника и слить жидкости для мытья посуды в озеро – и заранее планировала свои операции по нейтрализации этого вреда. Все это приводило к боязни новых контактов, а стало быть, ставило крест на и без того призрачных шансах познакомиться с вожделенным Мужчиной. Но, так как справиться с собой она не могла, то решила считать себя жертвой высокого предназначения. Возможно, думала она, Бог решил сделать меня странным, непривлекательным орудием для очистки планеты от мусора. При таких мыслях к горлу подступали слезы жалости к себе, и в голове бушевал злобный вопрос, почему Бог выбрал для такой незавидной роли именно ее. Однако эта версия более-менее объясняла все то безумие, что жило в ней и кромсало ее, и Танюша смирялась.
А ведь это действительно было так. Жадная, обиженная, трусливая и ненавидящая, своим патологическим перфекционизмом она, тем не менее, ухитрялась приносить пользу. Если измерить вес мусора, который она за многие годы вынесла из лесов, то получилась бы внушительная цифра. Некоторые природоохранные акции, в которых она участвовала – превозмогая ужас перед необходимостью общаться с людьми – тоже имели мало-мальский успех. Кое-где и кое-когда ей вместе с коллегами удавалось защитить клочок леса от рубки; иногда случалось отбить от коттеджной застройки какой-нибудь берег. Танюша, скрывая это даже от себя, таила надежду, что Бог-Природа (для нее это было одно целое) ее за это наградит. Во-первых, избавит от тошнотворной злобобоязни людей, научит терпеть и любить их, пошлет покой. Во-вторых (хотя, пожалуй, это можно поставить на первое место) – сбросит пелену невостребованности и подарит любовь прекрасного принца. А вкупе с этим сделает Танюшу молодой, счастливой и красивой. Нелогичность желаний не смущало Танюшу: в том волшебном мире, где они должны были осуществиться, не могло быть отягчающих телесных оков. Потому-то – в дополнение к прочим причинам – Танюша любила уходить в долгие дальние походы, погружаясь в бескрайний мир девственного леса. Подобно тому, как классически верующим людям удобнее обращать свои просьбы к Богу в интерьере церкви, Танюше было проще молиться в собственном храме – в густом ельнике, куда не проникает солнечный свет, или посреди пустынного, хлюпающего под ногами сфагнового болота, или, что еще надежнее, на укрытых толстыми снеговыми одеялами плоских вершинах северных тундр. Здесь почти не было двуногих конкурентов за пользование Землей, и здесь Танюша как нигде была близка к своему Богу. Она сидела у него на коленях и поверяла ему свои жалобы, обиды и жадные, ненасытные мечты о счастье. Только ему – больше никому.
Если бы не это, походы, особенно зимние, были бы для нее невыносимо тяжелы. Отупляющий холод, неизбывная сырость в ботинках, стертые в кровь пятки и ноющие от рюкзака плечи были для Танюши настоящим мучением. С утра каждого нового ходового дня, пристроившись на лыжню вослед рюкзаку впереди идущего товарища (вереница рюкзаков издали походила на процессию огромных жуков на тонких ножках), она мечтала не о покорении очередных перевалов, а исключительно о наступлении вечера, за которым будет теплая и сухая ночь в шатре, и о мисках с кашей, которую перед сном раздадут дежурные. Ради этих моментов она и держалась весь день. Ради них, дрожа от напряжения, зарубалась металлическими кантами лыж и в оледеневшие крутые склоны, ради них перелезала бесконечные буреломы, ради них со стонами выбиралась из снеговой ямы после очередного падения. В такие минуты она ненавидела их группу, ненавидела поход, ненавидела туризм вообще, и в душе осыпала самой злобной бранью руководителя (товарищи весьма бы удивились, узнав, что их кроткая и правильная Танюша может оперировать, хоть и мысленно, такими словами). С первого дня похода она уже мечтала о его скорейшем завершении, о возвращении в тепло и комфорт, грезила о жарком душе, после чего можно облачиться в чистую и сухую одежду взамен потной и грязной, и после скудного походного пайка воссесть за ломящийся от яств стол. Само собой, важная роль в сказочных грезах отводилась воображаемому спутнику этого застолья. Чем тяжелей ей было, тем красочней Танюша воображала себе счастье со всеми его сладкими компонентами – теплом, чистотой, едой и Мужчиной. Если в обстановке городской квартире эти грезы буксовали, словно стесняясь своей неосуществимости, то в условиях похода они вновь оживали и расцветали. Как же было после этого не любить лыжный туризм? Посреди северных снегов Танюша на время забывала о том, что она одинокая и несчастная, что тело ее стареет и увядает. Все человечество на время похода сокращалось для нее до шести – максимум пятнадцати душ, и Танюша чувствовала себя, как на необитаемой планете, где ее не с кем сравнивать, и где каждый человек, даже глупая, жадная, злая и одержимая мечтами о счастье женщина имеет свою ценность. Десятки километров лесов до ближайшей таежной станции отгораживали Танюшу от правды, и она наслаждалась искусственным бытием – а может, как раз, самым настоящим. Здесь не было времени. Люди здесь застывали в вечном магическом настоящем, как герои сказочного повествования. И даже пространство имело чисто номинальную связь с городами планеты Земля. Конечно, где-то они существовали, эти города – раз в набедренных сумках были тщательно завернуты в полиэтилен железнодорожные билеты домой. Но для самих городов путь сюда был недостижим, потому что вел через километры усталости, сдавленных в горле слез и мокрых, стынущих на морозе носков. Понятно, что существовали вертолеты, которые могли в любой момент смять волшебство сказки и высадить вот хоть на том пригорке толстых праздных богачей в комуфляже, с тетками, ружьями и водкой. Но Танюша старалась верить, что ее Север пока еще не вошел в моду у респектабельных путешественников и элитных охотников. К счастью, танюшин походный руководитель намеренно избегал раскрученных туристических достопримечательностей, где могли встретиться подобные попутчики, так что тут их желания совпадали.
Таня ходила в походы, чтобы на время забыть себя – злую и несчастную – и стать другим человеком – простым, добрым, смиренным и стойким. Получалось лишь отчасти, но и этого было довольно. Потом, вернувшись домой, она с удовольствием вспоминала, что почти две недели у нее не было ни привычной тоски, ни привычного стыда за себя, ни даже ее тела – надоевшего, некрасивого, жалкого. Все сдирал холод, скудная еда, сырые ноги. Оставалась только душа. В каком-то смысле Таня в походах становилась бесплотной. Нет, руки и ноги у нее были, и их ценность была поважней, чем в городе, но исчезала некая женская телесность, с помощью которой Танюша привыкла себя осознавать и представлять в чужих глазах: в восемнадцать лет – с гордостью, в тридцать семь – с отчаянием. В походе она освобождалась от этого застарелого груза и становилась просто совокупностью чувств: чувством упругости снега, по которому так неожиданно споро бегут сегодня лыжи, восхищением заснеженными елями-великанами и счастьем, которое только здесь ей и удавалось испытать. А потом избирательная послепоходная память стирала плохие ощущения и оставляла лишь хорошие. Сколько раз, уставшая, замерзшая и обозленная на своих довольных, веселых и сильных друзей (которые, казалось, не замечали ни холода, ни сырости), Танюша клялась себе, что никогда более не пойдет в поход; что эта глупость – в последний раз. Но в тепле, просохшая и накормленная, ее тоска вновь оживала и, стоило вернуться, Танюша уже мечтала о новом походе. Потому что без них никакого смысла в ее жизни не было.
…
Перепаковка вещей и продуктов длилась недолго. Ион отдал своим товарищам часть общественного снаряжения, что ехала в его рюкзаке – в воздухе замелькали бухты веревок, тряпичные свертки с чем-то увесистым, забренчали котлы в чехле – а на их место запихал плотно обмотанные скотчем пакеты с крупами и сухарями. Не дожидаясь, пока он закончит, обе группы уже вышли на лыжню. Даже Серега, устав топтаться на морозе, сипло сказал, что дождется Иона на первом привале, и побежал догонять своих. Застегнул рюкзак, в последний раз хлопнул по плечу бывшего штурмана и зашагал в другую сторону Ярик. Одна Танюша стояла посреди пустой поляны, придерживая рукой свой рюкзак. Она еще не успела справиться с изумлением и радостью, и потому даже не сообразила, что ей вообще-то давно полагается идти. И уж тем более – не таращиться так беззастенчиво на молодого красивого парня.
Ион закрыл клапан, подтянул лямки и вопросительно взглянул на нее.
– Гм, я надеюсь, ты тут не остаешься?…
Танюша встрепенулась и тут же густо покраснела. А лицо Иона вспыхнуло веселой улыбкой.
– А то как-то глупо получится – я же бросил своих, можно сказать, исключительно ради дамского общества. А дамы что-то не торопятся на выход, а?
Комплимент был нелогичный в квадрате: в покинутой Ионом группе с дамским обществом было более чем в порядке, да и в новой компании Танюша была не тем человеком, от отсутствия которого это общество сильно бы потеряло. Но у потухшего костра в этот момент не было никого, кто мог бы заметить это противоречие. Глядя в глаза Иона, Танюша поняла, что он ничуть не кривит душой, стараясь ее порадовать, но вправду видит в ней женщину, достойную если не любви, то хотя бы того, чтобы в ее «дамском» обществе было приятно находиться. Впервые за много-много лет мужской взгляд не проходил сквозь нее равнодушно-вежливо, но с явным удовольствием на ней остановился. И уже одного этого было достаточно, чтобы куда-то исчез мороз, чтобы снег засиял, как рассыпанное по лесу солнце, и чтобы наступила весна.
Новоиспеченный участник коллектива сразу оправдал себя. Ион, или Иончик, как стали его называть, помнил не только каждый извив реки, но и каждую приметную ель, скальный обрыв на крутом берегу и площадку, где можно было удобно и безопасно остановиться на отдых. Лыжню, пробитую его группой, уже успело занести вчерашним снегопадом; приходилось тропить почти что заново. Но скорость от этого не уменьшилась – во всяком случае, скорость штурмана, идущего впереди всех. Удивительно, как он ухитрялся преодолевать глубокую снежную целину почти бегом, так что остальные, ехавшие уже по готовой колее, от него отставали. Ион помнил все опасные вымоины, скрытые сейчас под свежим снежным наметом, и заранее вел группу в обход. Двигаясь по пологому склону русла, он вдруг неожиданно сворачивал на противоположный – крутой. Не успевал Серега, запыхавшись, издали прокричать, а в чем дело, как все выяснялось – за очередным поворотом речки на месте пологого берега вдруг вырастал скальный прижим, а под ним – окошко бурлящей воды, с которой не справился снегопад. Серега уважительно поднимал брови, оценив, сколько бы им пришлось топать назад, не знай они об этом прижиме. Переходить с одного берега на другой можно было отнюдь не везде, стремнина обозначалась вдоль всего русла пунктиром открытых окошек. На одном из переходов Ион решительно пошел тропить наверх среди деревьев, намереваясь обойти участок русла по высокому берегу. Догнавшему его Игорьку он объяснил, что внизу за поворотом – непроходимый обрыв и большая полынья. Так и вышло: сверху вспотевшая, замученная на подъеме группа увидела живописнейший вид, пройти который по низу было бы весьма затруднительно. Масштаб карты, хоть и весьма подробный, такой мелкий рельеф не отражал; тут нужен был опыт прохождения, и группа получила его в лице Иона.
– Все норм. Штурман зачетный, – коротко кивнул Игорек Сереге, задержавшись, чтобы отдышаться.
– Будем считать, что тушенку он отработал, – усмехнулся Серега в ответ.
Он намекал на то, что в «приданом» Иона не было ни единой банки тушенки – главной походной ценности. Понятно было, что Марианна не могла ее выделить: все банки были строго сосчитаны, и отдать одну значило бы обескровить ужин для всей группы. В свою очередь, из-за этого норма тушенки на человека в серегиной группе уменьшалась (тогда как в группе Ярика, наоборот, увеличивалась). «Эх, вот бы он еще и вегетарианцем оказался», – мечтательно подумал Серега. Хотя на вегетарианца он был мало похож – те обычно не курят и не пьют, а Ион и курил, и от вечерних двадцати грамм разведенного спирта не отказался.
Сейчас он быстро-быстро буравил снег на спуске, ловко лавируя между елями, словно ехал не на широких туристских лыжах, отягченный рюкзаком, а катался налегке где-нибудь на горнолыжном курорте. Иногда он оглядывался и виновато улыбался: мол, вы уж простите меня, что я так быстро еду, просто уж так хорошо, что не остановиться. Его ветровка была распахнута и не разлеталась только из-за туго застегнутого поясного ремня рюкзака. Под нею, несмотря на мороз, была лишь одна футболка – неопределенного грязно-лилового цвета, с вылинявшим рисунком. Шапку он заломил на затылок, но вовсе не из лихости, а оттого, что ему действительно было жарко: об этом красноречиво свидетельствовали влажные от пота черные завитки волос, прилипшие ко лбу. Когда он останавливался, от его фигуры исходил пар. Казалось, он находится совсем в другом месте: не застывшем зимнем лесу, а где-то на теплом юге, и лишь волшебная телепортация позволяет товарищам видеть его перед собой, как живого. А ведь он вовсе не производил впечатления полнокровного мускулистого мужика, которого греет мощное тело. Широкие капроновые штаны не могли скрыть худых ног, а над воротом футболки ходили ходуном тонкие косточки ключицы. Что его согревало, было загадкой.
– Уфф, ну ты и здоров бегать, – тяжело выдохнул Серега, останавливаясь около Иона на льду речки, куда вся группа кое-как ссыпалась с косогора. – Я тебе кричу-кричу – давай приваливать – а ты все прешь и прешь. И откуда столько здоровья берется?…
Словно желая усилить изумление новых товарищей, Ион стоял у своего рюкзака с сигаретой в зубах; дым окутывал его, почти не тая в безветренном воздухе. Серега тоже курил, но ни за что бы не решился так рисковать дыхалкой прямо на ходу – и без того еле тащился. «Ну надо же, вот кому-то – все похрен, а я уже на метр залезть без одышки не могу…» – завистливо думал он. Но Ион, видимо, не терпел, чтобы им восхищались. Его тело любую подобную ситуацию тут же переводило в шутку над самим собой. И он громко закашлялся, поперхнувшись затяжкой, после чего, выдавив «рудники проклятые», старательно задавил окурок и сунул в карман.
– Ты че, хабарики собираешь? Да есть у меня, пять пачек взял на поход, не пропадем…
– Да у меня тоже есть. Не хочу просто это… в снег бросать. Тут у вас такие люди ответственные… – Ион выразительно показал острым подбородком на Танюшу, которая спускалась одной из последних.
Думая, что на нее никто не смотрит, она не успела стереть с лица ожесточенного выражения; подъем дался ей тяжело, а спуск еще тяжелее.
Раздалось дружное хихиканье.
– Ничего, пока наш эколог не видит, можно бросать, – широко осклабился коренастый Мишаня. Он был самым старшим в группе, хотя и не претендовал на авторитет аксакала: мешала врожденная веселость. Поясной ремень обтягивал его объемистое брюшко; даже скромный походный рацион не в силах был его уменьшить. – А Та-ню-ша ни-че-го не видит! – выразительно пропел он, выждав, пока она подойдет ближе.
Танюша недоуменно оглядывалась, пытаясь понять, чего же такого она должна была не увидеть, чтобы порадовать своих друзей, но тут в разговор издали вмешался Игорек. Он замыкал шествие на спуске, и сейчас красиво выехал на речку, пробурив свежую колею.