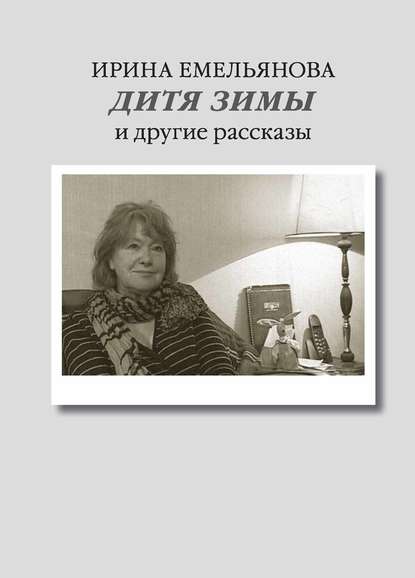По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дитя зимы. И другие рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всего за три месяца до смерти. А уже 26 апреля встревоженная мама не находила себе места, то по своему природному оптимизму успокаивая себя, то впадая в панику: «С Борей что-то происходит. Совсем серый. Отдал мне рукопись пьесы… Должен две недели полежать…» Скоротечный рак. Какой удобный, все объясняющий диагноз! Но меня до сих пор гложут страшные подозрения. Слишком много зловещих совпадений.
Жорж вернулся из Франции через месяц, 17 мая. Мы были рядом на похоронах БЛ, не оставляли маму одну. Дьявольская команда перешла в открытое наступление: не успела она вернуться с похорон, к нам явились работники КГБ и изъяли, то есть прямо из рук вырвали, рукопись пьесы «Слепая красавица». («Это в интересах вашей безопасности, спасем от рыщущих по Москве журналистов».) Чтобы немного прийти в себя, в июне я поехала на неделю к Але Эфрон в Тарусу. Когда гуляли с ней по приокским лугам, она, «пророчица», помню, сказала: «Боюсь, этим не кончится. Дело в твоей свадьбе. Твоя собака тут зарыта». А мы с Жоржем уже подали заявление в центральный городской загс, регистрация была назначена на середину июля. Но в середине июня он снова был в больнице. В Боткинской, в инфекционном отделении. «Буллезная эритема», она же пузырчатка, тяжелое кожное заболевание: температура, головная боль, плохие анализы крови, вздутие кожи по всему телу. Лечение – адские дозы кортизона, преднизалона, капельницы. Лечащий врач (приятная дама) почему-то хорошо говорит по-французски, вызывает расположение. Ему лучше, но из больницы не выписывают: «Не кончился срок карантина!» Приближается 10 июля, день регистрации, я приношу ему джинсы и тапочки, чтобы он на несколько часов убежал из палаты (она находится на первом этаже), окно низко от земли. В назначенный для побега час я жду его у ворот больницы в такси. Он не пришел. Подхожу к больничному окну – накрепко задраено. А в палате у него у дверей сидит здоровенный парень, который, не тратя лишних слов и не деликатничая, сказал попросту: «Попробуешь бежать, поймаю и вздую». 10 августа (срок окончания визы) Жорж улетел во Францию. Думал, ненадолго, оказалось – на много лет.
Настала и моя очередь. «Буллезная эритема», иначе – токсидермия, добралась и до меня. В больницу я ехать отказалась, и мама (через знакомых) вызвала врача из платной поликлиники. Это был веселый старичок, похожий на артиста опретты Ярона. Увидев мою вздувшуюся кожу, он всплеснул ручками: «И где вы это подцепили! Лет сто в Москве такой болезни не было!» Где? Тогда я не знала, что ему ответить. Юность доверчива, да и не может нормальное сознание вместить такое коварство: если не убить, то изуродовать (как мучительно изживаются кожные воспаления, какие они оставляют следы, кто этого не знает!), обезобразить, унизить… Кого? Это я – враг советского государства? Это для меня в Варсонофьевском переулке готовят инфекцию? В голове не укладывалось. Лечение то же: димедрол, преднизалон, компрессы с персиковым маслом (до сих пор не переношу этого запаха), строгая диета…
Но о какой диете могла идти речь, если уже через три недели меня арестовали (я была еще в бинтах), и в лубянской камере № 82 в кормушку всовывалась миска с ячневой кашей, макаронами или рыбной баландой. Обыскивавшая меня надзирательница, серая мышка с бегающими глазками, развязывая на мне бинты (личный обыск!), ласково приговаривала: «Я аккуратненько! Ой, да у вас уже проходит совсем… Потерпите секундочку…»
Бог с ней, с мышкой. Может, она и не знала, какая бацилла живет под моими бинтами. Вельзевулы в свои планы таких не посвящают. Но вот мой следователь капитан Николай Михайлович Коньков определенно был в курсе. Ведь кроме следственного дела (я его в перестройку прочитала) существует и «оперативное», и там все слежки, все мизансцены, все прослушки, все меры, принятые по отношению к «врагам народа», должны быть описаны. Наверное, его сожгли, либо – «хранить вечно». Следователи, ведущие наше «дело», уж конечно, были с «оперативкой» ознакомлены. Так что же заставляло его, «простого русского человека» из глубинки (не из партийной элиты, в КГБ попал из армии – «обновление» послебериевских кадров, в андроповские времена поднялся до поста старшего следователя по Московской области), насмешливо и даже как-то брезгливо цедить во время допросов (виделись с ним нечасто, «дела»-то никакого в сущности на меня не было): «Что это вы все время болели, Ирина Ивановна? И болезни-то все какие-то противные, кожные, на нервной почве… Совесть, небось, была нечиста?»
Помню, летом 1957 года БЛ попал в больницу, в санаторий Узкое. Болела нога. Санаторий был привилегированным, среди пациентов много работников ЦК, разная номенклатура. В палате он был не один, еще трое секретарей горкомов (или обкомов, не помню). Мы с мамой смеялись, каким он стал знатоком обкомовской проблематики, ведь в палате в свободное время не уйти от разговоров. Он выделял тульского секретаря: «Нет, в нем есть что-то человеческое. Когда рассказывал, как у его матери корову уводили, чуть не плакал. Но вот мой сосед… Я не выдержал и сказал ему: «У вас не язва желудка, у вас язва души»! У Николая Михайловича Конькова была даже не «язва души». Черная оспа. Вакцинации не поддается.
Часть вторая. Ватрушка
Начало 80-х. Унылое застойное болото. Из магазинов исчезают продукты. В «овощных» – только афганский изюм и финики. (Мы называли их «слезы афганского народа». Идет война в Афганистане.) Все остальное надо «доставать». Мне на работу звонит подруга, работает рядом, в Ленинской библиотеке: «Приходи через полчаса к памятнику Пушкину». Прихожу, она вручает мне сверток. Кусок сыра. Ее мать, секретарь партячейки ЖЭКа, сумела выкроить кое-что из праздничных заказов для ветеранов-пенсионеров, которые она распределяла через ЖЭК. А мне надо, у меня сегодня вечером гости…
Я работала в вокально-хоровой редакции. Сидим над своими партитурами, скоблим прописные буквы в словах «Рождество», «Господи», «Аве Мария» (увы, старая хоровая музыка ведь чаще всего духовная!), заменяем на строчные, а где можно и на другие слова – «родина», «праздник», «светлая дева»… Таков был последний приказ из комитета по печати. В колядках удачно заменили: не «Христос народился», а «Год новый народился»! (Пришлось, конечно, разлиговать, но…) На главной редакции в кабинете директора обсуждается вопрос: включать ли в ПСС Чайковского романс «Был у Христа младенца сад»? По отделам разносят новый приказ (за подписью Андрея Сахарова, ныне глава института истории, хорош перевертыш) о вынесении строгого выговора директору издательства «Мысль» по поводу выпуска книги Николая Федорова «Философия общего дела». Тираж изымается из магазинов, мы все расписываемся, что такое не повторится, ознакомлены. Еще одно распоряжение (тот же Сахаров): во всех вокальных сборниках (да будь это даже «Музыка в детском саду»!) на первой странице печатать гимн Советского Союза. Страшные старцы из общества «Знание» на политзанятиях пугают израильской военщиной, растущим потенциалом НАТО, радуют свободной Джамахирией (это Каддафи), бурным экономическим ростом на Кубе… Присутствие на этих политзанятиях обязательно.
В это время у нас в редакции появляется новая заведующая. Появилась она в результате каких-то интриг в министерстве культуры, к музыке никакого отношения не имела, до этого поста работала в Сенегале в культурном русском центре. Наверное, срок контракта закончился, надо было ее куда-то устроить по линии культуры. От разговоров о «сложной музыкальной фактуре», «эквиритмике», «двухголосии» она впадала в сон, но ни с чем не спорила, охотно подписывала любые договоры, на редсоветах помалкивала. Она была «из простых», мать чуть ли не знатная ткачиха, сама, видимо, поднялась по административной лестнице, такой «Светлый путь». Разумеется, член партии, завредакцией должен обязательно им быть. Она была толстенькая, с круглым, всегда веселым личиком, мы про себя прозвали ее Ватрушка. У меня с ней были хорошие отношения, как-то я даже принесла ей «Крохотки» Солженицына. Она поспешно прочитала, вернула мне, сказав, что там «много верного, но лучше этого никому не показывать». Весной, после Пасхи (в этот день она нас даже угощала куличами, ее мать ходила в церковь) она с радостью с нами простилась: ей нашли место гораздо более подходящее – директором Московского экскурсионного бюро. Оно располагалось неподалеку, на Кузнецком Мосту, во дворе старого дома.
Я к ней иногда заходила – устроить харьковских родственников на интересную экскурсию. Кроме историко-революционных маршрутов были и литературные: «Пушкинская Москва», «Москва Грибоедова», «По местам Льва Толстого» (а также, но только по спецзаявкам от предприятий – «Москва Цветаевой», эти последние пользовались популярностью, заявки были, Цветаева уже становилась «национальным достоянием»).
Уже несколько лет между родственниками Б.Л. Пастернака и Литфондом велась судебная тяжба по поводу его дома в Переделкине. Дачи в поселке не были собственностью писателей, они являлись арендой, собственником был Литфонд, и после смерти члена ССП наследники не имели на них прав, дачи предоставлялись новым жильцам, – активно работающим советским классикам. Охотников на дачу БЛ было немало. Такая же история (и такие же суды) происходила и с дачей Чуковского. Родственники проигрывали во всех судах. Последнее решение Московского областного суда было категоричным: освободить площадь в самый короткий срок. Конечно, подали апелляцию, но… особой надежды не было.
Какими бы ни были мои отношения с семьей БЛ, мысль о том, что в его кабинете будет царствовать какой-нибудь Марков, вместо аскетичной полочки с книгами и почти солдатской кровати появятся финские гарнитуры, что этот Марков будет смотреть в то же окно, видеть то же поле, не давала покоя. Это было невыносимо. Единственный эффективный путь борьбы – добиться признания данной «жилплощади» музеем (что и делали наследники Чуковского, но БЛ ведь был исключен из СП, позиция была совсем слабая), выбить у Литфонда почву из-под ног. А уже ходили слухи, что Марков от дачи отказался, но согласился Айтматов, что он уже начал ломать старый паркет и стелить импортный линолеум, одним словом, медлить было нельзя. И я решила пойти к Ватрушке.
Главное – написать письмо на бланке, с круглой печатью, с красивым титлом «Министерства культуры», а там посмотрим, время работает на нас, суд испугается печати, Евтушенко поможет, он уже неоднократно взывал к «братьям-писателям» по поводу необходимости музея, даже собрал какое-то число подписей среди «либералов»… Родственники БЛ (сын и невестка) не просто обрадовались моей идее, но и всячески торопили меня, ибо приближалось «исполнение приговора».
Новый директор Мосэкскурсбюро, наша Ватрушка, приняла меня очень сердечно, вместе с ее двумя заместительницами мы составили письмо (не помню адреса, кажется, в Минкульт) для предъявления в суд. Просьба включить новый объект в план экскурсий на будущий год – дачу Пастернака, где посетитель может ознакомиться с интерьером рабочей комнаты известного переводчика и поэта, посмотреть офорты Леонида Пастернака (академика, друга Толстого!), послушать музыку (в записи), исполнявшуюся в этом доме Рихтером, Нейгаузом, Юдиной, а также посетить кладбище, где похоронены известные писатели, и закончить день пикником на свежем воздухе. Конечно, пользуясь ее полной неосведомленностью и доверием, я обманула Ватрушку. Не сказала, что БЛ исключен из Союза писателей и не восстановлен, что роман «Доктор Живаго» не издан и проклят, что, по мнению Шолохова, он «литературный власовец»… Зная, как можно подействовать на ее девственное сознание, я принесла ей фото с первого съезда писателей, где БЛ сидит рядом с Горьким. А также сборник «Библиотеки поэта» (кто такой автор предисловия Синявский и где он, она и слыхом не слыхала) 1965 года с роскошным красным оборотом титула: БИБЛИОТЕКА ОСНОВАНА ГОРЬКИМ.
«Это фото надо повесить у входа в дом, – сразу решила она. – Девочки, начинайте экскурсию с Горького!» В тот же день я отдала письмо родственникам для предъявления в суде.
Праздник Первомая, два нерабочих дня. Наш коллектив собрался у одной из сотрудниц, которая не скрывала, что посещает церковь, почему-то на это смотрели сквозь пальцы. На столе были неслыханные по тем временам яства, все из «спецзаказов», ветчина, осетрина, свежие помидоры, наливки производства хозяйки, «свеченые» куличи. Пригласили и Ватрушку, хотя она была уже не из «наших». Пируем, вдруг телефонный звонок. Телефон в коридоре, хозяйка подходит, потом, удивленная, возвращается к столу: «Валентина Ильинична, вас. Не понимаю, как узнали, что вы здесь. Говорят, срочное дело». Это в праздничный-то день! Разыскали! Валентина Ильинична разговаривала недолго. Вернулась к столу она несколько побледневшая, аппетит у нее пропал, но до конца обеда досидела, а когда вышли на улицу, отозвала меня в сторону: «Звонили из райкома (или горкома, не помню) партии. Вызывают на проработку. Завтра. Это, мол, вы написали письмо о доме Пастернака? Рискуете партийным билетом». – «Я пойду с вами». – «Нет, но вы должны меня подготовить. Встретимся на улице в два часа».
Давно у меня не было такой страшной ночи. Что делать? Исключение из партии, это же конец и служебной карьеры, да и личной жизни, у нее же нет, кроме административных навыков, никакой профессии, не замужем, на руках старая мать… И это я ее подвела! Нашла телефон Вознесенского, мы ведь когда-то дружили. «Андрей, спасай!» Но его не оказалось в Москве, да и не уверена, что он ввязался бы… Мелькали безумные мысли: позвонить Поликарпову в ЦК? Но он, кажется, умер. Бобкову в КГБ? У Вадика в записной книжке был его телефон. Ведь под угрозой невинный человек, попавший как кур в ощип!
Встретились, как и договаривались, с В.А. с Валентиной Ильиничной на Рождественском бульваре. Ни она, ни я в эту ночь не спали. Но она (в отличие от меня) старалась держаться мужественно. Запоминала: «Так-так. Написал стихи о Ленине? Был в президиуме первого съезда писателей? В правлении? Шекспир – Шиллер в его переводах в МХАТе? Картины отца в Третьяковке? Переписывался с Горьким? Отказался от премии? Отказался уехать за границу?» Это ее особенно поразило: «А предлагали?» «Евтушенко хлопочет? Нет, этого не надо, “они” его не любят. Со мной не ходите, ждите меня здесь же, на этом месте». Ушла, захватив с собой все тот же том «Библиотеки поэта» и две афиши: «Король Лир» в театре Моссовета и «Мария Стюарт» во МХАТе с именем переводчика. Я провела на бульваре около трех часов. Не без пользы. Сначала сбегала на рынок на Цветном, купила букет ландышей – что бы нас ни ждало, цветы будут ей в радость. Поглядывая на роковую скамеечку, отстояла в «Продуктах» на углу Трубной очередь за яйцами и творожными сырками, удачно, на мне не закончились! Там же купила и какого-то молдавского «Солнцедара», в случае благополучного исхода – выпьем, пусть и на лавочке!
Когда она, усталая, но спокойная, присела ко мне на скамейку, я поняла, что пронесло. «Я им все сказала. Выговор. С занесением, или без, горком решит. Представьте, они понятия не имели, что серия ОСНОВАНА ГОРЬКИМ! Пришлось книгу показать. А знаете, Ирочка… – она подбирала слова. – Когда у нас по телевизору показывают фильмы про войну… про допросы в гестапо… вот это были такие же лица».
Разумеется, несчастное письмо не прозвучало в суде. Осенью 1984 года судебные исполнители приехали на дачу на грузовике. Решение суда вступало в силу. Картины родственники увезли в Москву, мебель на какой-то склад. Хуже всего обстояло дело с роялем – при погрузке его грохнули на землю, «на травку», как сказал сын. А это был тот рояль, о котором мы писали в «проекте», что на нем играли Рихтер, Нейгауз, Юдина, Волконский… И сам поэт «клавишей стаю кормил с руки…» Начался затяжной советский ремонт. Но в воздухе ощущалось уже дуновение перемен, ремонт все тянулся, Айтматов отказался вселиться, планы Литфонда менялись: одно время решили сделать на этой даче общий музей писателей – жителей Переделкина. Жаль, что план не осуществился: эффектно выглядели бы, например, экспозиции таких разделов: «расстрелянные писатели»; «писатели-предатели»; «уцелевшие». Интересно, какая была бы представительней?
А в 1987 году Б.Л. Пастернака посмертно (и единогласно!) восстановили в Союзе советских писателей. И в год его столетия дом-музей был торжественно открыт для посетителей. А рояль отреставрировали в мастерской Большого театра. Не знаю только, сняли ли с бедной моей Ватрушки выговор?
Фрэнсис Пауэрс и Белла Исааковна
Первого мая 1960 года где-то над Свердловском знаменитой ракетой «земля – воздух» был сбит американский шпионский самолет У-2, его пилот Фрэнсис Пауэрс катапультировался, был задержан местными жителями и препровожден на Лубянку. (Злые языки, правда, говорили, что ракета до У-2 не дотянула, ее протаранил советский истребитель, летчик погиб. Возможно.) А 19 августа в Колонном зале в Москве состоялся процесс над Пауэрсом. На фасаде Колонного зала красовались зловещие буквы: «Суд на американским летчиком-шпионом», проезжавшие мимо в троллейбусах пассажиры пугливо ежились. «Ой, совсем как в 37-м, в том же зале», – прошептала какая-то пожилая женщина. Суд (прокурором был Руденко) приговорил шпиона к десяти годам, из которых первые три он должен был отсидеть в «крытке» (закрытой тюрьме). Болтали, что в камере на Лубянке у Пауэрса мягкая кровать, а обед ему приносят из генеральской столовой. Может быть.
Герои года. Джон Маккоун и Фримен Олмстед. Обложка журнала «Тайм», 1961
Но все эти полеты, шпионы, процессы нас тогда занимали очень мало. Дело в том, что 16 августа была арестована наша мамочка Ольга Всеволодовна Ивинская, и в нашей квартире с утра до поздней ночи копались следователи, прокуроры, понятые, описывая «незаконно нажитое» имущество – холодильник «Саратов», телевизор «Луч», кофты, платки, чашки, ну и книги, рукописи… Нам было не до Пауэрса.
Все-таки времена были либеральные, и маме полагался адвокат. Вместе с Асей Рапопорт, у которой, благодаря авторитету ее отца, в свое время знаменитого юриста-защитника, сохранились связи в адвокатуре, я пришла к председателю московской коллегии Василию Александровичу Самсонову. Роскошный кабинет в центре Москвы, сам ВА, красивый, доброжелательный, удобные кресла, все это ошарашило меня после обысков и бессонных ночей.
– Конечно, я возьмусь за ваше дело, – сказал ВА. – Но вы напрасно волнуетесь. Ведь состава преступления нет – не вы перевозили деньги, не вы их меняли. И распоряжения отданы Пастернаком, не вами. Ограничатся административным взысканием, ну, может быть, штрафом… Ведь даже шпиону Пауэрсу дали всего 10 лет! Сравните преступления! Скоро увидите свою мамочку, да и во Францию к жениху уедете… Однако каковы французы! – он одобрительно, по-светски, взглянул на меня. – Всегда увозят из России лучшие ценности!
– Но как видите, Василий Александрович, – тут же подала реплику находчивая Ася, – им не всегда это удается!
Вот такой милый светский разговор. Но как же ошибся председатель коллегии! Ему на «нашем» процессе пришлось защищать именно эти неувезенные «ценности». Потому что через три недели арестовали и меня. А маму защищал В.А. Косачевский, один из «допущенных» членов коллегии, с которым она шапочно была знакома и на воле.
А первого июля этого же года, когда Пауэрса водили (с прищелкиваниями, так странно щелкали пальцами надзиратели) по лубянским коридорам на допросы, в районе Кольского полуострова был сбит еще один американский самолет. СССР утверждал, что он пересек воздушную границу, США – что летел над нейтральной территорией. Из шести членов экипажа спаслись двое: лейтенанты ВВС США Джон Маккоун и Фримен Олмстед. Вот они-то и оказались моими соседями на 8-м этаже лубянской тюрьмы.
Переход из «вольной» следственной части Лубянки в тюремную описан многими: вот недавно прочитала об этом у Шульгина, мало что с тех пор изменилось. Стоишь еще по «сторону свободы», в своем пальтишке, с модной сумочкой, перед тобой зловещие ворота с окошечком. Голос Харона: имя, «инициалы полностью», фамилия… ворота открываются, надо расписаться, что ты уже «человек тюрьмы». Дают лист большого формата, прикрытый латунной пластиной с прорезью только для твоей фамилии. Чтобы не видела, кто еще сидит. Мой номер 82 (номер камеры), но за какие-то секунды мне удалось слегка сдвинуть пластину – хотелось узнать, в какой камере мама, да может, и Пауэрс тут же? Удалось: камера мамы 86, значит, на том же этаже. Но кто между нами? Прочесть не успела, ведь были секунды.
Какие чувства я испытала, перешагнув роковой порог? Их было три. Первое – облегчение. Уже ничего от меня не зависит. Не надо бегать по адвокатам, ездить в Лефортово с передачами, метаться от одного советчика к другому, утром ждать прихода «бригады», расписываться в протоколах… И когда с меня сняли «секулярное» пальтишко, облачили в тюремное платьице, освободили от шпилек, от лодочек на каблуках, я, помню, просто вспорхнула по тюремной лестнице в свою камеру № 82. Второе, конечно, страх. Ведь чудовищно раздутый великан, к которому меня привели в «лабораторию» для дактилоскопии, он, наверное, пытал врачей, Мейерхольда? Лаборатория в подвале, жуткие железные крюки в потолке. Толстыми лапищами он ловко, не выворачивая, брал с моих пальцев отпечатки, а потом стал оттопыривать мне ухо, чтоб ясней вышло на фото. Или в «боксе»: «Вас сейчас осмотрит доктор!» Знаем мы этих докторов. Бескровное существо с синими губами разматывало на мне бинты (я была больна, заразила проклятая биолаборатория КГБ): «Кальций пропишем». «Присядьте три раза». «У гинеколога давно были? Венерические болезни?» Потом я узнала (Вадик рассказал), что заключенные прозвали ее Ильза Кох. Душ в подвале, в железной клетке, в том самом подвале, где… «У вас здесь стены плачут!» – как-то сказала я потупившемуся следователю (нового послебериевского призыва). Да и ведущий мое «дело» капитан Коньков, подходивший к моему столику с линейкой в руках и как-то ее то сжимавший, то разжимавший, пугал меня… Но третьим чувством было любопытство. Оно, пожалуй, было главным. Вот и я узнаю, что тут творится, кто такие нынешние обитатели страшной Лубянки!
В одиночной камере слух чрезвычайно обостряется. Зрение же, наоборот, пропадает. Дневного света ведь нет, день и ночь горит в потолке зарешеченная 25-свечевая лампочка. Я попросила заменить. Пришел «старшо?й», как его называли, высокий худой старик, наверняка до пенсии дорабатывал (а в 40–50-х был, небось, в полной силе!). «Мы вам заменим. Но сами пожалеете». Он оказался прав – спать при 40-свечевой лампочке стало совсем невозможно. Вызывали на допросы редко. Развлечений было немного: книги, хотя глаза болели, раздача еды, прогулки, раз в неделю передача из дома. Часов не было, поэтому жили по «подъем!», «отбой!» Сразу после отбоя морщинистый старик, гремя по коридору сапогами, входил в мою камеру, осторожно неся в руках плошку с жидкостью. «Вам положено. Хлористый кальций». Я, морщась, выпивала. Он смотрел на меня сочувственно: «Знаю, что горечь ужасная. Но ведь для вашей пользы». «Ах ты гадина! – думала я. – Жалеет бедную девочку, что она горькое пьет. Какой добрый! А десять лет назад, небось, руки выламывал на допросах!» Трогательная история произошла с мухой. Завелась большая черная муха. От тоски я стала ее прикармливать, наливала на столик воды, она пила, чистила крылышки, все-таки какая-то компания. Но вечером она крутилась около ламповой решетки и беспрерывно жужжала. Я встала на стул и стала ее ловить полотенцем. Щелкнул глазок, по коридору затопали сапоги, началась настоящая паника. «Дежурный, в 82-м муха!» – кричала по телефону «надзорка», и в камеру ворвалась целая команда дежурных, стали гоняться за мухой, которая, проказница, им никак не давалась. Наконец, взгромоздившись на стул, старик старшо?й раздавил ее ручищами. «Теперь спите спокойно!» – ласково сказал он мне.
Конечно, я не была ни Морозовым в Шлиссельбурге, ни Кропоткиным, но по литературе о революционерах знала, что в камерах перестукиваются. А слух ведь очень обострился: так, гулящие за окном голуби казались мне рычащими львами, стук раздаточных мисок в коридоре – артиллерийской атакой… И я пристроилась к трубе парового отопления, чтобы услышать, что происходит в соседней камере. А вдруг там Пауэрс? Из-за стенки доносилось монотонное бормотание. Кто-то явно молился. Я стала ложкой стучать по батарее, делая паузы, чтобы понял, что это не просто шум, а сигналы. Но ответа не последовало, хотя я почти каждый вечер после отбоя начинала свой «перестук». Потом разобрала, что молятся за стенкой не по-русски, по-английски. (Как узнала потом, там сидел Джон Маккоун, отнюдь не Пауэрс.) То, что соседями моими были летчики-американцы, подтвердилось довольно скоро. На допросах мой следователь Коньков вначале каждый раз любезно осведомлялся, как я себя чувствую, что читаю. «Гоголя, Пушкина…» «Это правильно. А вот американцы… – и он захихикал, думая рассмешить и меня, – Библию попросили! Грешки замаливают!»
Получасовые одиночные прогулки происходили на крыше внутренней Лубянки, в маленьких отсеках, на которые была поделена крыша. Сквозь цемент пробивалась даже травка. Небо было близко, городской шум глухими волнами доносился до пленников, часто моросил дождь, ведь был сентябрь… Охранял эти крохотные дворики, разделенные невысокой бетонной оградой, один вертухай на вышке, вертелся то в ту, то в другую сторону. Смотрю, он наклоняется к кому-то из прогуливающихся и начинает давать урок русского языка: показывает на свой нос, шапку, небо. «Нос», «шапка» – повторяет кто-то из-за ограды. Ну что ж, решила я, раз не получилось с перестукиванием, надо начать переписку, как не поддержать собрата! Во время допроса, подписывая страницы протокола, я спрятала в рукав шариковую ручку. Коньков не обратил внимания. А в бумагу иногда заворачивали колбасу в передачах. И хотя она была промасленная, записку я на ней написала. По-английски, в школе учила: «How are you? My name is Ira. I am in room 82. What is your name? I wait your answer». Завернула в эту записку абрикос, мне много чего передавали, и перебросила послание через ограду, когда вертухай отвернулся. Но ответа я не дождалась. И Джон Маккоун, и Фримен Олмстед остались для меня невидимками.
В феврале 1961 года их освободили. То ли не хотели суда, на котором бы выяснилось, что территория была действительно нейтральной, то ли они «искренне раскаялись», то ли Хрущев сделал «жест доброй воли»… И в тот же день они вернулись в США. Через год они написали книгу, в которой описывали ужасные условия заключения, угрозы следователей «держать их в тюрьме всю жизнь», камеру, «параши»… Но ни слова о своей соседке. Отправились в свою Америку, а мы с мамой – в противоположном направлении, в Сибирь.
Итак, контакт с соседями не получился. Что оставалось? Когда от чтения начинали болеть глаза, вышагивала по камере, считала шаги, вспоминала стихи (ах, как это выручало!). Но дней через десять после суда все тот же худой старик объявил: «Собирайтесь с вещами! Поедете в Лефортово. Нашли вам подругу».
Лефортовская камера поразила своим комфортом. Высокие потолки (царская застройка!), через окошко даже сочится дневной свет, есть туалет, а не параша, свой чайник. На койке сидела испуганная женщина, полная, оплывшая от слез, немолодая. Звали ее Белла Исааковна. Она мало походила на шпионку или злостную валютчицу. Болтливая, слезливая, все время что-то откусывая, она поведала мне свою историю. Она была закройщицей в спецателье КГБ, в котором из заграничных материй шили модные костюмы для высших партийных чинов (даже для членов Политбюро!), а также для их жен. Вместе с ней по делу проходил и директор этого ателье, и главный бухгалтер. Дело их составляло 42 тома. (У нас с мамой было всего 4!) Почему же таким сугубо бытовым уголовным делом занимался высший орган советской разведки? Поскольку мне пришлось писать от ее имени бесконечные жалобы прокурору (она была полуграмотна), я скоро разобралась, почему она попала на Лубянку. Огромный многотысячный штат комитета нуждался в пище. Механизм не мог простаивать, челюсти не имели права лязгать вхолостую, а шпионов и вредителей-то не было! Как же оправдывать зарплату, получать повышения по службе? Да, и директор, и бухгалтер, и Белла Исааковна не были ангелами, были они просто мелкими мошенниками. БИ из дорогих тканей, шедших на костюмы советской номенклатуры, выкраивала обрезки, из которых потом кроила галстуки, в таком количестве, что сумела при благословении директора открыть при ателье галстучный цех. Галстуки, конечно, продавались за отдельную плату. Они, эти галстуки, сослужили ей неплохую службу – купила дачку в Кратове (по приговору суда она была конфискована). Но при всем при том – можно ли считать это особо опасным государственным преступлением?? Может, она при этом зауживала костюмы на начальственные животы и задницы?
– Пиши, деточка, пиши, – наставляла меня Белла Исааковна, которая родилась в Радоме, в местечке, и от своего акцента так и не избавилась. – Ни один из следователей, а особенно старший следователь Сыщиков (скажи, ну разве хорошего человека так назовут?), ничего не понимают в галстучном производстве. Обрезки, оставшиеся после кроя, годятся только в утилизацию, эти отходы можно было использовать только… и так далее. Жалобы в прокуратуру сводились к просьбе назначить переследствие с «компетентной» следственной группой, то есть переквалифицировать дело в уголовное, каким оно и было. Но на все «наши» жалобы приходили отказы.
О своем местечковом детстве она рассказывала неохотно, помнила только праздники – Хануку и Суккот, по-еврейски знала только начало молитв. Тем не менее под Новый год мы вместе с ней помолились еврейскому богу, съели ее любимый шоколадный торт. Она была завалена вкусными передачами от семьи, все время перекладывала поближе к окну разные салаты и колбаски (холодильника ведь не было), не переставая что-то жевала. И очень заботилась о своем больном желудке. Она была слишком запугана, в ней не было той теплоты и сердечности, что так обаятельны в характерах восточно-европейского еврейства. Тревоги о семье, о конфискованной даче перемежались жалобами на «подельников» – мол, во всем виновата бухгалтерша, она ее и заложила, а директор – жертва своей любви к этой бухгалтерше… Представляю, сколько наговорила она на эту даму на допросах.
Верховный суд СССР оставил приговор в силе. Сколько же отмерила советская власть Белле Исааковне за ее «левые» галстуки? 15 лет лагерей! Директору тоже 15, а бухгалтеру – 10. Как Пауэрсу. Ах, Белла Исааковна! Не в том ателье вы работали!
На меня она сначала смотрела с жалостью. «А говорили, милльоны у вас… пальтишко-то у тебя некудышное. Были бы ножницы, я бы тебе перекроила! А у мамы-то хоть есть норковая шуба? И этого не купили!»
Наш приговор тоже был оставлен в силе, и мы отправились по этапам. С очередным примером социалистической законности я встретилась в боксе свердловской пересылки. Мы с мамой присели на скамейку у стены, а по крохотной камере, ни на минуту не останавливаясь, из угла в угол ходила высокая худая баба в какой-то кацавейке и низко повязанном платке. Она не говорила ни слова. Примерно через час мама робко спросила: «У вас, наверное, большой срок?» Неожиданно баба ответила: «Четыре года». И продолжала свое хождение. Через полчаса спросила уже я: «А за что?» – «Да мужа топором рубанула». Мама: «Наверное, плохо жили?» – «Да нет, хорошо». Бабу скоро забрали на этап. «Да, Ирка, – задумчиво сказала мама. – Надо было и мне кого-нибудь топором рубануть. Четыре года бы дали. А то восемь».
С Беллой Исааковной мне суждено было встретиться еще раз, когда в начале мая 1961 года нас ошибочно завезли в бытовую зону в Мордовии. Только что в космос взлетел великий Гагарин, и все тюрьмы и лагеря ходили ходуном в предвкушении амнистии. Это начало мая помнится как необыкновенно жаркое, даже в поле выводили в шесть утра, а в 12 уводили опять в бараки на «сиесту». Белла Исааковна, еще более отекшая, в каком-то пестром халате, сидела на крылечке инвалидного барака и обмахивалась самодельным веером. Ее признали инвалидом, на работу не выводили. Она мне очень обрадовалась.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: