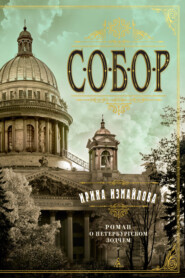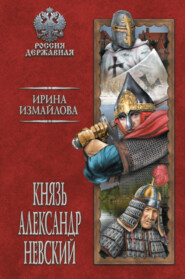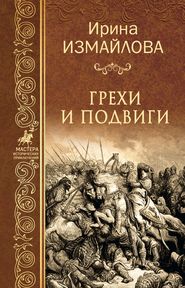По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собор. Роман с архитектурой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но до его отъезда произошло событие, сделавшее прощание друзей совсем иным, нежели они полагали.
Однажды, это было в конце октября, Огюст встретил одного из своих знакомых, с кем некогда вместе служил в полку Дюбуа, и они, зайдя в какой-то трактирчик, провели там приятный вечер, после чего расстались, и Огюст, оставшись в одиночестве на темной и безлюдной улице, почувствовал вдруг досаду и тоску. Идти в свою пустую квартиру, где наверняка уже храпел на диване Гастон и в буфете было немного сухарей и четверть бутылки какой-то кислятины, ему ужасно не хотелось. И он решил пойти к Элизе…
Идти было далеко, экипажей по дороге не попадалось, молодой человек добрался до знакомой улицы, за которой начинался сад, в половине двенадцатого.
Поднявшись по лестнице, он уже собирался было постучать в дверь, не рискуя так поздно дергать шнурок колокольчика, который (он это знал) зазвонит на всю лестницу, но тут вдруг его рука застыла, занесенная над дверной перекладиной. Из-за двери до него отчетливо донесся мужской голос и, даже не напрягая слуха, он узнал его… То был голос Модюи.
– Ну в самом деле, Элиза, ты подумай, я тебе это серьезно говорю! – Тони настаивал на чем-то, говорил решительно и одновременно вкрадчиво.
В ответ раздался беззаботный Элизин смех, и от этого смеха кровь, разогретая в трактире старым бургундским, ударила в голову Огюста.
– Ах, Тони, как можно говорить серьезно такие вещи! – хохотала Элиза.
– Да нет же, право, – продолжал Антуан, – подумай… Ведь ваш с Огюстом роман скоро закончится, ты и сама это видишь. Вы оба вносите в это слишком много пыла, и у вас получается не красивый роман, а трагедия, а кому она нужна? Ты горда, а он строптив… И ревнив, к тому же…
– Ты находишь, Тони? Ха-ха-ха!
– Перестань! Тебе совсем не так смешно, милая Лизетта. Хотя, я думаю, у тебя хватит здравого смысла пережить ваш разрыв. Ведь Огюст не единственный твой любовник?
– Конечно не единственный, а то как же? Неужели ты мог подумать, Тони, что я больше никому-никому не нравлюсь? Ха-ха-ха!
– Ты нравишься многим, – пылко воскликнул Модюи. – Но можно ли на них прочно рассчитывать?
– На кого? – весело спросила Элиза. – Ты всех их знаешь, мой милый Тони?
Антуан хмыкнул.
– Барон дю Ревэ, например, слишком стар и может отдать Богу душу, а этот сухопарый драгун, который обхаживает тебя с прошлой осени, мне кажется, уже женат… Но ведь ты и мне нравишься, Лизетта, и нравишься давно, и я отношусь к тебе серьезнее их всех, хотя до сих пор не получил за это ничего, кроме улыбок… Право же, едем со мной в Петербург!
Монферран, не веря себе, прислонился пылающей головой к косяку двери, и несшиеся из-за нее слова зазвучали еще громче и отчетливее.
– А что, скажи мне, пожалуйста, я стану делать в Петербурге?
– У меня в Петербурге огромные связи. Я устрою тебя в любой цирк, в любую труппу. Могу даже в балет… Тебе, правда, уже двадцать лет, но об этом никто не догадается, а я скажу, что восемнадцать…
– Нет! – хохотала Элиза. – Семнадцать, Тони, семнадцать! На большее я не согласна!
Потом она помолчала и так же весело спросила:
– Ну а что будет с Анри? Как он переживет сразу мою измену и твою?
– Но ведь он знает, что я первым с тобою познакомился, так что с моей стороны нет никакой измены, – голос Антуана был неестественно игрив. – А ты, шалунья, изменяла ему давно.
– Ах да! А я и забыла… А ты напомнил…
– И потом, – настойчиво продолжал Антуан, – повторяю тебе: до вашего разрыва остались считанные дни. Я называл тебе причины. Могу добавить еще одну: Огюст не лишен снобизма. С годами он делается все более похож на своего покойного дядюшку Роже…
– Ты стал это замечать, милый Тони, после того, как увидел его альбом, да? Тот, что он подарил русскому царю? – тем же шутливым тоном спросила мадмуазель де Боньер.
Слышно было, как Модюи чем-то сильно поперхнулся.
– Ч… черт возьми, вот женская логика! А при чем тут альбом? Ты поедешь со мной в Петербург? Решай!
Дальше Огюст не слушал. Он схватил за шнурок и что есть силы рванул колокольчик.
Дверь открылась. Элиза увидела его искаженное побелевшее лицо и отшатнулась, тихо ахнув. Модюи застыл в кресле, возле окна, вытаращив глаза, полные ужаса. Его ужаснуло не столько само внезапное появление товарища, сколько взгляд Огюста, полный сумасшедшей злости.
– Ты… – только и смог выговорить пораженный Антуан.
– Анри! – вскрикнула Элиза.
– Отойдите, мадмуазель! – страшным, холодным и спокойным голосом произнес Огюст. – Для меня не новость ваше лицемерие, и я переживу его легко. Где мне спорить за вас с баронами и драгунами?.. Но тебя, Тони, следовало бы за это убить!..
И, произнеся это, он вдруг увидел на туалетном столике Элизы, среди всевозможных мелких безделушек, большой черный пистолет с широким дулом. Потом он сам не мог вспомнить, как успел в одно мгновение схватить оружие и прицелиться…
– Огюст, что ты делаешь?! Опомнись!!!
Антуан вскочил с кресла, рванулся ему навстречу, потом, задрожав, метнулся назад и прижался спиной к стене.
– Ради Бога, приди в себя! – прошептал он. – Ты же и в самом деле меня убьешь!
Монферран коротко усмехнулся.
– Ко всему прочему, ты еще и трус, Тони… Да не стану я тебя убивать, много чести, а вот возьму и распишусь пулей на твоей наглой физиономии, оставлю на ней след!
В это время Элиза шагнула вперед и оказалась между ними. Ее лицо покрыл румянец, губы презрительно подрагивали.
– Не разыгрывай дурную драму, Анри! – она протянула руку и спокойно взялась за расширенное пистолетное дуло. – Отдай мой пистолет. Он не настоящий, он цирковой и стреляет длинной цветной лентой. Если ты выстрелишь, я умру со смеху, а меня ведь ты не собираешься убивать…
От этих слов Огюст пришел в себя. От стыда и досады, от пережитого только что потрясения и невыносимой обиды ему хотелось разрыдаться. Он швырнул на пол игрушечное оружие, недоумевая, как мог спутать его с настоящим, и, прежде чем выскочить за дверь, успел услышать исполненный облегчения возглас Модюи:
– О, господи, Элиза! Да он же сумасшедший!
– А ты – подлец! – резко, уже безо всякого смеха ответила на это мадмуазель де Боньер. – Ступай отсюда вон! Обоих вас больше не желаю видеть! Деритесь на дуэли, подсылайте друг к другу наемных убийц, мне нет до этого дела! Прочь!
Окончательно очнулся Монферран уже у себя дома. Перед ним на столе стоял пустой графин, где уже не осталось ни капли вина, а за окном было утро, и надо было сменить мокрую от пота рубашку, причесаться и идти на службу, однако ему хотелось кинуться на улицу, нападать на прохожих и бранить их самыми скверными словами, нарваться на драку, орать площадные ругательства…
Он выпил большой стакан холодной воды и почувствовал наконец, что наполнявший его горячий жар остывает…
А неделю спустя произошло несчастье, которое (и так было суждено!) явилось последним актом драмы.
Не утерпев, Огюст отправился вечером в Олимпийский цирк. Ему хотелось, скорее всего, в последний раз увидеть Элизу, но была у него и тайная надежда, может быть, помириться с нею, ибо, поразмыслив, он понял, что в подслушанном им разговоре не было ни слова, обличавшего ее неверность – она говорила с насмешкой о мнимых своих любовниках, скорее всего, издеваясь над Антуаном, а не подтверждая его догадки… Огюсту опять было стыдно перед нею.
Выступала Элиза уже не с прежним номером, теперь он стал еще сложнее и опаснее, и она проделала все с обычным блеском, вызывая бурные рукоплескания всего цирка. Однако перед самым опасным трюком, прыжком через горящее кольцо, наездница окинула ряды зрителей взглядом, увидела во втором ряду взволнованное лицо своего любовника, и глаза ее вдруг потемнели от гнева и боли. Она вскачь направила коня к пылающему кольцу, и в тот миг, когда конь прыгнул, Огюст понял, что сейчас всадница упадет…
Элиза взлетела в сальто над седлом, пронеслась впереди коня через горящее кольцо, развернулась, чтобы сесть в седло совершившего прыжок скакуна, но ее как-то занесло вбок, и она рухнула на скользкий лошадиный круп позади седла, не сумела удержаться и покатилась в белые опилки арены…
Отчаянный крик Огюста потонул в громовом реве зала.