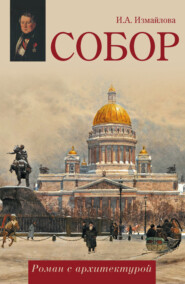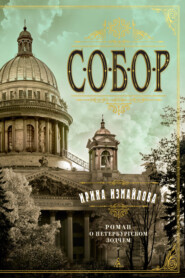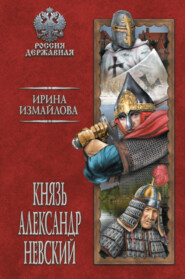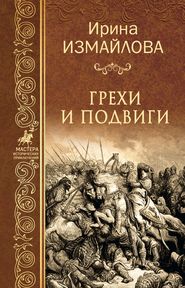По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1612. «Вставайте, люди Русские!»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ежели боишься, что в Кремль не попадешь, так идем со мною: я тоже Мстиславского увидеть хочу, так что и сам туда направляюсь. Со мною стрельцы тебя пропустят.
– Стрельцы? А мне говорили, будто у Кремля уже польскую охрану выставили…
Лицо князя Дмитрия на миг вспыхнуло бешенством:
– Это кто ж говорил такое?
– Да когда к городу подъезжали, какие-то служилые встретились, – немного растерявшись при виде его гнева, ответил Рубахин.
Пожарский нахмурился:
– Надо думать, это те, кто самозванцу крест целовать призывают. Раньше времени воду мутят, народ смущают. Да и сказать правду, не ударь мы в набат, уже стояли бы у Кремля поганые ляхи… Не дал им пока что московский люд войти в город. Но, боюсь, Совет наш, семибоярщина своего добьется! Ладно, что мы тут стали? Пойдем к патриаршим палатам, там, небось, уж собрались все. Только коней лучше в поводу вести: видишь, как неспокойно на улицах – не ровен час или кони испугаются и тебя с холопом твоим сбросят, или дурень какой под копыта угодит…
Глава 4. Патриаршии палаты
Покуда они шли, деловито проталкиваясь сквозь заполонившую улицы возбужденную толпу, князь Пожарский приступил к Рубахину с расспросами, и приезжий подивился его искренней тревоге и волнению. Князь, живший ныне вместе со всею Москвой точно на пороховой бочке, душою болел за далекий, казалось бы, чужой ему Смоленск. И немало знал о том, что там творится, хотя наверняка и об этих событиях ходили повсюду самые разные толки.
Король Сигизмунд, осаждавший гордую крепость вот уже второй год, надеялся теперь, когда царь Василий был свергнут с престола, положить конец долгому сопротивлению смолян. Защищать им было теперь некого, бояре явно склонялись к тому, чтобы присягнуть королевичу Владиславу, и от них уже приезжали к стенам Смоленска послы – передавали воеводе Шейну, что надобно сдаться.
Но Смоленск не сдавался! Непокорный воевода ответил, что как не пожелал он признать ни того, ни другого самозванца, так не станет теперь и целовать крест иноземцу, да и в намерение того принять Православие нисколько не верит.
Между тем, не дождавшись заключения договора, бояре многих городов и уделов принялись присягать будущему «православному царю» Владиславу. Иные пуще смерти боялись, что нагрянет самозванец со своим войском, иным вконец надоела бесконечная война и бесчисленные разорения. А может, всем просто хотелось, чтобы все это, наконец, закончилось. Как угодно, но закончилось!
Но среди всеобщего смятения и неразумения: что же будет и с кем идти, среди отчаяния одних и беспричинного ликования других, град Смоленск стоял и оборонялся с прежним упорством, все так же заграждая армии Сигизмунда прямой путь на Москву.
Боярин Рубахин, не таясь, принялся рассказывать князю Дмитрию, как тяжко приходится ныне осажденным, сколько их уже погибло, сколько мучились зимою от жестокой цинги, наступившей из-за однообразия пищи, как много в гарнизоне раненых.
– Но наш воевода боярин Шейн все так же крепок, будто скала нерушимая! И видит, что уж неоткуда ждать помощи, а о сдаче и думать не хочет. Патриарх Гермоген посылал к нам грамоты свои, призывал воле ляхов не покоряться. Воевода и сказал всему гарнизону: «Лучше смерть примем за Православную Веру, ляжем мертвыми на своей земле, чем разбойникам этим покоримся!»
Когда смоленский посланец повторил эти слова полководца, глаза князя Дмитрия вспыхнули, и до того спокойное лицо так и загорелось румянцем.
– Ах, нам бы да всем сейчас таких воевод! – воскликнул он. – Каждому бы городу русскому такого Шейна, так уж бежали бы отсюда ляхи, как лисицы от своры собак!
– Но ведь уж все решено? – осторожно спросил Рубахин. – Ведь уж есть договор у семибоярщины с королем. Как же теперь-то сопротивляться?
– А вот так, как ваш воевода! – сурово бросил Пожарский. – Вон, набат слышишь? Москва тоже не хочет польского полона. Хотя чует мое сердце, из-за свар этих да споров – кого звать, кому крест целовать, кто царствовать будет, – не сумеем мы дать врагу единый отпор. Нет в людях общего разумения, будто мы дети малые… Вот, бесчинствует в русских городах этот самозванец, сыном государевым себя именует, Бога не страшась. Хотя какой ему Бог, если он – нехристь! Но идут же к нему в войско люди православные! Верят в эти сказки! Уж он и вылез ныне по уши: не стесняясь, с ляхами дружбу водит, их войско своему войску на подмогу вызвал и столько людей русских погубил, что несть числа! Маринку обрюхатил, ведьму окаянную… А у нас в народе иные вновь говорят: «благочестивая царица»! Это она-то?! С одним спала, от другого зачала, ни с кем ни венчана! Тьфу!
– Ты ведь от войск самозванца Калугу оборонял? – с прежней сдержанностью спросил боярин Роман. – Слыхали у нас, как славно ты тогда сражался.
– Не я один там дрался, – отмахнулся князь. – Но тогда еще у Царства Московского государь был. Какой никакой, но государь, законно на престол возведенный, Василий Иванович Шуйский. И можно было напомнить любому воеводе: «Ты, мол, царю крест целовал!» А что теперь? Ведь, гляди, и впрямь Владиславу крест поцелуют, да ляхам московские врата отворят!
Они в это время уже шли мимо кремлевских палат, остановились, перекрестились и поклонились Архангельскому собору и свернули во двор патриаршего подворья.
– А ну как Владислав на самом деле в нашу веру крестится? – вновь робко подал голос боярин Роман, опасливо косясь на бродивших вокруг патриарших палат стрельцов. – Тогда и можно бы крест поцеловать…
– Поклялся волк мяса не есть, да травой подавился! – теперь в голосе князя Пожарского прозвучал уже не гнев, а насмешка. – Кто ж поверит в его крещение? Ладно, боярин Рубахин, пришли мы. Только, кажись, опоздали. Бояре-то уж там – вон сколько их холопов по двору бродит. Эй, люд служилый, пустите ли нас к Владыке?
Стрельцы-охранники сперва смерили пришедших недоверчивыми взорами, но тотчас почти все узнали князя Дмитрия и безо всяких возражений указали ему на высокое, обрамленное пузатыми колоннами крыльцо:
– Иди, батюшка, иди! Может, что вызнаешь важное, так и нам расскажешь.
– Непременно расскажу.
Однако дальше просторной горницы, за закрытыми дверями которой слышался нестройный шум и отдельные громкие голоса, Пожарскому и Рубахину пройти не удалось. Дорогу им преградили уже не стрельцы, но шестеро молодых боярских холопов, крепких парней, одинаково стриженных «в кружок», с одинаковым – упрямым и угрюмым выражением лица.
– Князь Федор Иванович сказывали, чтоб пускали только тех, кого Владыка к себе звал. Из совета боярского, то есть! – кратко объяснил один из них.
Холопы были без оружия, которого здесь, в покоях Патриарха, носить не полагалось, однако их могучее сложение и бычья осанка не оставляли сомнений: в случае чего миновать этих «лбов» будет нелегко, тем более, что и гости оставили свои сабли стрельцам у входа.
Пожарского не напугал грозный вид стражей, но затевать драку перед дверями Владыки он определенно не желал.
– Что же, – миролюбиво спросил он у стражей, – князю Мстиславскому не охота знать, что сей час в городе творится? В набат бьют, народ в смущении великом, а глава совета и на улицу носа не кажет, и посланных от народа выслушать не желает? Вот, боярин из Смоленска прискакал, донести хочет, как там русские люди с ляхами бьются. Неужто и его не стоит выслушать?
– Княже, не мы ведь приказы отдаем! – уже с некоторым смущением ответил холоп. – Отчего оне не хотят, чтоб туда еще кто-то входил, нам не ведомо. Но ведь сам знаешь: пустим мы вас, а с нас потом шкуру ремнями спустят…
– Не изволь гневаться, Дмитрий Иванович! – подхватил другой. – Мстиславский ныне ходит чернее тучи, чуть что – орать принимается. Так можно ли нам поперек его воли шаг ступить? Сделай милость – обожди, покуда они там шуметь окончат. Выйдет когда, тут и говори с ним.
– Но, может быть, все же вы доложите Владыке Патриарху, что к нему гонец смоленский прибыл? – настаивал Пожарский. – Ведь здесь – его покои, значит – его воля.
– Это только так кажется! – совсем тихо пробормотал один из холопов, а другой при этом состроил ему грозную рожу и тихонько дернул за подол длинной синей рубахи, видневшейся под полураспахнутым кафтаном.
Боярин Роман, наблюдая за этим разговором, совсем смутился и уже пожалел, что так решительно отправился сюда вместе с князем. Что, если за этой плотно затворенной дверью вспыхнет сейчас ссора, разгорится мятеж, что, если выйдут оттуда бояре в гневе и смятении, и в таком же гневе будет после встречи с ними Владыка? О крутом нраве Гермогена слухи ходили повсюду, и многие утверждали, что вряд ли кому захочется стать причиной его негодования. Может, лучше было бы выждать и попытаться добиться приема у Патриарха, когда тот будет один?
А с другой стороны, Рубахин лишний раз убедился, что князь Пожарский, судя по всему, пользуется уважением и здесь, даже у этих вот суровых боярских стражей, и с ним, в любом случае, легче добиться, чтобы бояре совета и Владыка приняли и выслушали приезжего…
Пока он так размышлял, голоса за толстыми дубовыми створками двери вдруг приутихли, затем послышались тяжелые, быстрые шаги, и дверь неожиданно распахнулась во всю ширину.
При этом все шестеро холопов шарахнулись прочь с проворством, удивительным для их бычьей мощи, и с одинаковым выражением детского испуга на лицах.
– Владыка! – только и успел выдохнуть один из них, которого резко распахнувшаяся створка как следует саданула по спине.
– А нечего было на пути стоять! – громко произнес возникший на пороге человек.
И сразу стало тихо. И за его спиной, в огромной палате, откуда потоком цветных пылинок хлынул свет, и в горнице, где только что кипел спор меж князем Пожарским и стражами.
Роман Рубахин впервые в жизни увидал Патриарха Гермогена и был поражен его обликом куда более, чем всеми рассказами об этом человеке.
Он знал, что Владыке от роду уже почти восемьдесят лет, что он более двадцати лет монашествует и строжайше соблюдает все посты и воздержания. К тому же в последнее время, в пору смуты, ему не раз и не два приходилось выдерживать и жестокие нападки, и несправедливую клевету, и даже угрозы расправы. Однажды, в дни мятежа и свержения с престола царя Василия, смутьяны с оружием ворвались на патриарший двор и всячески поносили и оскорбляли Владыку, твердо поддержавшего Государя. Он не испугался и не поколебался в своей твердости, однако все эти испытания не могли не сказаться на силах и здоровье старца.
И, тем не менее, Гермоген не выглядел ни дряхлым, ни немощным. Он был высок ростом, и черная монашеская ряса делала его еще выше. Худощавый, но не сухой и не тощий, он казался достаточно крепким, хотя его лицо и покрывала бледность, еще усиленная снежной белизной куколя[15 - Куколь – головной убор Патриарха.] и ниспадающей на грудь бороды.
Чего было больше в этом лице? Воли, ума, покоя, странного при стремительности его движений и резкости голоса? Черты этого старческого лица были тонки и точны, словно их долго рисовала рука великого мастера, заранее, многие годы назад определив старцу стать именно таким. Глаза смотрели из-под тонкой черты бровей пронзительно и ясно, их взгляд был очень тверд, но в этой твердости угадывалась и нежданная кротость – кротость, которую дает только полное сознание своей правоты.
Патриарх быстро осмотрел горницу и, увидав Пожарского, чуть приметно кивнул ему:
– К кому ты, Дмитрий Иванович? Ко мне, али к Семиглавому змию?
– К змию, Владыка, – низко склонившись и сложив руки, князь подошел под благословение и осторожно коснулся губами осенившей его руки.