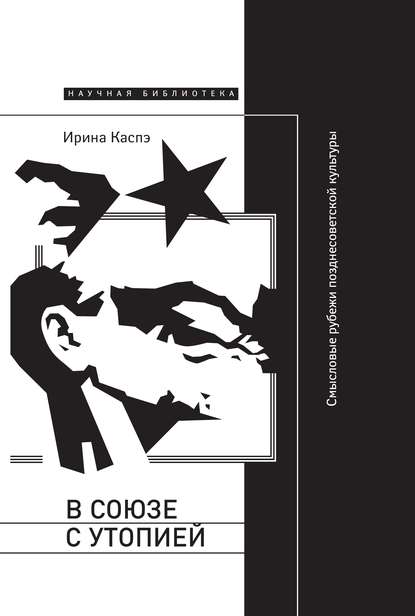По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скромный и временный проект монументальной пропаганды (как он задумывался Лениным) словно бы вырастает позднее до монументальности «большого стиля»; монументальность – в полном соответствии с требованием единства содержания и формы – становится основным принципом репрезентации советского возвышенного и позволяет отчасти понять, как оно было устроено. В этом отношении характерен принятый в советской культуре взгляд на храмовую архитектуру как на намеренно подавляющую «маленького человека», заставляющую его почувствовать себя ничтожным. Но если допустить, что это чувство было взято из совсем другого опыта – из повседневного опыта самих носителей культуры, можно предположить также, что оно не исчерпывалось подавленностью и, конечно, включало в свой сложный состав и ликование, и экстаз, и благоговение. Гигантизм здесь был призван не только подавлять; он обладал притягательностью – одну из возможных причин этой притягательности я бы определила, переиначив известный термин Анри Лефевра, как символическое «перепроизводство пространства».
Директивная текстуальность уравновешивалась в советской традиции риторикой «открытых просторов» (от широты родной страны до бескрайности космоса) – созданием символических мест для всех, кому «некуда жить». Высотные здания, масштабные панно и плакаты поддерживают иллюзию растущего как на дрожжах пространства, явно перерастающего рамки «наличного мира» и предоставляющего таким образом ресурс для всевозможных проективных конструкций («светлое будущее», «грандиозные цели» etc.). Именно через такое «перепроизводство пространства» на фотографиях 60-х годов вводится временная перспектива, преисполненная оптимизма. Так, на снимке Владимира Лагранжа «Физики» увлеченный диалог ученых разворачивается на фоне панно с изображенными в полный рост великанскими фигурами Ивана Курчатова, Ивана Павлова, Энрико Ферми – это пространство «большой науки» провоцирует желание продолжить рекурсию и увидеть современников фотографа взглядом из будущего (разумеется, светлого) (ил. 6). На фотографии Воздвиженского и Свиридовой «У монумента» собственно монумент превращается в дорогу, устремленную в небо, по которой предстоит взбираться грядущим поколениям (ил. 7)[8 - Любопытно, что эта, вне сомнения, «нарративная» фотография имеет литературный прототип – ср. описание «памятника первым людям, вышедшим на просторы космоса» в утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»: «Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолетом старинного типа – рыбообразной ракетой, нацелившей заостренный нос в еще недоступную высоту. Цепочка людей, поддерживая друг друга, с неимоверными усилиями карабкалась вверх» (Ефремов, 1958 [1957]: 69).].
Монументальная несоразмерность «человеческим масштабам», безусловно, активизирует утопическую оптику. Можно вообразить, что «перепроизводство пространства» – следствие смысловой герметичности утопии, ее стремления прервать цепь смыслообразования, замкнуть означающее на означаемом, заменить символическое функциональным: замкнутый на самом себе «буквальный смысл» разбухает до таких исполинских размеров, что начинает казаться символом. По большому счету утопический гигантизм только имитирует отсылку к трансцендентным значениям – в его основе принцип тавтологии и самовоспроизводства, возвышенное понимается здесь как гипертрофированное: гипертрофированные человеческие тела и лица, запечатленные на мозаичных панно или отлитые в бронзе, – увеличительные зеркала, в которых отражается сама утопия.
Ил. 7. Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова. «У монумента». Сер. 1970-х
Ил. 8. Игорь Гаврилов. «Сбылось». 1990
Отраженное, автореферентное и окончательно утратившее реальность пространство монументальной пропаганды попадает в кадр Игоря Гаврилова, сделанный в самом конце «перестройки» (ил. 8). В онлайн-интерью журналу «Русский репортер» фотограф сопровождает этот снимок следующим комментарием:
Это 90-й год, задание журнала «Тайм» снять оформление города перед 7 ноября. Это последнее 7 ноября, когда прошла демонстрация коммунистическая. Вот это 6 ноября 1990 года снято. И кадр был напечатан в «Тайме», и потом он вошел в лучшие фотографии года в Америке – здоровая книга, она у меня есть. А назавтра уже ничего не стало. Все, последняя демонстрация, последний парад. Абзац[9 - http://www.rusrep.ru/article/2013/03/24/gavrilov/.].
3
Город в сновидении – нечто отчужденное, то, что душа на время или навсегда покинула и за чем наблюдает со стороны; отчужденное от спящего сознания тело, мир без души.
Сонник
Механизм монументальной пропаганды был приведен в действие работой читательского воображения, утопической рецепцией – этот факт не означает, что ленинский проект следует считать «осуществленной утопией», но позволяет лучше понять происхождение представлений о «советском утопизме». На разных этапах реализации (в том числе и тогда, когда утопическое находилось, по сути, под официальным запретом) этот проект, бесспорно, создавал условия для утопического взгляда: город начинал восприниматься как «носитель информации», как пространство, в котором разворачивается «спланированный и читаемый текст» – авторитетный, но не имеющий автора, транслирующийся от лица некоей универсальной нормы, каталогизирующий социальную реальность и подчиняющий ее регулятивному и ритуальному проговариванию. Утопический образец такого заговаривающего городскую жизнь текста можно обнаружить, конечно, не только в Городе Солнца, но и, например, в уже упоминавшейся мной Икарии, жителей которой постоянно сопровождают плакаты с инструкциями – от рецептов блюд до распорядка дня. Дидактика мемориальной пропаганды, не привязанная к повседневным городским маршрутам, становится фундаментом, на котором позднее выстраиваются различные элементы советского понимания урбанистической функциональности – и стенды наглядной агитации, посвященные тем или иным бытовым вопросам, и унифицированные информационные табло, и вывески, редуцированные до простейшего номинативного сообщения (в этом смысле плакат «Слава КПСС!» и, скажем, вывеска «Столовая» в равной мере производят впечатление семантической стройности и семантического аскетизма, беспримесного языка классификации и нормы – разумеется, если смотреть на них сегодняшним взглядом, успевшим привыкнуть к аляповатому многообразию рекламных месседжей, к разноречивому потоку городских информационных шумов). Итак, текст постепенно «врастает» в советское городское пространство и «отрывается», «отслаивается» от него впоследствии, на закате социализма – за этими визуальными метафорами стоит характерный для утопии интерпретативный сбой, когда декларативное стремление к тотальной ясности оборачивается утратой смысла, а сверхинтенсивная семиотизация повседневности начинает выглядеть как орнаментальная практика.
Дальше мне хотелось бы привлечь внимание к другой утопической рецепции, которая остается за пределами тотального взгляда, описанного де Серто. В исследованиях пространства наиболее влиятельная линия размышлений о возможности подобного «другого взгляда» связана с концепцией «гетеротопии», предложенной Мишелем Фуко. «Гетеротопия» – обретшая место утопия – определяется им как промежуточное пространство между приватной и публичной сферами, которое обладает специфическим потенциалом маргинальности, ненормальности, здесь сосредоточен некий заряд сомнения по отношению к конвенциональным нормам, переворачивания привычных порядков (см.: Бедаш, 2010). Эта концепция, впрочем, признается специалистами слишком бегло изложенной, слишком противоречивой и туманной, а попытки ей следовать нередко оборачиваются апологией ускользающих «странных пространств» (Харламов, 2010).
Однако далеко не всякое странное, пограничное, экзотическое пространство мы готовы будем воспринять как утопию. Здесь вновь понадобится теоретическая помощь Луи Марена: он полагает, что утопия – не только необычное, но прежде всего «нейтральное» пространство. Идея нейтральности утопического, возможно, наиболее важна для самого Марена и наиболее загадочна для его читателей. Он пытается объяснить ее то через метафору нейтрализации (утопия нейтрализует противоположности, застывая на «нулевом градусе» диалектического синтеза и обнаруживая позицию, не приближенную ни к одной из полярных категорий, – кантовский «средний термин» (Marin, 1990 [1973]: xiii)), то через метафору нейтральной территории:
Нейтральность – это порог, граница, устанавливающая предел внутреннему и внешнему, территория, где выход и вход меняются местами и фиксируются в этом изменении; это имя всех границ, заданных через мышление о границе: контрадикция как таковая (Ibid.: xix).
Интуитивно понятно, что классическая утопия не допускает не только семиотической, но также (и это, конечно, связанные вещи) эмоциональной чрезмерности (не случайно один из постоянных мотивов в научной фантастике, в том числе советской, – безэмоциональность людей будущего). Репрезентируя беспредельное счастье, утопический текст вряд ли способен вызвать у своих реципиентов бурный, непосредственный восторг, чаще всего он вызывает скуку (Ruppert, 1986: 11), однако Марен улавливает еще и чувство утраты, сопутствующее восприятию утопического. Он связывает загадочную нейтральность с не менее загадочной концепцией утраченной памяти – утопическое реализуется через забвение, через вытесненную неудачу, через репрессированное знание о том, что «вечное счастье» достижимо лишь ценой смерти времени (в конечном счете – просто ценой смерти) (Marin, 1990 [1973]: ххvi). Более того, само забвение предается забвению, коль скоро классическая утопия манифестируется как пространство монолитной ясности, в принципе исключающее возможность неполноты памяти.
Впоследствии метафора амнезии оказывается чрезвычайно важна для utopian studies. С ней активно работает Джеймисон, прежде всего развивая тезис о том, что утопия забывает о собственной невозможности, что всякие попытки вообразить идеальный мир основываются на неразличении неизбежных препятствий, неизбежных пределов воображения. Но в нескольких местах Джеймисон вскользь упоминает и о другом забвении или, точнее, о страхе забвения, который возникает при столкновении с утопическим. «Благое место» предполагает отказ от опыта негативности, но удастся ли отграничить негативный опыт от собственного «я», выделить его в общем потоке памяти? Утопия, согласно Джеймисону, внушает тревожные подозрения, что в ее дистиллированном воздухе весь наличный опыт будет стерт, а идентичность – полностью утрачена, что мы «не найдем себя» в идеальном мире (Jameson, 2005: 97, Джеймисон, 2011 [2004]).
Строго говоря, Марен и Джеймисон описывают один и тот же страх – страх несуществования, и, кажется, он имеет отношение к бессубъектности утопического, о которой шла речь выше и еще будет идти в следующих главах. Мы никогда не можем окончательно найти, персонализировать голос, которым говорит утопическое. В классической утопии мы почти не слышим его напрямую – только через посредников (у Мора система посреднических инстанций устроена особенно сложно, включая в себя и путешественника Рафаила Гитлодея, и, собственно, эксплицитного автора). Мы колеблемся в оценках, пытаясь понять, что перед нами – игра персонального воображения или язык «объективной нормы», универсальных законов и представлений об общем благе. Нам предложено воспринимать утопический социальный порядок как желательный (наилучший из возможных, по утверждению Гитлодея), однако утопия не оставляет места вопросу, чье желание тут предъявлено. Чтобы присоединиться к утопии, необходимо принять это желание за свое собственное (и здесь, конечно, можно обнаружить ставящийся под сомнение постмарксистскими исследователями, в том числе, с определенными оговорками, и Джеймисоном, тоталитарный потенциал утопического – если считать проявлением тоталитарности не просто насильственное требование исполнять властную волю, но в первую очередь требование признавать эту волю своей). В этом смысле утопия – в самом деле выморочное, промежуточное пространство между «внутренним» и «внешним», одинаково закрытое и для субъектности, и для интерсубъективности.
Сновидческий опыт, с которым иногда сравнивают утопию, сопряжен с аналогичным замешательством – с невозможностью точно установить, «внутренними» или «внешними» обстоятельствами этот опыт задан, чьим голосом говорило с нами сновидение, и было ли оно в принципе «посланием», нарративом, и подлежит ли пространство сновидения реконструкции средствами памяти, и, главное, – оставался ли сновидец собой внутри сна, оставался ли он вообще.
Такого рода «странное пространство» – возможно, сновидческое, возможно, утопическое – мы видим на фотографии Игоря Пальмина (ил. 9): контрастное освещение, длинные тени и похожие на тени силуэты людей, расходящиеся в центробежном движении, тревожащий взгляд девочки, устремленный в камеру, и общее ощущение пустотности, незавершенности воспоминания – как будто был восстановлен лишь общий контур картины, а частные детали оказались забыты.
Ил. 9. Игорь Пальмин. «Закаменск, Бурятия». 1980
«Пустотность» – еще одно важное для Марена слово, позволяющее ему описывать устройство утопического текста и утопического пространства и помогающее нам чуть ближе подойти к ответу на вопрос об устройстве утопического взгляда. Конечно, такой взгляд в значительной мере настроен на различение «пустых» территорий – он фиксирует отсутствие тесноты, захламленности, любой визуальной избыточности (а избыточным, как мы помним, здесь будет считаться «нефункциональное» или, что в данном случае то же самое, «непонятное», то есть не поддающееся семиотическому контролю). Марена, безусловно, завораживает образ утопии как белого пятна, незаполненного пролома в плотной конструкции социальной реальности, таинственной бреши забвения, однако присутствие пустотных пространств в утопическом визуальном каноне можно описать и как своего рода семиотическую анемию, связанную с той блокировкой каналов смыслообразования и смыслопередачи, о которой уже говорилось, – с вытеснением семиотических шумов.
Ил. 10. Игорь Пальмин. «Здание на Яузском бульваре». 1989–1990
Эту анемию и амнезию (то есть в любом случае ограниченность смысловых ресурсов) классическая утопия компенсирует за счет механизма повтора: Марен замечает, что регулярность, цикличность, создание и воспроизводство копий – ключевое свойство утопического текста и утопической образности. Когда Рафаил Гитлодей отказывается описывать все пятьдесят четыре города идеального острова и ограничивается только одним, мотивируя это тем, что остальные точно такие же («Кто узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой степени сильно похожи все они друг на друга» (Мор, 1953 [1516]: 112)), он, конечно, экономит ресурсы – не только повествовательные, но и ресурсы воображения, и речь сейчас идет, разумеется, не о литературных способностях Томаса Мора, а о специфике задачи вообразить утопию. Различные формы визуализации принципа повтора – унификация, симметрия, метрический порядок в архитектуре, ритмичная игра света и тени etc., – особенно в сочетании с «пустотой» пространства, могут с высокой долей вероятности спровоцировать восприятие этого пространства как утопического. Подобным образом можно посмотреть, например, на еще одну фотографию Пальмина – своего рода этюд на архитектурную тему, подчеркивающий «классичность» большого сталинского стиля и безлюдность, безжизненность города, словно от человеческой цивилизации здесь остались лишь воинственные каменные изваяния и пустые телефонные будки (ил. 10).
Перспективу увлечься утопией Джеймисон сравнивает с увлеченностью конструктором Lego; то, что принято называть «утопическим воображением», действительно больше всего похоже на сборку маленькой модели мира из однотипных деталей (или складывание слова «вечность» из кубиков льда). Наше восприятие утопического текста не предполагает, скажем, сопереживания и идентификации с персонажами. Здесь невозможен литературный герой – «характер» или «действующее лицо», – поскольку (или наоборот – «и поэтому») невозможен сюжет; собственно говоря, появление сюжета превращает утопию в антиутопию. Обитатели классических утопий вместе образуют своего рода коллективного персонажа (Marin, 1990 [1973]: 56; Джеймисон, 2011 [2004]), что?то вроде хора в античном театре (Marin, 1990 [1973]: 68–69) – принцип повтора, производства копий реализуется и на этом уровне. Антиутопическая традиция интерпретирует такого коллективного персонажа через конструкции «обезличивания», «деперсонализации», «дегуманизации», через метафоры маски и униформы, через образы управляемой толпы – но, возможно, политическая тревога тут скрывает более глубокий утопический страх забвения себя, несуществования, смерти.
Фотография Свиридовой и Воздвиженского «Открытие станции Пушкинская» фиксирует усталые улыбки метростроевцев, к третьему ряду уже не очень отчетливые, а дальше, на задних планах кадра, лица постепенно «стираются», утрачивают черты, становясь в конце концов едва различимыми пятнами в плотной толпе. Многочисленные копии брежневского портрета начинают выполнять функцию масок, замещающих стертое человеческое лицо, – толпа как бы превращается в того, к кому обращены ее транспаранты, адресат оказывается адресантом: замкнутая коммуникативная система, замкнутое подземное пространство (ил. 11).
В распоряжении современного зрителя имеется достаточно очевидных контекстов, в которых может быть «прочитана» эта фотография. Он может соотнести ее, например, с известным итальянским агитационным плакатом 1932 года, изображающим стройные ряды патриотов с лицом Муссолини – Лоран Жерверо вспоминает этот плакат, описывая принцип «одинаковости» (equality), характерный для утопической эстетики (Gervereau, 2000: 361). Или со сложившимися к концу 1930-х годов канонами советских поэтических текстов о Сталине, о которых пишет Олег Лекманов: «Сталин вмещает в себя образы всех советских людей <…> Верно и обратное – в каждом из советских людей есть частичка вождя, а все они вместе, как мозаика, складываются в образ коллективного Сталина» (Лекманов, 2015: 174–175). Но подходящие случаю интерпретативные контексты поставляет и массовая культура последних десятилетий: ключевой эпизод фильма «Быть Джоном Малковичем» (1999) – когда множество одинаковых малковичей оживленно беседуют при помощи единственного слова «малкович», когда означаемое и означающее, знак и референт, даже не просто соответствуют друг другу, но и вовсе друг от друга неотличимы – тоже может быть увиден утопическим взглядом, улавливающим принцип одинаковости, эквивалентности, повтора, на сей раз перенесенный во «внутреннее пространство» человеческого сознания или подсознания. Пугающий образ герметичного «внутреннего пространства», населенного бесчисленными дублями одного и того же лица, позволяет задуматься о том, какое чувство все же является для утопии исходным: страх забыть и утратить себя или страх с собой столкнуться.
Ил. 11. Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова. «Открытие станции Пушкинская», цикл «Время иллюзий». 1975
4
В Утопии ничто не раздражало ни зрения, ни слуха. Воздух, некогда загрязненный мешаниной всяческих шумов, был теперь прозрачен и тих. А звуки, которые все же ложились на эту тишину, напоминали четкие красивые буквы на большом листе прекрасной бумаги.
Герберт Уэллс. «Люди как боги». (Перевод А. Чернявского)
В заключение мне представляется уместным сослаться на фотопроект, придуманный и осуществленный уже в 2000–2010-х: болгарский фотограф Никола Михов документирует судьбу монументов «коммунистической эры». Название цикла – «Забудь свое прошлое» – связано с фотографией «Дом-памятник Болгарской Коммунистической партии, Бузлуджа»[10 - http://www.nikolamihov.com/forget-your-past.]. В кадре нет ничего, кроме центрального входа в заброшенный мемориальный комплекс, построенный в 1981 году на вершине Балканских гор. Это пространство внушает элегический покой, как любая руина, и – ощутимую тревогу. В сущности, здесь соединяются оба ракурса, о которых шла речь в данной главе. Мы видим, как со стен осыпаются буквы пропагандистского текста, как раскрошившийся текст подменяется граффити – тем самым мусором многозначности, которого так боится утопия, – как место главного лозунга над входом занимает самодельный и самовольный призыв «FORGET YOUR PAST». То, что было задумано как мемориал, превращается в памятник забвения. Эту фотографию просто трактовать, и вместе с тем она дезориентирует. Перед нами, безусловно, «странное место», напоминающее сновидение. Я не знаю, чей голос требует от меня забыть прошлое (не исключено, что мой собственный), и обращен ли он ко мне в принципе, и как можно действовать в этом «нейтральном», нейтрализующем память пространстве – оставлены ли здесь какие?то возможности действия, кроме неостановимого процесса письма, кроме бесконечного рисования на стенах.
Ужас утратить себя вместе с собственным прошлым, скрытый в классической утопии, но помещенный прямо в центр кадра Николы Михова, – едва ли не самое актуальное переживание, связанное с восприятием советской истории. В российском контексте мы можем наблюдать, как в ситуации непроясненной субъектности такой страх (наряду, конечно, с множеством других страхов) блокирует и процедуры забвения, и процедуры памяти. Но это, впрочем, сюжет для другого исследования.
«Утопия принадлежит миру книги и знака», – подчеркивает Марен (Marin, 1990 [1973]: 69). Утопическая рецепция – в значительной мере упражнение на «забывание себя», на вытеснение непосредственного, наличного опыта, на избегание включенного взаимодействия с другими. Сегодня в utopian studies больше распространен интерес к «диалогичности» утопии, к ее способности провоцировать реципиента на индивидуальное достраивание предложенных в ней схем. При этом в тени остается другая сторона утопического. При всей своей декларативной одержимости социальным[11 - Ср. попытку использовать «утопический метод» для разговора о «траектории и границах социологии» (Levitas, 2013). См. также размышления о связи «утопического воображения» и «социологического мышления» в специальном номере журнала «Социология власти» – «Социология и утопия» (№ 4 за 2014 год), особенно – Вахштайн, 2014: 13–37.] утопия парадоксальным образом не допускает интерсубъективности: утопическое пространство полностью закрыто для того, что Альфред Шюц называл «ответом», – для любого внешнего воздействия, для всего, что способно оказать сопротивление и принципиально расширить смысловые ресурсы. Утопия – непрозрачное стекло, которое мы накладываем на существующую конструкцию социальной реальности. Зачем нам это нужно и что мы таким образом видим? Этот вопрос, пожалуй, особенно часто задается исследователями утопического. Безусловно, стоит задать его еще раз.
* * *
Между тем счастливые дети на фотографии Нины Свиридовой и Дмитрия Воздвиженского продолжают красить футбольные ворота. Утопический взгляд фиксирует пустотное пространство, уставленное, в полном соответствии с принципом повтора, одинаковыми коробами домов и одинаково голыми деревьями. Буквы на крыше одного из зданий – там, где в 1970-е годы обычно размещались официальные лозунги, – конечно, должны были бы стать подписью к этой картине: закономерно было бы увидеть здесь «МИР», или «СЧАСТЬЕ», или «СЛАВА КПСС!», но вместо этого в кадр неожиданно попадает вывеска «ОБУВЬ», полностью разрушающая интерпретативную инерцию, и референт в очередной раз ускользает от знака, и ветер треплет волосы.
2. Утопическое чтение: возвращаясь в «Утопию»
Aнализируя культурные практики визуализации утопии, Лоран Жерверо внимательно рассматривает карту наилучшего острова на самой первой и самой известной иллюстрации «Золотой книжечки» Мора – гравюре 1516 года: топография Утопии напоминает исследователю очертания человеческого мозга, заключенного внутри черепа, и одновременно эмбриона, заключенного внутри матки. Гравюра «подтверждает наши подозрения», пишет Жерверо: утопия – «цитадель разума», «эпицентр истины», «ядро мысли», заточённое в прочной черепной коробке и изолированное от окружающего хаоса; и она же помещена «в исходную чистоту, в мир до грехопадения, до родового крика, до сепарации» – этот дистиллированный мир со всех сторон защищен околоплодными водами, и утопия-эмбрион испытывает желание «никогда не родиться, никогда не поддаться времени» (Gervereau, 2000: 358).
Возможность увидеть эти впечатляющие образы, конечно, не в последнюю очередь задана историей утопической рецепции, сложившимися моделями читательского и зрительского восприятия – «нашими подозрениями» и ожиданиями, которые должны быть оправданы. Но в то же время в столь поэтичном описании Жерверо отражено желание, которое, по видимости, могло бы быть разделено многими, – проникнуть в самую суть утопического, уловить утопию, понять, что она собой представляет.
Такое желание тем более амбициозно, что известные способы рецепции литературных утопий с трудом поддаются классификации и совсем не поддаются унификации. Так, Питер Рупперт, первым предпринявший развернутое исследование этих способов, подчеркивает, что «Утопия» Мора «в разные времена <…> прочитывалась как революционная книга, которая предлагает радикальные изменения, как реакционная книга, которая ностальгически тоскует по простой монашеской жизни и средневековым идеалам, и как шутливая и ироничная книга, которая одобряет отсутствие какого бы то ни было мировоззрения» (Ruppert, 1986: 78). Список читательских реакций здесь, разумеется, заведомо не полон. Литературная утопия обладает статусом дидактического повествования, навязывающего некую жесткую программу восприятия, однако при этом – обнаруживает Рупперт – реальные практики чтения утопий удивительно разнообразны и, более того, противоречивы.
В последние десятилетия объект utopian studies все чаще описывается через внутреннюю противоречивость, как если бы все другие способы описания оказались в данном случае нефункциональными и нелегитимными. С такой точки зрения утопия основывается на противоречивых желаниях, располагаясь между стремлением к изменению, с одной стороны, и к стабильности – с другой: между историцизмом и хилиазмом, активизмом и эскапизмом, практицизмом и идеализмом etc. (Ruppert, 1986; Gervereau, 2000; Jameson, 2005). Нередко замечается также, что утопия зависает между противоречивыми целями – между эмансипацией и принуждением, разоблачением и обманом; она, как пишет Рупперт, «намеревается освободить нас от форм социальной манипуляции и дисциплинирования, но предлагает систему, которая в своем принуждении и манипулятивности тоже становится угнетающей» (Ruppert, 1986: 73). Наконец, утопия дискурсивно противоречива и может определяться как «жанровый гибрид» (по формулировке другого исследователя утопического чтения, Кеннета Рёмера) – читательское восприятие тут разрывается между типами письма, которые наделяются характеристиками правдоподобия (и предполагают «фактуальную» доказательность, описательность, аналитическую критику), и типами письма, имеющими дело с невероятным, небывалым, непредставимым (Roemer, 2003: 29).
Предполагается, что столкновение разнозаряженных полюсов производит «подрывной» эффект и побуждает читателя занять критичную и творческую позицию по отношению к тексту утопии: запускает «процесс конструирования нашего собственного утопического видения – если не на бумаге, то, по крайней мере, в нашем воображении» (Ruppert, 1986: 77). Противоречия и несогласованности указывают на исторические границы возможного, на пределы утопических желаний и могут позволить читателю (конечно, при условии, что он захочет избрать именно такую – «активную», «открытую», «диалогическую» – модель чтения) «диалектически исследовать» собственные исторические ограничения и собственные утопические мечты (Ibid.).
Этот «диалектический» взгляд на утопию сегодня вполне конвенционален (в целом его вполне разделяют Фредерик Джеймисон, Том Мойлан и другие авторитетные исследователи утопического). Он сформировался не без влияния Луи Марена, полагавшего, что утопия выявляет скрытые, вытесненные, не проявленные в культуре социальные и когнитивные противоречия (впрочем, тут же их «нейтрализуя»); существенную роль сыграли и концепции, закрепляющие за утопическим текстом эффект «отчуждения» (Morson, 1981), «когнитивного остранения» (Suvin, 1979), «когнитивного диссонанса» (Pfaelzer, 1984) – продуктивного замешательства, благодаря которому читатель приобретает возможность увидеть собственный «настоящий момент» дистанцированно (Roemer, 2003: 63) и осознать его как момент исторический, вписать в исторический контекст (Ruppert, 1986: 166).
Только такой тип утопического чтения – предельно независимый от текста, настроенный на производство собственных альтернативных версий наилучшего общества – представляется Питеру Рупперту (и далеко не только ему) осмысленным и интересным. Рупперт настойчиво показывает, что все прочие варианты читательского обращения с утопиями обречены на фрустрацию и провал – утопия будет казаться скучной, наивной, авторитарной, неубедительной. Иными словами, единственный способ справиться с противоречивостью утопии – признать противоречия продуктивными и вдохновляющими; единственный способ преодолеть герметичность утопического письма, его непроницаемость для адресата – вступить с утопией в творческий диалог. Таким образом, будучи сторонником самых либеральных взглядов на литературную рецепцию и отстаивая читательское право на свободную трактовку, не ограниченную никакими устойчивыми представлениями об авторском замысле, Рупперт, по сути, не оставляет аудитории литературных утопий выбора – ей придется либо следовать «диалогической» модели, либо вовсе отказаться от заведомо обреченных попыток прочесть утопию. Если я и утрирую, то лишь с целью сделать более очевидными те «исторические ограничения» – в терминологии Рупперта, – в рамках которых существует привлекающий его способ воспринимать утопический текст.
Конечно, «активная», «диалогическая» модель утопической рецепции – как она описывается Руппертом и его коллегами – отражает потребности и тревоги читателя конца XX века, испытывавшего желание реабилитировать утопию, очистить ее от прямых отождествлений с катастрофами тоталитаризма и политического насилия, найти ей новое место в актуальном интеллектуальном ландшафте[12 - О всплеске интереса к утопиям (начиная с 1960-х годов), который сопровождался переопределением задач utopian studies, см.: Moylan, 2000: 96.].
Поэтому ценность концепции Рупперта (и причина ее довольно подробного разбора здесь) мне видится не столько в предложенной «позитивной программе» чтения утопий, сколько в том, что предшествует такому предложению, – в самой фиксации читательского замешательства, своего рода бессилия перед классической утопией. По большому счету мы не очень понимаем, как утопию читать. Она принципиально отказывает нам в ключах и подсказках, которые позволили бы с достаточной уверенностью судить о мотивациях утопического письма. Мы не знаем, к кому обращена утопия и для чего написана, – мы можем лишь строить более или менее убедительные догадки.
Но при всем широком диапазоне нередко исключающих друг друга догадок и интерпретаций, при всем многообразии литературных утопий, которые были созданы за последние пять веков (и которые тоже можно рассматривать как варианты утопической рецепции, варианты читательского отклика на «Золотую книжечку»), читатели имеют возможность ощутить на себе работу механизма узнавания. Мы узнаем утопическое пространство, как только сталкиваемся с ним в своем читательском опыте. Если такое узнавание происходит – вне зависимости от того, какой материал, какой текст послужил для нас дверью в утопию, – мы раз за разом возвращаемся в одно и то же знакомое место, пусть и модифицированное в результате очередного вмешательства чьей?то фантазии. Этот механизм, безусловно, может быть описан в терминах узнавания жанровых канонов и формул – как оправдание ожиданий и «подтверждение подозрений», – но все?таки он не сводится к жанровой проблематике.
1
Что?то как бы осталось полым, возникло новое полое пространство. Оно заполняется мечтами, и возможное (которое, скорее всего, никогда не сможет стать действительным) живет внутри.
Эрнст Блох. «Принцип надежды». (Перевод Л. Лисюткиной)
В представлении Луи Марена утопия – не столько жанр, сколько пространство (вненаходимое, неопределимое, присутствующее только в тексте etc.). Этот взгляд развивает и продолжает интуицию Эрнста Блоха, согласно которой утопия возникает постольку, поскольку появляется место для нее – специальная лакуна, полость в структуре человеческого восприятия реальности. Вообще, метафоры нового, дополнительного, не заполненного наличным миром и замкнутого в своих границах пространства так или иначе востребованы в разговоре об утопическом. Способом указать на такой «пространства внутренний избыток» может стать упоминание о «пространстве воображения», или «пространстве желания», или о «потенциальности». Более выверенный понятийный аппарат позволяет говорить о том же самом, скажем, в связи с проблемой репрезентации.