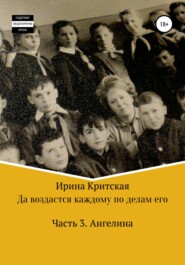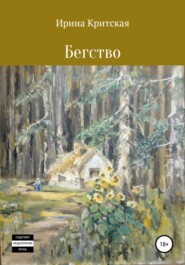По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть 1. Анна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я ведь думала Баро тебя обрюхатил. А потом – нет, не мог он, честный парень, настоящий. А этот… Та дура Марья еще хлебнет с ним, по самую шею потопнет. Ты не горюй о нем, пустое.
– Я не горюю. Пусти. Что- там ты дала?
Сахар с мятой степной. Выпьешь настой, грызи. Плохо тебе будет, это поможет. И Пелагею береги, ей твоей дури только не хватает. Давай. Иди, делай, прям завтра. Не откладывай. Черная кровь у него, подлая. Не твоя.
Анна к ночи заварила траву. Настой получился темный и густой, как деготь. Она накрыла горшок открыткой, а утром, на рассвете, сама не зная, почему она вдруг вспомнила про Бога, перекрестила рот и выпила треть жидкости, которая обожгла ей язык и губы, как огнем.
Глава 18. Ненастоящая женщина
Тошнота и дурнота не отпускали Анну целый день. Она ходила, как пьяная, все валилось у нее из рук и ей уже не хотелось скрывать бледность и слабость, ей было так плохо и страшно, что если бы не здоровье матери, то она бы повалилась ей в ноги и рассказала все. Но Пелагея еще и сама не до конца оправилась, и Анна терпела. Помогал только сахар, который ей дала Шанита, она доставала его из бумажки, чуть лизала, как лошадь, которую хотят побаловать и заворачивала снова, прятала в карман.
Кое-как дотянув до трёх часов дня, она ушла к себе, легла на кровать, вытянулась, положив руки вдоль тела и закрыла глаза. Если бы кто сказал ей сейчас, что вот, прямо в эту минуту она умрет и перестанет чувствовать эту сосущую тяжесть под ложечкой, то она, наверное бы не испугалась, согласилась. Но, смерть не приходила, и Анна встала, спустила совершенно ледяные ноги с кровати, плеснула из горшка в стакан отвар, который уже стал густым и тягучим, как кисель и, зажмурившись, выпила. Жидкость обожгла внутренности, горячей лавиной хлынула было обратно, но Анна зажала руками рот и заставила себя удержать настой, судорожно сглатывая и всхлипывая от бессилия. У нее получилось, она снова легла, повернулась на бок и с ужасом почувствовала, как ходуном заходил живот, одна-две протяжные судороги скрутили ее тело в узел. Несколько раз глубоко вздохнув, она вытянулась и почувствовала, что отпустило. Кое-как поднявшись, Анна сползла на пол, отдышалась и почти ползком добралась до окна – там, в углу, висела старая темная иконка Богородицы. Она висела высоко, ее было почти не видно в темном углу – Анна пару раз ругалась с матерью, чтоб та сняла, но Пелагея упиралась , Анна плюнула – все равно образок было не видно.
Она стала на колени, и, глотая слезы и еле ворочая языком начала шептать, чувствуя, как рот наполняется едкой слюной. «Богородице, Дево, радуйся. Благодатная Марие, Господь с тобой…»
Она с удивлением понимала, что давно забытые слова сами возникают у нее в голове, и от каждого слова ей становится легче – и на душе и внутри.
Ночью Анна совсем не спала. Что-то происходило с ее телом – неприятное, пугающее, больное. Как будто кто-то подменил его, сделал тяжелым, свинцовым, чужим. Кое-как дождавшись нужного времени, она допила настой и села у открытого окна, чувствуя, что умирает. В окно врывался ледяной, уже по-зимнему острый ветер, но ей было не холодно, наоборот, всю кожу жгло пламенем. Живот тянуло – не больно, но тошнотно, ноги сводило судорогами, ладони стали мокрыми и ледяными. Колотилось сердце, кружилась голова, темнело в глазах, и Анне вдруг показалось, что если она сейчас останется в комнате, то просто умрет. И, как когда-то, еще совсем девчонкой, она взобралась на подоконник и почти сползла вниз, в палисадник. Ловя ледяной воздух открытым ртом, она, шатаясь вышла на улицу, и побрела по дороге, сама не зная куда. Дойдя до старой березы, чувствуя, как липкая влага стекает по внутренней части бедер, она прижалась было к стволу, но стала сползать вниз, глядя, как на низком черном небе вспыхивают красные, мутные шары…
Серый свет вползал через веки Анны тяжело и прохладно, но она уже не чувствовала дурноты. Наоборот, странная легкость наполняла ее до краев, она разом открыла глаза и села. На секунду ошалев от незнакомых стен, она помотала головой, чтобы прогнать наваждение и, как будто отдернули штору, сразу все поняла. В крошечной комнате, увешанной яркими коврами и застеленной атласными покрывалами, она была не одна, в уголке прикорнула рыжая цыганка. Она так скрутилась в комочек, что можно было разглядеть только странно белокожую руку и пламя пышных волос, волнистых, спутанных, шелковых даже на вид. Ягори почувствовала взгляд Анны, вскинулась, глянула остро странными глазами – одним зеленым, как трава, другим черным, как деготь, полыхнула злой улыбкой алого рта, как крови хлебнула.
– Ты, красивая, больно рано хвостом крутишь. И на Баро моего глаза косила и вон чего наделала. Хорошо я мимо ехала, а так бы и кончилась там под деревом. Дырлыно.
Анна легко встала, повела плечом, как будто отбрасывала что-то надоедливое и мешающее, но Ягори тоже вскочила и перегородила ей дорогу.
– Вот это, что было, сбрось с себя. Забудь. Мужчину найди себе, люби его, корми, ласкай. А то, вижу, в крови твоей беспокойство, пустоту, одиночество. Плохо это, нельзя так. Ищи любимого, искать надо. А то так и завянешь, засохнешь – вон в тебе сухоты, как перекати поле. Цветешь, а впустую. Думай, что я сказала тебе.
В дверь заглянула Шанита, глянула, как встревоженная птица, схватила Анну за рукав, вытянула наружу.
– Иди домой, золотая. Иди, мать не пугай. А ты…
Она толкнула в бок Ягори, и закричала визливо, как будто ее ударили.
– Иди, мужа ищи, да в табор быстрее. Да снимайтесь, чтоб духу вашего не было, околя села. Спишь тут, бидёскиро, за мужем не следишь, он хлыстом Алешку этого избил, хорошо не изувечил, да конем не стоптал. Споймают, плохо будет. Э щиб никэр пала л данд.
Анна выскочила на еще темную, только начинающую сереть улицу, голова кружилась, но уже легко, не болезненно и, решив не идти через калитку, чтобы не столкнуться с матерью, влезла в окно – то, что она оставила открытым ночью. В комнате было тихо, холодно, тикали ходики, и на душе Анны было так же – холодно, спокойно и равнодушно.
Клуб, который открыли еще в начале декабря, не мог вместить всех желающих. Арка из еловых лап у входа прогибалась от тяжести самодельных тряпичных шаров, сшитых из старых овчинных лоскутов заек и вязаных кукол – краснощеких, лупастых, с большими, нарисованными помадой ртами. Огромная ель, которую установили в центре зала казалась входом в иной мир – темное ее нутро хранило тайну, мерцало и манило. Анна в новом, привезенном отцом из Саратова платье, стояла у стены и скучала. С этой осени она как-то враз перестала быть ребенком, но минуя состояние юной девушки, сразу превратилась в женщину – маленькую, ненастоящую, тоскующую. Чуть раньше бы, и это платье, дорогое, нежно-палевого цвета, переливающееся изнутри золотистой ниточкой, полностью обтягивающее худенькое тело и только наверху, вдруг взрывающееся пеной кружевных воланов, заставило бы Анну прыгать от счастья, крутиться перед зеркалом. А сейчас она, сдержанно поблагодарив отца, аккуратно уложила платье в свой маленький комодик и почти забыла. И только собираясь в клуб на Новый Год, который вдруг разрешили отмечать особым указом, она вытащила его, прогладила тяжелым пыхтящим углями утюгом, надела и, равнодушно глянув в зеркало, вышла к матери. Пелагея пустила слезу, достала из своей шкатулки крошечные сережки-гвоздики и вдела Анне в уши.
– Косу узлом заплети, девки сейчас так делают, красиво. Да щеки подрумянь, бледненькая ты у меня. Ооой. Уведут ведь, лихие…
Анна чуть улыбнулась матери, подхватила косу шпильками, натерла щеки и пошла. Ей было все равно.
Новогодний праздник летел, как паровоз – шумный, яркий, грохочущий. Анна танцевала с Сашком – тот был похож на неуверенного медведя, пыхтел, потел, сопел. Каждого, кто пытался утянуть Анну, теснил большим сутулым плечом, насупившись зыркал, и желающие ретировались. Марья – яркая как бабочка, летала в танцах с бывшими одноклассниками, сверкала белоснежной улыбкой, хохотала, кокетничала, сияла золотистой прической вдруг остриженных коротко волос. Она иногда бросала на Анну усмешливый взгляд, но не подходила, скользила мимо. У Алешки через все лицо и шею тянулся грубый шрам – след от хлыста, он его явно стеснялся, горбатил плечи, прятал подбородок в ворот пиджака. На Марью он почти не смотрел, отворачивался, как будто тяготился, но не отходил, хмурился, когда невесту снова приглашали танцевать, смотрел зло и напряженно.
– Ань. Что ты все молчишь, да молчишь? Пойдем, погуляем?
Сашок неловко толкался рядом и бубнил Анне на ухо. Анна глянула в окно – на улице метался снег, легкий, блестящий, игривый, пышные сугробы легли почти до самых ставен изб, и ей вдруг так захотелось на воздух, что она кивнула Сашку, натянула шубейку, сунула ноги в валенки и вышла на двор. Когда они дошли почти до берега Карая, до той самой черемухи, под которой она когда-то стояла с Баро, Сашок облапал ее здоровенными ручищами и потянулся целовать. Анна сбросила его руки, но он удержал ее и забасил смущенно.
– Нюрк, а Нюрк. Я весной сватов зашлю, а?
– Какие сваты еще, дурень. Я комсомолка, ты свихнулся что ли?
– А как же, Нюр. У меня батяня по-другому не разрешит. Зашлю, а?
– Дурак, ты Сашка. Я весной в город еду, учиться. На год, а потом в институт. А ты…. Сватооов. Иди, уж, жених.
дёскиро – бессердечная
Э щиб никэр пала л данд – держи язык за зубами
Дырлыно -дура
Глава 19. Свадьба
Не было ничего прекраснее для Анны просыпающегося Карая. Она могла часами стоять на обрывистом берегу, в ветвях старой ивы и смотреть, как вспухают и дышат синие глыбы, из последних сил сдерживая бунтующую воду. В трещинах льда пульсировала кровь не желающей больше спать реки, и Анна, затаив дыхание, вглядывалась вдаль, в туман ивняка на том берегу, и ей казалось, что если Край проснется, то сметет ее, как крошечное семечко, закрутит в бешеной воде и унесет по течению туда, где не будет боли и разочарования, слез и тоски. И она не боялась стихии, она ждала ее. Открывалась навстречу ветру, подставляла лицо первым теплым лучам, вдыхала аромат еще далекой, но такой близкой весны. Так постояв, заледенев до последней косточки, она поплотнее закутывалась в шаль и брела домой – медленно, сгорбившись, как старушка. Этой весной она осталась совсем одна. Табор Баро ушел, говорили в сторону Саратова, встал под Аткарском в степи. Марья с Алешкой отыграли свадебку, да такую, что все село на дыбы встало, пили, пели да плясали неделю, отец Алексея ничего не пожалел, да и Марьины постарались – добро в новый дом молодых везли телегами, все было новенькое, да с иголочки, занавески на чисто вымытых, блестящих окнах и те были богатыми, парчовыми, расшитые алыми маками и незабудками.
Марья сияла. За месяц со свадьбы она поправилась, подороднела, обзавелась румяными округлыми щеками, плотными, крутыми бедрами и пополневшей талией. Каждый день в обновке – то шаль шелковую с розами повяжет, то юбку модную с оборкой по короткому низу, а то и шубку беленькую, пушистую обновит, летала по селу, хохотала с бабами у палисадников, звенела колокольчиком в сельпо, трещала сорокой у колодца. От нее веяло довольством и счастьем.
Как-то, на воскресной ярмарке они подошла к Анне и тронула ее за локоть.
– Что-то ты, подружка, смурная. Синяя какая-то, худющая. Не болеешь?
– Нет. Не болею. Твоими молитвами. А худая – так я всегда такая была. А ты, смотрю, раздобрела. Светишься…
– Так вот. Пора мне…
Марья, щурясь, как сытая кошка, поладила себя по животу, чуть выпятила его и стала боком
– Видать? Должно. Пятый месяц пойдет. Юбки уж все расставила, не лезут.
Анна глянула на плотную подружкину фигуру, отвела глаза, ей стало даже не горько, противно. Это он, Алешка, когда, про любовь ей врал, Марье те же слова пел. От одной не остынет, к другой идет греться. Пакостник. Анна аж сплюнула на грязный снег, повернулась к подруге, глянула ей прямо в глаза – пустые и прозрачные, как ледяная крошка в замерзшей луже
– Марья. Ты же знала, что он…. И как ты? Как ты могла?
– Что я знала? Ничего я не знала. Мало ли с кем парень путается… Женится, остепенится. А ты сама виновата – то Алешка, то Баро. Вот и получила. Отстань.
Она оттолкнула Анну, подхватила свою корзину, набитую битком, с баранками, булками, рафинадом и подушечками в синих бумажных кулечках, с чем -то еще, и пошла прочь, быстро, раскачивая оборчатой юбкой из стороны в сторону и некрасиво отставив локоть, словно толстая птица крыло. Анна смотрела ей вслед – вот она дошла до ворот, вот Алешка отошел от мужиков, пьяный в дым, шатаясь, догнал жену, и, грубовато подвинув ее с дороги, пошел впереди, даже не пытаясь взять у нее из рук тяжелую корзину. А она семенила следом, стараясь не отстать, и не успевала, никак…
Пелагея стояла на коленях перед иконой, комната была полностью погружена в темноту и только слабенький огонёк лампады мерцал в углу, освещая суровый лик Спасителя на старинной иконе. Эта икона досталась ей от бабушки, и она молилась только не нее, разговаривая с Христом почти без молитв, своими словами. Анна, совершенно не веря в Бога, все равно всегда замирала, слушая спокойный голос матери, и ей иногда казалось, что Иисус мать внимательно слушает и даже его взгляд становится живым и не таким отстраненным. Вот и сейчас так случилось, Анна тихонько присела на кровать, но Пелагея обернулась и встала.
– Нюрушка. Как ты, дочушка? Что-то печалишься, молчишь все. Может тебе отдохнуть от учебы твоей, а то заучишься, до беды .
– Нет, мамусь. Я скоро на экзамены поеду, в мае.
Пелагея вздохнула, поправила платок на тяжелом узле волос, присела рядом с Анной.
– Тут Сашкин крестный отец заходил. Сватов хочет слать, ты с Сашкой гуляешь, что ли?