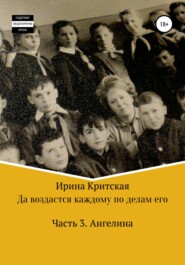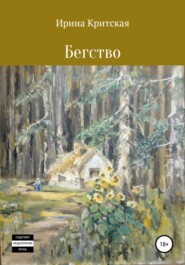По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три судьбы. Часть 1. Юродивая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты об этом?
– Да. Мужик смурной, нехороший, тяжёлый.
– Не бери в голову. Это Иван, он трепло. Забудь. У нас сегодня трудная работа.
Луша достала здоровенный эмалированный таз, схватила хромую курицу и молниеносно отсекла ей голову топором, всегда хранящимся у неё под лестницей. Несколько капель крови, выкатившихся из ещё дрыгавшейся тушки, она собрала в склянку и плотно забила пробку. Со щёк Луши разом схлынул её постоянный румянец, она побледнела, нахохлилась и стала похожей на замерзшую худую птицу.
"Кровь любимых для любимых, кровь любимых от любимых", – голос ее стал незнакомым, клокотал, множился, отдавал эхом в невысоких балках потолка. Потом, вдруг, она снова стала собой, оттолкнула подальше таз с курицей, растопырившей мёртвые крылья, и влила в склянку с кровью темно-коричневый, густой отвар, пахнущий грибами, лесом и плесенью.
– Давай, Андрюша, начнём помолясь. Это лекарство я буду тебе давать сама. Каждый час. По капле. Месяц. Если не поможет это – не поможет ничего. Открывай рот.
Андрей открыл рот – от уже так привык доверять этой странной девочке – женщине и лёгкая, солоноватая капля упала на его язык. Сначала Андрей ничего не почувствовал. Но через минуту кто-то огромный раздвинул ребра его груди, так, что невозможно стало дышать и дохнул туда огненным воздухом. Воздух свернулся в комок, упал куда-то ниже, а грудь заполнил лёд. И от него у Андрея все одеревенело, не в силах пошевелить даже мизинец он лежал на кровати, словно мертвая, деревянная, колода. И, когда увидел, что Луша снова подносит пипетку к его губам, даже не смог открыть рот…
Глава 7
Когда Андрей пришёл в себя, была явно глубокая ночь. Мерцающий свет далёких звёзд лишь угадывался через чёрное стекло, зато мохнатые, клочкастые тяжи какой-то дряни шевелили в воздухе темными щупальцами и тянули их к Андрею, прямо к горлу. Червяк внутри груди вырос многократно, давил мощными изгибами мускулистого тела, стараясь разорвать Андрея изнутри, размолотить его кости страшными ударами хвоста. Андрей задыхался. Его били судороги, скручивая измученное тело в клубок, глаза почти не видели – вернее перед его лицом возник пульсирующий, огненный тоннель. И там, в самом конце бешено пылающего коридора, он видел женщину с распущенными кудрявыми белоснежными волосами, в длинной, развевающейся золотой рубахе с острым клинком в руке. Она приближалась по тоннелю, вся в вихре оранжевых и красных искр и от этих искр у неё вспыхивали пряди волос, но не загорались, а сияли. А за спиной женщины била крыльями огромная, странная птица без головы, и из рваного обрубка ее шеи хлестала кровь.
Андрей где-то, отрывками сознания понимал – он бредит, но картина была настолько ясной и чёткой, что глубинный, исконный ужас ледяным панцирем сковал его сердце, и вот тут взялся за дело червяк. Тремя-четырьмя витками он обвил шею и грудь Андрея, сдавил так, что нечем стало вздохнуть, воздух стал обжигать, а потом кончился совсем. Андрей понял – он умирает. И в этот момент, последний и страшный, привычное равнодушие к смерти вдруг схлынуло, и бешеная жажда жизни заставила его напрячь в последнем усилии мышцы и все-таки глотнуть воздух. И вдруг червяк ослаб. Его как будто перерубили пополам, скользкая мерзость потекла из его обмякшего тела и залила все вокруг, бурля потоками вокруг лавки, на которой лежал Андрей, и вокруг стройных ног женщины с искрящимися волосами, испачкав её рубаху бурой грязью. Такой же, которая была на её клинке – остром и длинном, несущем жизнь и смерть.
– Андрюша, Андрюша, потерпи немного, это кризис. Опухоль твоя разрушена, но она ещё злая, будет душить тебя. Ты потерпи, я помогу. Давай – ещё капельку.
Сквозь фиолетово-серую пелену Андрей близко – близко увидел глаза Луши. Они впали от усталости и на осунувшемся лице казались особенно огромными. Из-под тёмного платка выбивались золотые завитки, в худеньких руках чуть подрагивала склянка с темной жидкостью и пипетка. Пахло кровью и какой-то травой, пахло яростно и душно. Андрею казалось, что ещё минута и Луша потеряет сознание, настолько бледной и прозрачной была её кожа. Он подставил губы, чуть приоткрыв, почувствовал едкий вкус зелья, и тут на него навалился такой всепобеждающий сон, что не в силах бороться, он откинулся на подушку и моментально провалился, как в глубокий омут.
… Яркое, почти весеннее солнце било в мутноватые стекла небольших окон так, что у Андрея даже через закрытые веки в глазах запрыгали красноватые зайчики. Он лежал на боку на чем – то очень мягком, укутанный по горло в тёплое и пушистое и подставлял лицо тёплым солнечным пальчикам. И они гладили его, лаская, по щекам, губам, щекотали, пробирались в ресницы. А тело было пустым. Совершенно пустым и лёгким, ничего не болело, не тянуло свинцовым холодом, не давило, не мучило. Андрей, наверное, чувствовал себя так мальчишкой, когда просыпался на своём топчане, вдыхал аромат свежевыпеченного хлеба и свежего меда и, приоткрыв один глаз, подсматривал за матерью, стараясь, что бы она не поняла, что он не спит, и ждал, когда она нальет полную кружку молока, поставит все на стол и выскочит во двор.
Сейчас хлебом тоже пахло. Каравай стоял на столе, выпятив румяный бок из-под полотенца, а у окна, уронив голову с рассыпавшимися кудрями на подоконник, спала Луша. Худенькие плечи были бессильно опущены, а на полу стояла склянка. Та самая, с зельем. Только теперь она была совершенно пустой.
Андрей встал и, почти не шатаясь, взял свой пушистый плед, тихонько укутал плечи Луши, а она даже не проснулась, только прошептала что-то еле слышно.
Глава 8
– Оой… Хозяин, гляньте, люди добрые. Подвизался, гляжу. Она тебе как? Платит? Иль за место сладкое стараешься?
Андрей с трудом выпрямился, с силой воткнул новый, зачищенный до блеска кол, который он строгал для калитки, в осевший по-весеннему снег. Несмотря на то, что болезнь отступила, сдала, съёжилась внутри, как комок старого снега, попавший под дождь, но она ещё была, пряталась и силы у мужика быстро кончались.
– Чего тебе, Нинк? Что ты, следишь за мной, что ли?
Нинка стояла чуть поодаль, прислонившись к толстому стволу векового дуба, который рос у Лушиного двора, заслоняя его от палящего летнего солнца огромной, густой короной, а зимой, в солнечные дни, бросая на ослепительный снег ажурные кружевные тени. Сегодня Нинка была особенно нарядна – новое светло-кремовое пальто из мягкой, пушистой шерсти, мягкий, молочного цвета меховой берет и такой же палантин, белые, высокие сапоги на тонком каблуке – Снегурочка. Это все очень бы украшало бы её, молодило, если бы она не была такой пьяной. Перекошенное лицо, бессмысленный взгляд, размазанная до ушей помада и вонь дешёвого алкоголя вкупе со Снегуркиной одеждой создавало такую картинку, что продирало до костей. Нинка качнулась, с трудом оторвала себя от ствола, сделала пару неуверенных шагов, а потом довольно быстро, как-то по обезьяньи добралась до палисадника, где Андрей ремонтировал калитку и встала вплотную, лицом к лицу, дыша терпким, ядерным перегаром.
– Я? Слежу? За кем? За тобой? За доходягой, у которого в штанах пустыня? Я тебя умоляю. Не смеши.
Андрей отвернулся и молча начал прилаживать кол к калитке, думая, как бы его забить в такую мерзлую, ещё не оттаявшую землю. Из ворот вышел Буян, чуть оскалился, рыкнул и сел у ноги Андрея, постукивая обрубком мощного хвоста о лёд у завалинки.
– Во. И этот здесь. Кота ещё сраного не хватает, вся семейка соберётся. Во главе с хозяином-доходягой. Курицу-то Аглаю, говорят, ведьмака укотропупила? Не пожалела для штанов, вдруг появившихся, а то прямо Айболит, куда там. Смотри, она и тебя прирежет, что не так. Ты, кстати, в курсе, что Ванька за неё тебя поперёк переедет и не поморщится? Прямо вот трактором своим. Имей ввиду.
Андрей закончил примерять кол, повернулся и пошел в дом. Плотно прикрыл ворота, свистнув Буяна, положил инструменты в сарай и тихонько, стараясь не шуметь, прокрался в комнату. Там, на кровати, под толстым ватным одеялом, скрутившись комочком, как крохотный заболевший ребёнок, лежала Луша. Она вдвое истаяла за последнюю неделю – война с болезнью Андрея не прошла для неё даром. Жизнь разом покинула худенькое тело и теперь уже Андрей выхаживал её, кормил с ложечки, поил, помогал встать. Все хозяйство тоже было на нем, и он справлялся. Сегодня и Луше было чуть получше, она уже с утра, правда держась за стены, добралась до растопленной Андреем печи, напекла блинов, собрала сливки, заварила чай. Потом опять легла, но сейчас проснулась, смотрела на Андрея огромными глазами – озерами, улыбалась.
– Знаешь, что мне снилось, Андрюша? Не поверишь, милый, самой смешно.
Андрей погладил её по бледной щеке, улыбнулся.
– Что, Лушенька?
– Только не смейся. А то не расскажу.
– Не буду, честно. Говори.
– Вроде, как я воительница из сказки какой, предания старого. Лечу с копьем, на белом коне, платье у меня золотое, волосы до пят. А вокруг чёрные тени, прячутся по стенам, мечутся. А я их копьем – всех побила. Ну вот, обещал не смеяться. Обманщик.
Андрей с трудом сдерживал улыбку, но все-таки рассмеялся, сел на кровать, поправил непослушную кудряшку, выбившуюся на гладкий Лушин лоб, подоткнул одеяло.
– Завтра мать заглянет. Ты как? Не против? Я котлет нажарил, тыкву затомил, картохи сварю. А?
– Я за, Андрюша. С утра хлеб поставлю, киселя наварю. Дорогой гостьей будет.
– Она меня домой зовет. Но я не пойду. Что скажешь?
– Что скажу? Что я и не пущу. Куда? Без моих трав ты в могилу быстро ляжешь. Ещё год нужно держать эту дрянь в узде. Или тебе плохо у меня? Трудно?
– Разговоры пойдут. Нехорошо это, стыдно. Как приймака взяла, кормишь, лечишь.
Луша откинула одеяло, стыдливо натянула рубаху на узкие колени и подняла глаза на Андрея. От хитрой гримаски её лицо чуть вытянулось, на щеках появились ямочки, и она стала похожа на лисичку – не живую, настоящую, а ту, которую рисуют в детских книжках
– Разговоры? Андрей, мне плевать на разговоры. Всегда было, есть и будет. Разговоров боишься? Тогда женись на мне. А?
Андрей встал, поправил сползшее одеяло и отвернулся, глядя в окно. А там, уронив голову на бессильно скрещенные руки сидела на лавке Нинка. Палантин у неё сполз, волосы намокли от невесть откуда взявшегося дождя, и она то ли плакала, то ли спала…
Глава 9
– Мам, ты пальто там, в сенях сыми, а кофточку оставь, студено. И к печке садись, там потеплее будет.
Пелагею как подменили. Куда делась гордая, неприступная старуха с отвратительным характером, с которой боялись связываться даже самые, что ни на есть оторвы-молодухи. Сгорбившись, опустив голову, она с трудом повесила тяжелое пальто на крюк, стянула галоши и, неловко переступая в валенках по чисто вымытому крашеному полу прошла, поставила палку в уголок за печкой и присела на край лавки, покрытой узорчатым ковриком. "Стеша ткала, помню я. Мастерица у тебя мать была, лучшая в селе. Ты тоже ткешь, небось. Мамка-то научила?"– вопрос был вроде как пустой, ненужный, но он враз разрядил искрящийся от напряжения воздух и дышать стало легче.
"Ой, нет, Пелагея Ивановна. У меня руки кривые, как не старалась, не смогла. Но я шали вяжу, из пуха козьего. Вот, вам связала".
Луша достала из сундука красиво сложенную, светло-серую, пушистую шаль. Шаль была лёгкой, сама, как пух, с ажурной широкой каймой, по которой, если приглядеться, летели снежинки в вихре лёгких, кружевных завихрений – такой ажур умела вязать лишь бабка, та самая, которая учила Лушу лечить травами. Пелагея покраснела от удовольствия, погладила шаль ладонью и, стесняясь, как девчонка, пошла к зеркалу и накинула её на плечи.
– Красивая. Тёплая. Спаси Христос, девочка. А ты что, неужто козу сама дерешь? Ой ли?
– Деру, Пелагея Ивановна. Плачу, а деру. Но они меня прощают, хоть и жалятся потом друг другу. Зато пряжа получается – руно золотое. Со стрижки так не сделаешь.
Андрей молча, с улыбкой наблюдал, как мать с Лушей беседуют, а на душе его становилось тепло и спокойно. Как в раю. Он ловко вытащил горшок с картошкой из печи, плюхнул густую сметану из глечика в миску, положил ложки. Потом смутился, глянул на мать, вот, скажет, бабью работу делает. Но Пелагея не обращала внимания на сына, она внимательно разглядывала "дралку" – в деревянную, украшенную резьбой, отполированную ручку был вбит железный гвоздь с расплющенным концом – это орудие делал ещё Лушин дед, и оно служило до сих пор, верой и правдой. Вот только козы его, ну очень не любили.
– А у меня не такая. Короткая. Попрошу сына, он мне такую спроворит. Ой, вот ведь дура. Я ж тебе подарок принесла. Сейчас.
Пелагея быстро, как молодая, почти не опираясь на палку, выскочила в сени, полминуты пошебуршась, принесла корзину, обвязанную платком.
– На. Тебе. Все равно таких ты не найдёшь нигде, токмо у меня такие. Расти, на здоровье. Там, глянь, курочка одна – один в один, как твоя была. Как писана.