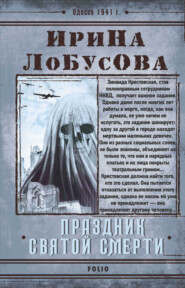По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соль с Жеваховой горы
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказ подруги поверг Цилю в еще большее уныние.
– Да знаю за то… Виктор уже рассказывал, – махнула она рукой, – радовался, шо за быстро дело закрыл.
– Как закрыл? – опешила Таня.
– Так психическая ее порешила, – горько вздохнула Циля, – а потом сама копыта откинула на месте. Психический припадок… Виктор радовался за то, что гембель такой закоцанный свалился с его головы!
И всего делов, что за пару бумажек подписать надо. Кончено. Хвосты в воду…
– Концы в воду… – машинально поправила Таня. – Но это же странно, что убийца умерла на месте! Нестандартное какое-то убийство! От чего она умерла?
– Ну, так психическая же, говорю! – повторила Циля, пожимая плечами. – Виктор сказал за то, что эпи… эти.. экли.. эпитетсия.
– Эпилепсия? – удивилась Таня. – Первый раз слышу, чтобы человек в эпилептическом припадке умирал на месте, кого-то перед этим убив!
– Да и не такое бывает за жизнь! – снова горько вздохнула Циля.
– А что, Виктор рассказывает тебе о своей работе? – удивилась Таня.
– Ну да, – кивнула Циля, – не за все, но говорит. Потому и плачу.
– Чего плачешь? – не поняла Таня.
– Следят теперь за ним! – Из глаз Цили снова полились слезы.
– Кто следит, зачем? – нахмурилась Таня, уже решив про себя подключить к этому делу Тучу – состояние подруги ей решительно не нравилось.
– А я знаю? – пожала плечами Циля. – Они мне не представились. А за окно я их сама видела!
– Кого видела? – не поняла подруга.
– Двоих. Ночью, – Циля вытерла слезы и заговорщически понизила голос: – Стояли внизу. Один в окна заглядывал, а другой что-то в блокноте рисовал. Я Виктора разбудить забоялась. Устает он. Озверел бы, шо твой черт! Сама тихонько под окном стояла. Страсть до жути! Аж мурашки за шкурой! Я потом так и не заснула.
– Может, это воры были? Мало ли кто по Слободке шастает! – Голос Тани дрогнул – ей очень не понравился рассказ подруги.
– Нет, – Циля печально покачала головой, – я шо, первый год за Одессу живу? Не знаю, как местные воры выглядят? Нет, это не за то совсем. Не из твоих они. Другие. За то мне и страшно.
Таня задумалась. Если за домом Цили следили не воры, не люди из криминального мира, тогда все выходило намного хуже: как бы не большевики это были. Таня прекрасно помнила историю с несостоявшимся арестом Виктора. Может, к нему сейчас решили вернуться?
В любом случае Циля была права. Слежка за домом, ночью… Плохой признак. Таня и хотела бы ее утешить, но не могла.
– Это как рыбаков тех за Фонтаном постреляли, так и началось, – вдруг произнесла Циля.
– Кого постреляли? – Таня не поняла.
– Ну, рыбаков троих. Контрабандистов. Они в лодке товар свой перевозили. Ну какой товар, такое… Прикрыли за мешки с солью, как за все делают, – пояснила Циля, которая, как и многие жители Одессы, проявляла полную компетентность в вопросах контрабанды. – А их постреляли да тела бросили на берегу!
– Кто, зачем? – не понимала Таня.
– А я знаю? – вздохнула Циля. – Вот Виктору за то дело и поручили, шоб узнал! Но я сколько живу в Одессе, – а ты ж знаешь, я живу здесь всю жизнь, как и родилась на Молдаванке, ну так я так за первый раз слышу, шоб этих левых контрабандистов постреляли за пару чулок и сигарет! Они ж хмырню перевозили, фуфло! Никому ж не нужное это фуфло было! Сигареты до нэпманских кабаков! Тю! Кто б за такое руки мараться будет? – Циля возмущенно крутнула головой. – С полгорода живут с такой мелочевки! Такой себе шахер-махер за так. Ну, были драки, кому там в морду дать. Но стрелять? А тех же, как собачат, постреляли! Ну кто за такое делает? – Она никак не могла успокоиться. – Я Виктору пыталась сказать, а он и слушать не захотел! Разозлился, шо тот пес бешеный, шо зубы скалит! А я-то знаю все это, только за как ему сказать? Ни денег, ни товара – одни сопли за кулак намотанные! Ну кто за такое убивает? – повторила Циля.
– Да, ты права, – Таня задумалась, – сигареты, чулки, консервы… Сейчас таких полгорода!
Это действительно была правда. Контрабанда в Одессе, связанная намертво с усилением экономического кризиса, пережила новый виток. И все же масштабы этой контрабанды были ничтожны по сравнению с былыми временами – с началом развития Одессы. Во времена Дюка де Ришелье и Ланжерона на контрабанде зарабатывали целые состояния, а масштабы ее были такими, что золото, бриллианты возили целыми флотилиями. С большевиками же размеры привычной одесской контрабанды сократились до ничтожных – опять же, если сравнить с прежними временами.
Происходило все так. На рейд, но за пределами территориальных вод, становилась груженная мелочевкой турецкая или румынская шхуна, умело маскирующаяся под рыбачий баркас. На берег посылался гонец, который по сарафанному радио среди местных рыбаков рекламировал свой товар – сколько и чего можно взять. После этого под покровом ночной темноты к шхуне направлялись лодки.
В мешки с солью прятали нехитрый товар: сигареты, консервы, женские чулки, духи, косметику, медикаменты – словом, все то, что было ходовым во все времена. После этого лодки возвращались на берег, товар прятали в тайнике, а затем разносили в лавки и рестораны.
Эти мешки с солью были старым, но хорошо испытанным способом, им пользовались еще деды и прадеды контрабандистов того времени. Соль хорошо объясняла тяжесть мешка, была плотной, а просеивать ее было тяжело. Словом, метод был столь удачен, что им с успехом стали широко пользоваться, тем более, когда возрос спрос на нехитрый товар.
У людей появились деньги, и они были готовы тратить их на то, что всегда, во все времена было востребовано. Они хотели курить хорошие сигареты, есть вкусные консервы, женщины мечтали хорошо выглядеть, тем более, что с новой модой спрос на косметику страшно возрос! Контрабандисты, конечно, представляли урон для экономики новой страны, но, по большому счету, урон этот был ничтожен. Ведь для золота, драгоценностей и оружия существовали масштабы покрупней. Серьезный товар никто не прятал в мешки с солью!
Циля была права: за чулки и сигареты не убивают с такой жестокостью трех человек, тем более – всех сразу. Таня поняла это, но говорить не стала, чтобы не расстраивать подругу еще больше.
– Может, их ограбить хотели, деньги забрать? – ляпнула она глупость – ей так не нравилось тревожное выражение в глазах подруги.
– Ты за меня не утешай! – Циля не поддалась на провокацию и махнула на нее рукой. – И без тебя знаю, шо плохо. Я ж не первый год на свете живу.
– Ладно, поговорю с Тучей, – решительно сказала Таня, – может, он знает. Пошлет по следу людей.
– Поговори. Но это не Туча, – как девушка, вышедшая с самого дна, Циля обладала очень острым чутьем, – не его это. Ты за Натульку свою лучше расскажи!
– Растет, – Таня, улыбнувшись, пожала плечами.
На самом деле она очень обрадовалась возможности поговорить с Тучей, словно вернуться в прошлое, отвлечься от всего. Ей был необходим глоток свежего воздуха, возвращавшего ее разбитые надежды.
Но никто, ни Циля, ни Ида даже не догадывались, что Таня уже стала возвращать себе этот свежий воздух. Она никогда в жизни не могла сидеть в четырех стенах, и рождение дочки ее совершенно не изменило. Очень скоро Таня стала задыхаться в своем доме, словно ее придавливала чугунная плита.
Если Ида была погружена в материнство с головой, то Таня стала просто тонуть в этом море мокрых пеленок, кашек, детского питания и прочего сюсюканья, которого всегда ждут от любой молодой матери. Вдруг оказалось, что пеленки и кормления составляют не всю ее жизнь. Таня стала задыхаться в этом море новых, внезапно рухнувших на нее обязанностей. И очень скоро поняла, что не может находиться в четырех стенах. Эти кастрюльки с детскими смесями, эти пеленками убивали ее, разрывали ее душу. Ей стало скучно жить.
А между тем Таня не была плохой матерью. Ей нравилось возиться с дочкой, играть с ней. Но вдруг, неожиданно для нее самой, оказалось, что дочка не составляет весь ее мир, несмотря на ее самые глубокие чувства. И Таня затосковала, тяжело, как тосковала всегда в самые мрачные периоды жизни.
Ей ужасно хотелось вырваться наружу из этого убогого существования и так, как в прошлом, глотнуть адреналина, пьянящего кровь, бодрящего, бросить вызов судьбе. Но Таня понимала, что вырваться не может. И это повергало ее в страшную тоску.
Ей хотелось жить, ведь она была молода, но кровь словно застыла в ее жилах. И ее саму пугало это страшное ощущение, что жизнь ее больше не радует. Она живет – как живет, и ничего больше.
Следуя моде того времени, Таня обрезала волосы совсем коротко, под мальчика, и покрасилась в черный цвет. Получилось отлично! Она стала выглядеть значительно моложе, и этот цвет удивительным образом шел к аристократической бледности ее лица. И к тому же на фоне черного очень ярко засверкали ее глаза, похожие на два желтоватых топаза, мистически мерцающих в темноте.
Последней каплей в этой борьбе с собой стало неожиданное посещение аптеки. Таня уже теряла последние силы и надежду, приготовившись сдаться судьбе, превратившей ее в стандартную туповатую клушу без смысла жизни и домохозяйку. Так бы все и шло, но у ее дочки вдруг разболелся живот. И Тане пришлось прибегнуть к испытанному народному средству – несмотря на то, что возраст Наташи был уже далек от младенчества, она отправилась в аптеку Гаевского за укропной водой.
В просторном зале аптеки с мраморными полами и блеском венецианских зеркал ничего, похоже, не изменилось. Символ роскоши и уюта – зеркала красовались на стенах, украшенных к тому же витиеватой мраморной резьбой. Хрустальные люстры рассеивали мягкий свет.
И тем более странно и страшно на фоне этой утонченной роскоши из прошлого выглядели посетители знаменитой аптеки – преимущественно простые деревенские бабы в платках, затоптавшие грязными валенками мраморный пол, горланящие грубыми голосами что-то бессмысленное. Не лучше были и мужчины – в основном солдаты с оружием. Они ставили винтовки на мраморные плиты и опирались о колонны, стирая позолоту затасканными шинелями, из которых вылезал грубый, щетинистый ворс.
Став в очередь за стайкой деревенских баб, Таня вдруг подумала, что именно голос является отличительной чертой простонародья – громкий, визгливый, вульгарный, вечно повышаемый голос, который словно бы летел над толпой. Женщины из общества никогда не разговаривали громкими, визгливыми голосами, наоборот, старались приглушать тон в людных местах. Ни ее бабушке, никому из подруг по гимназии не пришло бы в голову орать на людях! В аптеке Гаевского они говорили бы шепотом, уважая труд фармацевта, чтобы, не дай Бог, не потревожить, не отвлечь от дел. Но бабам из очереди, стоящим перед Таней, это, похоже, и в голову не приходило. Они вульгарно голосили, не считаясь ни с кем. Вчерашние кухарки, горничные, прачки вдруг, словно по мановению извращенной волшебной палочки, заняли место своих господ и принялись вести себя громко, вызывающе – потому что о том, что можно вести себя иначе, им никто и никогда не говорил. Мир перевернулся, все было утрачено – все то, что выглядело красиво, то, что имело ценность. А на место этого утонченного мира пришла вульгарная и грубая пустота.
Стоя за спинами баб, Таня думала обо всем этом, как вдруг взгляд ее упал на маленький пузырек со снотворным, выставленный в витрине. Это снотворное отпускалось без рецепта, и Таня прекрасно его знала. Впрочем, в смутное время почти все рецепты были отменены.
– Да знаю за то… Виктор уже рассказывал, – махнула она рукой, – радовался, шо за быстро дело закрыл.
– Как закрыл? – опешила Таня.
– Так психическая ее порешила, – горько вздохнула Циля, – а потом сама копыта откинула на месте. Психический припадок… Виктор радовался за то, что гембель такой закоцанный свалился с его головы!
И всего делов, что за пару бумажек подписать надо. Кончено. Хвосты в воду…
– Концы в воду… – машинально поправила Таня. – Но это же странно, что убийца умерла на месте! Нестандартное какое-то убийство! От чего она умерла?
– Ну, так психическая же, говорю! – повторила Циля, пожимая плечами. – Виктор сказал за то, что эпи… эти.. экли.. эпитетсия.
– Эпилепсия? – удивилась Таня. – Первый раз слышу, чтобы человек в эпилептическом припадке умирал на месте, кого-то перед этим убив!
– Да и не такое бывает за жизнь! – снова горько вздохнула Циля.
– А что, Виктор рассказывает тебе о своей работе? – удивилась Таня.
– Ну да, – кивнула Циля, – не за все, но говорит. Потому и плачу.
– Чего плачешь? – не поняла Таня.
– Следят теперь за ним! – Из глаз Цили снова полились слезы.
– Кто следит, зачем? – нахмурилась Таня, уже решив про себя подключить к этому делу Тучу – состояние подруги ей решительно не нравилось.
– А я знаю? – пожала плечами Циля. – Они мне не представились. А за окно я их сама видела!
– Кого видела? – не поняла подруга.
– Двоих. Ночью, – Циля вытерла слезы и заговорщически понизила голос: – Стояли внизу. Один в окна заглядывал, а другой что-то в блокноте рисовал. Я Виктора разбудить забоялась. Устает он. Озверел бы, шо твой черт! Сама тихонько под окном стояла. Страсть до жути! Аж мурашки за шкурой! Я потом так и не заснула.
– Может, это воры были? Мало ли кто по Слободке шастает! – Голос Тани дрогнул – ей очень не понравился рассказ подруги.
– Нет, – Циля печально покачала головой, – я шо, первый год за Одессу живу? Не знаю, как местные воры выглядят? Нет, это не за то совсем. Не из твоих они. Другие. За то мне и страшно.
Таня задумалась. Если за домом Цили следили не воры, не люди из криминального мира, тогда все выходило намного хуже: как бы не большевики это были. Таня прекрасно помнила историю с несостоявшимся арестом Виктора. Может, к нему сейчас решили вернуться?
В любом случае Циля была права. Слежка за домом, ночью… Плохой признак. Таня и хотела бы ее утешить, но не могла.
– Это как рыбаков тех за Фонтаном постреляли, так и началось, – вдруг произнесла Циля.
– Кого постреляли? – Таня не поняла.
– Ну, рыбаков троих. Контрабандистов. Они в лодке товар свой перевозили. Ну какой товар, такое… Прикрыли за мешки с солью, как за все делают, – пояснила Циля, которая, как и многие жители Одессы, проявляла полную компетентность в вопросах контрабанды. – А их постреляли да тела бросили на берегу!
– Кто, зачем? – не понимала Таня.
– А я знаю? – вздохнула Циля. – Вот Виктору за то дело и поручили, шоб узнал! Но я сколько живу в Одессе, – а ты ж знаешь, я живу здесь всю жизнь, как и родилась на Молдаванке, ну так я так за первый раз слышу, шоб этих левых контрабандистов постреляли за пару чулок и сигарет! Они ж хмырню перевозили, фуфло! Никому ж не нужное это фуфло было! Сигареты до нэпманских кабаков! Тю! Кто б за такое руки мараться будет? – Циля возмущенно крутнула головой. – С полгорода живут с такой мелочевки! Такой себе шахер-махер за так. Ну, были драки, кому там в морду дать. Но стрелять? А тех же, как собачат, постреляли! Ну кто за такое делает? – Она никак не могла успокоиться. – Я Виктору пыталась сказать, а он и слушать не захотел! Разозлился, шо тот пес бешеный, шо зубы скалит! А я-то знаю все это, только за как ему сказать? Ни денег, ни товара – одни сопли за кулак намотанные! Ну кто за такое убивает? – повторила Циля.
– Да, ты права, – Таня задумалась, – сигареты, чулки, консервы… Сейчас таких полгорода!
Это действительно была правда. Контрабанда в Одессе, связанная намертво с усилением экономического кризиса, пережила новый виток. И все же масштабы этой контрабанды были ничтожны по сравнению с былыми временами – с началом развития Одессы. Во времена Дюка де Ришелье и Ланжерона на контрабанде зарабатывали целые состояния, а масштабы ее были такими, что золото, бриллианты возили целыми флотилиями. С большевиками же размеры привычной одесской контрабанды сократились до ничтожных – опять же, если сравнить с прежними временами.
Происходило все так. На рейд, но за пределами территориальных вод, становилась груженная мелочевкой турецкая или румынская шхуна, умело маскирующаяся под рыбачий баркас. На берег посылался гонец, который по сарафанному радио среди местных рыбаков рекламировал свой товар – сколько и чего можно взять. После этого под покровом ночной темноты к шхуне направлялись лодки.
В мешки с солью прятали нехитрый товар: сигареты, консервы, женские чулки, духи, косметику, медикаменты – словом, все то, что было ходовым во все времена. После этого лодки возвращались на берег, товар прятали в тайнике, а затем разносили в лавки и рестораны.
Эти мешки с солью были старым, но хорошо испытанным способом, им пользовались еще деды и прадеды контрабандистов того времени. Соль хорошо объясняла тяжесть мешка, была плотной, а просеивать ее было тяжело. Словом, метод был столь удачен, что им с успехом стали широко пользоваться, тем более, когда возрос спрос на нехитрый товар.
У людей появились деньги, и они были готовы тратить их на то, что всегда, во все времена было востребовано. Они хотели курить хорошие сигареты, есть вкусные консервы, женщины мечтали хорошо выглядеть, тем более, что с новой модой спрос на косметику страшно возрос! Контрабандисты, конечно, представляли урон для экономики новой страны, но, по большому счету, урон этот был ничтожен. Ведь для золота, драгоценностей и оружия существовали масштабы покрупней. Серьезный товар никто не прятал в мешки с солью!
Циля была права: за чулки и сигареты не убивают с такой жестокостью трех человек, тем более – всех сразу. Таня поняла это, но говорить не стала, чтобы не расстраивать подругу еще больше.
– Может, их ограбить хотели, деньги забрать? – ляпнула она глупость – ей так не нравилось тревожное выражение в глазах подруги.
– Ты за меня не утешай! – Циля не поддалась на провокацию и махнула на нее рукой. – И без тебя знаю, шо плохо. Я ж не первый год на свете живу.
– Ладно, поговорю с Тучей, – решительно сказала Таня, – может, он знает. Пошлет по следу людей.
– Поговори. Но это не Туча, – как девушка, вышедшая с самого дна, Циля обладала очень острым чутьем, – не его это. Ты за Натульку свою лучше расскажи!
– Растет, – Таня, улыбнувшись, пожала плечами.
На самом деле она очень обрадовалась возможности поговорить с Тучей, словно вернуться в прошлое, отвлечься от всего. Ей был необходим глоток свежего воздуха, возвращавшего ее разбитые надежды.
Но никто, ни Циля, ни Ида даже не догадывались, что Таня уже стала возвращать себе этот свежий воздух. Она никогда в жизни не могла сидеть в четырех стенах, и рождение дочки ее совершенно не изменило. Очень скоро Таня стала задыхаться в своем доме, словно ее придавливала чугунная плита.
Если Ида была погружена в материнство с головой, то Таня стала просто тонуть в этом море мокрых пеленок, кашек, детского питания и прочего сюсюканья, которого всегда ждут от любой молодой матери. Вдруг оказалось, что пеленки и кормления составляют не всю ее жизнь. Таня стала задыхаться в этом море новых, внезапно рухнувших на нее обязанностей. И очень скоро поняла, что не может находиться в четырех стенах. Эти кастрюльки с детскими смесями, эти пеленками убивали ее, разрывали ее душу. Ей стало скучно жить.
А между тем Таня не была плохой матерью. Ей нравилось возиться с дочкой, играть с ней. Но вдруг, неожиданно для нее самой, оказалось, что дочка не составляет весь ее мир, несмотря на ее самые глубокие чувства. И Таня затосковала, тяжело, как тосковала всегда в самые мрачные периоды жизни.
Ей ужасно хотелось вырваться наружу из этого убогого существования и так, как в прошлом, глотнуть адреналина, пьянящего кровь, бодрящего, бросить вызов судьбе. Но Таня понимала, что вырваться не может. И это повергало ее в страшную тоску.
Ей хотелось жить, ведь она была молода, но кровь словно застыла в ее жилах. И ее саму пугало это страшное ощущение, что жизнь ее больше не радует. Она живет – как живет, и ничего больше.
Следуя моде того времени, Таня обрезала волосы совсем коротко, под мальчика, и покрасилась в черный цвет. Получилось отлично! Она стала выглядеть значительно моложе, и этот цвет удивительным образом шел к аристократической бледности ее лица. И к тому же на фоне черного очень ярко засверкали ее глаза, похожие на два желтоватых топаза, мистически мерцающих в темноте.
Последней каплей в этой борьбе с собой стало неожиданное посещение аптеки. Таня уже теряла последние силы и надежду, приготовившись сдаться судьбе, превратившей ее в стандартную туповатую клушу без смысла жизни и домохозяйку. Так бы все и шло, но у ее дочки вдруг разболелся живот. И Тане пришлось прибегнуть к испытанному народному средству – несмотря на то, что возраст Наташи был уже далек от младенчества, она отправилась в аптеку Гаевского за укропной водой.
В просторном зале аптеки с мраморными полами и блеском венецианских зеркал ничего, похоже, не изменилось. Символ роскоши и уюта – зеркала красовались на стенах, украшенных к тому же витиеватой мраморной резьбой. Хрустальные люстры рассеивали мягкий свет.
И тем более странно и страшно на фоне этой утонченной роскоши из прошлого выглядели посетители знаменитой аптеки – преимущественно простые деревенские бабы в платках, затоптавшие грязными валенками мраморный пол, горланящие грубыми голосами что-то бессмысленное. Не лучше были и мужчины – в основном солдаты с оружием. Они ставили винтовки на мраморные плиты и опирались о колонны, стирая позолоту затасканными шинелями, из которых вылезал грубый, щетинистый ворс.
Став в очередь за стайкой деревенских баб, Таня вдруг подумала, что именно голос является отличительной чертой простонародья – громкий, визгливый, вульгарный, вечно повышаемый голос, который словно бы летел над толпой. Женщины из общества никогда не разговаривали громкими, визгливыми голосами, наоборот, старались приглушать тон в людных местах. Ни ее бабушке, никому из подруг по гимназии не пришло бы в голову орать на людях! В аптеке Гаевского они говорили бы шепотом, уважая труд фармацевта, чтобы, не дай Бог, не потревожить, не отвлечь от дел. Но бабам из очереди, стоящим перед Таней, это, похоже, и в голову не приходило. Они вульгарно голосили, не считаясь ни с кем. Вчерашние кухарки, горничные, прачки вдруг, словно по мановению извращенной волшебной палочки, заняли место своих господ и принялись вести себя громко, вызывающе – потому что о том, что можно вести себя иначе, им никто и никогда не говорил. Мир перевернулся, все было утрачено – все то, что выглядело красиво, то, что имело ценность. А на место этого утонченного мира пришла вульгарная и грубая пустота.
Стоя за спинами баб, Таня думала обо всем этом, как вдруг взгляд ее упал на маленький пузырек со снотворным, выставленный в витрине. Это снотворное отпускалось без рецепта, и Таня прекрасно его знала. Впрочем, в смутное время почти все рецепты были отменены.