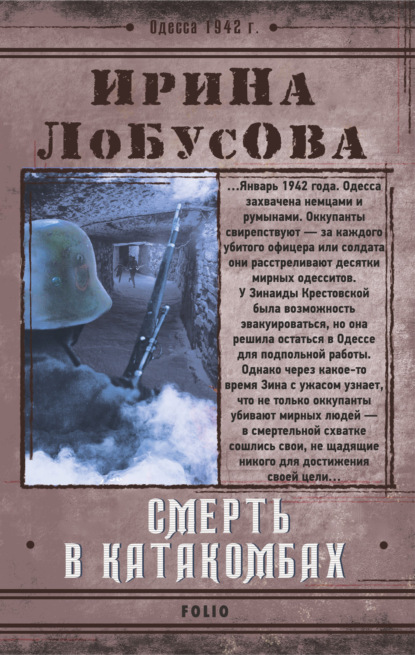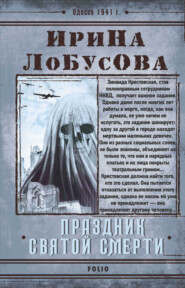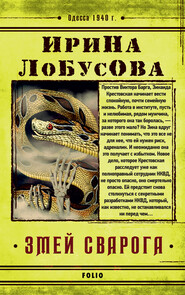По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смерть в катакомбах
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вина! Пойдем еще выпьем! – толкнул немец друга в плечо.
– Будет вам, Франц, – второй, все же более уверенно стоящий на ногах, оторвал его руки от старика-швейцара.
– А почему нет? Сегодня хочу пить, гулять! Такой день!
– Хватит уже. Не орите на всю улицу! Вы забываете, что здесь везде уши, – благоразумно и тихо сказал второй немец.
– Партизаны,……! – грязно выругался на немецком Франц. – Вот где они все у меня будут после сегодняшнего дня! Вот где! – потряс кулаком.
– Завтра вы им обязательно покажете, – сказал благоразумный друг, – а сейчас пора отправляться домой.
– Вы правы, – неожиданно быстро согласился Франц. – Где мой денщик?
– Машину господина офицера! – скомандовал швейцару друг Франца.
– Сию минуту, господа! Секунду, – засуетился старик.
Он выбежал из дверей ресторана в переулок, и буквально через несколько секунд прямо к дверям заведения подъехал большой черный автомобиль. Не заглушив двигателя, остановился возле входа. Дверцы распахнулись.
– Не поеду! – вдруг завозмущался Франц, делая шаг назад. – Я хочу еще выпить! Хочу вина! Не буду уезжать!
– Франц, никто не пьет вино после водки, даже русские! – укоризненно произнес второй офицер.
– А я хочу вина! – снова заупрямился Франц.
Но вместо ответа друг силой запихнул его на заднее сиденье. Затем сел рядом. Дверца захлопнулась. Швейцар скрылся в дверях ресторана. Машина покатила вниз по Дерибасовской.
Но отъехала она недалеко. Взрыв, страшный, жуткий взрыв оглушил ночную улицу, ворвался в небо ярким сполохом жарко-алого пламени и тут же заполнил весь воздух грохотом разбитых стекол, железным скрежетом, людскими воплями…
Автомобиль, в котором ехали немцы, превратился в пылающий факел. Изнутри вдруг вывалилось человеческое тело, охваченное пламенем.
Человек со страшными воплями покатился по мостовой. В воздухе вдруг разлился жуткий запах горящей людской плоти. Было слышно, как в пламени лопается живая человеческая кожа… Вопли человека были страшными. Наконец он затих.
Абсолютно из всех заведений, расположенных на Дерибасовской, вывалились люди. А к месту страшного происшествия со всех ног бежали солдаты. Но было поздно. В темноте догорал остов автомобиля, и было абсолютно понятно, что люди, ехавшие в машине, мертвы. Двое офицеров и водитель-денщик стали пеплом.
Через два часа заведение, из которого вышли офицеры, было полностью оцеплено и обыскано. С особым пристрастием допрашивали швейцара. Избитый старик дрожал в директорском кабинете. Руки его были связаны за спинкой стула. Из разбитых губ сочилась кровь.
– Документы! Спрашиваю в последний раз! – Возвышавшийся над ним офицер закатал рукава мундира по локоть, чтобы было удобнее бить. – У него были в руках документы!
– Никаких документов, ваше благородие… – выл старик. – Богом клянусь, ни у одного, ни у другого никаких документов! Пьяны были очень. Хотели домой. А документов не было.
Размахнувшись, немец снова ударил старика. Голова его мотнулась в сторону, как у недорезанного цыпленка. Старик закричал.
– Не было документов! – повторял он снова и снова. – Не было! Христом-Богом клянусь, не было!
Откатав рукава мундира, офицер стукнул кулаком в дверь. На пороге тут же появились два автоматчика.
– Расстрелять, – кивнул в сторону старика офицер.
Несчастного выволокли. Минут через пять раздался выстрел, затем короткий вскрик. Потом снова выстрел. Офицер вышел из комнаты.
Персонал ресторана был выстроен прямо на Дерибасовской, перед входом. Офицер вышагивал вдоль шеренги дрожащих людей. Около 20 человек – официанты, повара, администратор, музыканты, несколько танцовщиц – стояли на морозе. Их вытолкали на улицу прямо из зала ресторана, не позволив одеться.
– Сегодня ночью погибли два немецких офицера, – на ломаном русском заговорил немец, – пропали важные документы. Офицеров сожгли. Поджигатель в вашем ресторане. Кто подложил взрывчатку? Пусть признается, все остальные будут жить.
Люди молчали. Женщины плакали.
– Расстрелять всех, – офицер кивнул солдатам и отошел в сторону.
Солдаты вскинули ружья. Раздалось несколько залпов. Окровавленные тела никто не стал убирать.
– Сжечь, – махнул рукой офицер.
Солдаты облили вход в ресторан бензином и подожгли. Над зданием вспыхнул оранжевый сноп пламени.
Глава 5
Ночь с 3 на 4 января, 1942 год, Одесса
Загудело, застонало в трубе, и дрова громко треснули. Пламя было жарким, норовило вырваться за пределы буржуйки, однако и оно не могло согреть. Ярко-оранжевые, с желто-красной каймой огненные языки охватывали, брали в плен почерневший металл, стремясь наружу. И казалось: стоит открыть дверцу буржуйки чуть пошире, и пламя вырвется наружу с бешеным воем и заполонит все вокруг.
Однако это было иллюзией. Дров было мало, и угля было мало, чтобы растопить ледяной холод этой застывшей комнаты, окна которой, плотно закрытые черной тканью, напоминали горные провалы в пропасть.
Натянув одеяло до подбородка, Крестовская вытянулась под тонким покровом, стараясь не прижиматься к стене. Ее била нервная дрожь, все тело ходило ходуном. И даже темнота казалась слишком яркой – на фоне мучительных мыслей, которые своими острыми лезвиями заживо сдирали с нее кожу.
Зина закусила губы давно, прикусила их до боли, и тоненькая капля совсем свежей крови скатилась по подбородку, просочилась на жесткую наволочку и застыла там. А за окнами бушевал ветер, и мороз рвал заледеневший, окровавленный город. И казалось, больше ничего нет в целом мире, ничего, кроме клочьев собственных мыслей, рвущихся в ее душе, как бомбы.
Треск раздался снова, дрова зашипели. Наверное, они были слишком сырыми. И поэтому треска, дыма, чада было больше, чем тепла.
Вздохнув, Бершадов встал с кровати – от жуткого холода он спал так же, как и Зина, не раздеваясь, и, присев на корточки, кочергой принялся ворочать дрова. Они рассыпались, продолжая гореть. Зина видела искры, вылетавшие из печки и гаснущие в воздухе прежде, чем долетали до половины. Все это могло бы быть уютным – ночь, мороз, печка, заменяющая камин, любимый мужчина, помешивающий дрова…
Но уюта не было. Над всем этим был только привкус крови и смерти – смесь, которую Зина научилась давно различать.
Помешав дрова, Бершадов поднялся, посмотрел на нее. Брови его сдвинулись, словно бы укоризненно. Затем, не говоря ни слова, подошел к буфету, налил стопку самогона, небольшая бутылка которого пряталась внутри, и резко, решительно протянул Крестовской:
– Пей!
– Я не хочу… – слабо запротестовала она, – я не могу… это не поможет.
– Пей, – Григорий решительно ткнул в нее рюмкой. – Так ты хотя бы сможешь говорить.
Протестовать не было сил. К тому же запах не показался Зине слишком уж отвратительным. Она решительно выпила. И сразу почувствовала, как по телу разлилось приятное тепло. Бершадов налил вторую рюмку, и Зина выпила снова. Тепло усилилось – настолько, что, высвободив руку из-под одеяла, дрожащими пальцами Крестовская провела по стене. Шероховатость бумажных обоев словно вернула ей ощущение реальности. Как в далекой жизни. Как в совсем чужом мире.
С Бершадовым они не виделись уже несколько дней. И Зина очень ждала его – без него она чувствовала себя совсем потерянной.
Постоянно думая о нем, Крестовская вспомнила, что последний раз они виделись еще до Нового года. Для нее это был первый Новый год, который совсем не был праздником. Она встречала его на рабочем месте, в кафе. Для клиентов кафе было закрыто. Но Михалыч накрыл небольшой стол – роскошный по тем временам: вареная картошка, соленые огурцы, свиные шкварки, кислая капуста, вареная курица, крепкий деревенский самогон. И так сидели они всю ночь – она, Михалыч, две сотрудницы кафе, его помощницы, и еще две торговки со Староконки, знакомые Михалыча, которым некуда было идти в эту ночь. Сидели до рассвета, пили самогон, плакали. Говорили о прошлом и снова плакали. Нет, это был не праздник. У всех было одно и то же ощущение – что присутствуют на похоронах. Но кого же они хоронили, по кому устраивали поминки? По прошлому миру, вообще по жизни? Или поминали себя?
А Зина думала о Бершадове. Она все время думала о нем – где он, кто с ним. Представляла его в сырых катакомбах, его внимательные и строгие глаза, блестевшие в полутьме. И оттого плакала гораздо горше, чем все остальные. Плакала, неспособная остановиться, признаться самой себе в том, что испытывает животный страх.
– Будет вам, Франц, – второй, все же более уверенно стоящий на ногах, оторвал его руки от старика-швейцара.
– А почему нет? Сегодня хочу пить, гулять! Такой день!
– Хватит уже. Не орите на всю улицу! Вы забываете, что здесь везде уши, – благоразумно и тихо сказал второй немец.
– Партизаны,……! – грязно выругался на немецком Франц. – Вот где они все у меня будут после сегодняшнего дня! Вот где! – потряс кулаком.
– Завтра вы им обязательно покажете, – сказал благоразумный друг, – а сейчас пора отправляться домой.
– Вы правы, – неожиданно быстро согласился Франц. – Где мой денщик?
– Машину господина офицера! – скомандовал швейцару друг Франца.
– Сию минуту, господа! Секунду, – засуетился старик.
Он выбежал из дверей ресторана в переулок, и буквально через несколько секунд прямо к дверям заведения подъехал большой черный автомобиль. Не заглушив двигателя, остановился возле входа. Дверцы распахнулись.
– Не поеду! – вдруг завозмущался Франц, делая шаг назад. – Я хочу еще выпить! Хочу вина! Не буду уезжать!
– Франц, никто не пьет вино после водки, даже русские! – укоризненно произнес второй офицер.
– А я хочу вина! – снова заупрямился Франц.
Но вместо ответа друг силой запихнул его на заднее сиденье. Затем сел рядом. Дверца захлопнулась. Швейцар скрылся в дверях ресторана. Машина покатила вниз по Дерибасовской.
Но отъехала она недалеко. Взрыв, страшный, жуткий взрыв оглушил ночную улицу, ворвался в небо ярким сполохом жарко-алого пламени и тут же заполнил весь воздух грохотом разбитых стекол, железным скрежетом, людскими воплями…
Автомобиль, в котором ехали немцы, превратился в пылающий факел. Изнутри вдруг вывалилось человеческое тело, охваченное пламенем.
Человек со страшными воплями покатился по мостовой. В воздухе вдруг разлился жуткий запах горящей людской плоти. Было слышно, как в пламени лопается живая человеческая кожа… Вопли человека были страшными. Наконец он затих.
Абсолютно из всех заведений, расположенных на Дерибасовской, вывалились люди. А к месту страшного происшествия со всех ног бежали солдаты. Но было поздно. В темноте догорал остов автомобиля, и было абсолютно понятно, что люди, ехавшие в машине, мертвы. Двое офицеров и водитель-денщик стали пеплом.
Через два часа заведение, из которого вышли офицеры, было полностью оцеплено и обыскано. С особым пристрастием допрашивали швейцара. Избитый старик дрожал в директорском кабинете. Руки его были связаны за спинкой стула. Из разбитых губ сочилась кровь.
– Документы! Спрашиваю в последний раз! – Возвышавшийся над ним офицер закатал рукава мундира по локоть, чтобы было удобнее бить. – У него были в руках документы!
– Никаких документов, ваше благородие… – выл старик. – Богом клянусь, ни у одного, ни у другого никаких документов! Пьяны были очень. Хотели домой. А документов не было.
Размахнувшись, немец снова ударил старика. Голова его мотнулась в сторону, как у недорезанного цыпленка. Старик закричал.
– Не было документов! – повторял он снова и снова. – Не было! Христом-Богом клянусь, не было!
Откатав рукава мундира, офицер стукнул кулаком в дверь. На пороге тут же появились два автоматчика.
– Расстрелять, – кивнул в сторону старика офицер.
Несчастного выволокли. Минут через пять раздался выстрел, затем короткий вскрик. Потом снова выстрел. Офицер вышел из комнаты.
Персонал ресторана был выстроен прямо на Дерибасовской, перед входом. Офицер вышагивал вдоль шеренги дрожащих людей. Около 20 человек – официанты, повара, администратор, музыканты, несколько танцовщиц – стояли на морозе. Их вытолкали на улицу прямо из зала ресторана, не позволив одеться.
– Сегодня ночью погибли два немецких офицера, – на ломаном русском заговорил немец, – пропали важные документы. Офицеров сожгли. Поджигатель в вашем ресторане. Кто подложил взрывчатку? Пусть признается, все остальные будут жить.
Люди молчали. Женщины плакали.
– Расстрелять всех, – офицер кивнул солдатам и отошел в сторону.
Солдаты вскинули ружья. Раздалось несколько залпов. Окровавленные тела никто не стал убирать.
– Сжечь, – махнул рукой офицер.
Солдаты облили вход в ресторан бензином и подожгли. Над зданием вспыхнул оранжевый сноп пламени.
Глава 5
Ночь с 3 на 4 января, 1942 год, Одесса
Загудело, застонало в трубе, и дрова громко треснули. Пламя было жарким, норовило вырваться за пределы буржуйки, однако и оно не могло согреть. Ярко-оранжевые, с желто-красной каймой огненные языки охватывали, брали в плен почерневший металл, стремясь наружу. И казалось: стоит открыть дверцу буржуйки чуть пошире, и пламя вырвется наружу с бешеным воем и заполонит все вокруг.
Однако это было иллюзией. Дров было мало, и угля было мало, чтобы растопить ледяной холод этой застывшей комнаты, окна которой, плотно закрытые черной тканью, напоминали горные провалы в пропасть.
Натянув одеяло до подбородка, Крестовская вытянулась под тонким покровом, стараясь не прижиматься к стене. Ее била нервная дрожь, все тело ходило ходуном. И даже темнота казалась слишком яркой – на фоне мучительных мыслей, которые своими острыми лезвиями заживо сдирали с нее кожу.
Зина закусила губы давно, прикусила их до боли, и тоненькая капля совсем свежей крови скатилась по подбородку, просочилась на жесткую наволочку и застыла там. А за окнами бушевал ветер, и мороз рвал заледеневший, окровавленный город. И казалось, больше ничего нет в целом мире, ничего, кроме клочьев собственных мыслей, рвущихся в ее душе, как бомбы.
Треск раздался снова, дрова зашипели. Наверное, они были слишком сырыми. И поэтому треска, дыма, чада было больше, чем тепла.
Вздохнув, Бершадов встал с кровати – от жуткого холода он спал так же, как и Зина, не раздеваясь, и, присев на корточки, кочергой принялся ворочать дрова. Они рассыпались, продолжая гореть. Зина видела искры, вылетавшие из печки и гаснущие в воздухе прежде, чем долетали до половины. Все это могло бы быть уютным – ночь, мороз, печка, заменяющая камин, любимый мужчина, помешивающий дрова…
Но уюта не было. Над всем этим был только привкус крови и смерти – смесь, которую Зина научилась давно различать.
Помешав дрова, Бершадов поднялся, посмотрел на нее. Брови его сдвинулись, словно бы укоризненно. Затем, не говоря ни слова, подошел к буфету, налил стопку самогона, небольшая бутылка которого пряталась внутри, и резко, решительно протянул Крестовской:
– Пей!
– Я не хочу… – слабо запротестовала она, – я не могу… это не поможет.
– Пей, – Григорий решительно ткнул в нее рюмкой. – Так ты хотя бы сможешь говорить.
Протестовать не было сил. К тому же запах не показался Зине слишком уж отвратительным. Она решительно выпила. И сразу почувствовала, как по телу разлилось приятное тепло. Бершадов налил вторую рюмку, и Зина выпила снова. Тепло усилилось – настолько, что, высвободив руку из-под одеяла, дрожащими пальцами Крестовская провела по стене. Шероховатость бумажных обоев словно вернула ей ощущение реальности. Как в далекой жизни. Как в совсем чужом мире.
С Бершадовым они не виделись уже несколько дней. И Зина очень ждала его – без него она чувствовала себя совсем потерянной.
Постоянно думая о нем, Крестовская вспомнила, что последний раз они виделись еще до Нового года. Для нее это был первый Новый год, который совсем не был праздником. Она встречала его на рабочем месте, в кафе. Для клиентов кафе было закрыто. Но Михалыч накрыл небольшой стол – роскошный по тем временам: вареная картошка, соленые огурцы, свиные шкварки, кислая капуста, вареная курица, крепкий деревенский самогон. И так сидели они всю ночь – она, Михалыч, две сотрудницы кафе, его помощницы, и еще две торговки со Староконки, знакомые Михалыча, которым некуда было идти в эту ночь. Сидели до рассвета, пили самогон, плакали. Говорили о прошлом и снова плакали. Нет, это был не праздник. У всех было одно и то же ощущение – что присутствуют на похоронах. Но кого же они хоронили, по кому устраивали поминки? По прошлому миру, вообще по жизни? Или поминали себя?
А Зина думала о Бершадове. Она все время думала о нем – где он, кто с ним. Представляла его в сырых катакомбах, его внимательные и строгие глаза, блестевшие в полутьме. И оттого плакала гораздо горше, чем все остальные. Плакала, неспособная остановиться, признаться самой себе в том, что испытывает животный страх.