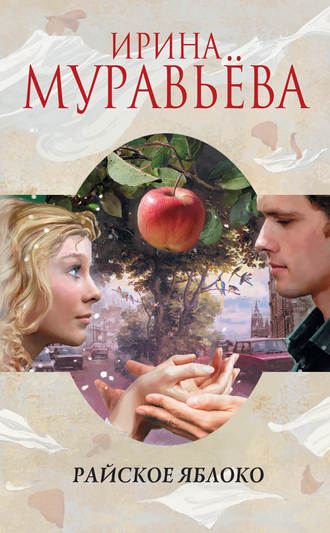
Райское яблоко
– Рассказать вам такое, о чем я, поверьте, ни разу… ни слова?..
И громко сглотнул.
– Расскажите, конечно.
Она была и смущена, и растеряна.
– Снимали на Кольском, – сказал он негромко. – Поехали летом. Я был в это время влюблен. Я любил. Любил больше жизни прекрасную женщину. В ее животе был наш общий ребенок. Она была замужем. Муж идиот. Тяжелый невротик, способный на многое. Художник, весьма неплохой, между прочим. Вы помните бабу в кокошнике, с ведрами? Так вот – это он. Не торгуясь купил. Он очень любил ее, а ведь все неврастеники устроены так: могут взять и зарезать. И мы с ней решили: родится ребенок, тогда мы и скажем. Пусть прежде родится. Я приторможу?
Зверев притормозил. Марина вздохнула от чистого сердца.
– Был ясный погожий денек. Синева. Простор, ни души. Заповедные земли. И тут наступил конец света.
Марина вдруг съежилась:
– Землетрясенье?
Он быстро взглянул на нее:
– Нет, похуже.
– Но хуже-то ничего не бывает, – сказала она, побелев в темноте.
– Не стоит нам сравнивать. Право, не стоит. У вас за спиною – одно, здесь – другое. Я помню все, все. До мельчайших подробностей.
Пошел крупный план, он заметно увлекся:
– Она напевала, готовила что-то. А я любовался. Живот ее был… Такой, словно купол небесный, на фоне огромного этого, синего озера. И вдруг все исчезло. Магнитная буря! Кругом темнота, дикий ветер и снег. Вернее, не снег. Все накрыло волною колючего острого льда. И ни зги. Тут я закричал, стал искать ее, шарить. Нащупал, нашел. Я схватил ее на руки и сразу пошел сам не знаю куда. Я нес ее в этом аду, шел и шел. Не знаю, как долго. Час, два. Шел и шел. Пока не свалился.
Марина в темноте дышала как козочка – нежным, молочным. Он вдруг замолчал. (Ведь дрянь-режиссер Параджанов! Ведь ноль! А как ведь пролез на своем колорите! Конечно: гранат. Спелый, сочный гранат. И каждое зернышко – цвета граната. И каждое зернышко – лучше отдельно… Сперва грызть и грызть, а потом проглотить… А съемку начать можно сценой купанья: бежит к воде в майке, и вся золотистая…)
– А что было дальше? – спросила Марина.
– Очнулся уже в вертолете. Нашли. Ну, терли меня, растирали, поили. Ее рядом не было. Я ее нес – умершую. С нашим умершим ребенком.
Марина заплакала. Он ее обнял.
К тому дню, когда произошла автомобильная авария и мальчика, сбитого машиной, в которой оказалась беременная женщина, уложили на носилки, – к тому дню любовная связь Марины с режиссером Зверевым насчитывала три года и три месяца. За все это время ей ни разу не пришло в голову, что история с магнитной бурей на Кольском полуострове была вычитана им в журнале «Вокруг света» и смело использовалась не один раз. Включались детали, включались подробности, которые сами себя обновляли и сами себя изнутри омывали, как вешние воды укромно лежащий и весь побелевший от времени камень.
Ему, волосатому дерзкому фавну, нужна была новая женская плоть. О девичьей не приходилось мечтать: откуда же в нашем столетии – девичья? И вдруг повезло. Да ведь как повезло! Он был ее первым мужчиной. Кому рассказать – не поверят, но факт. Никто до него не касался, не трогал. Он был удивлен, умилен, даже думал: возьму и женюсь! Будут только завидовать. Потом поостыл. Лучше пусть будет грех. Большой сильный грех, как пристало художнику. Такое подчас приходило на ум (ночами особенно!) – диву давался. Потел под пижамою, хоть выжимай. Прочел вот «Лолиту» и месяц глазел на маленьких школьниц. Потом испугался. У нас не Таиланд. У нас, слава богу, нормальная жизнь: без педофилии, без детского секса. Ему повезло, что он встретил Марину. С одной стороны, ведь подросток, дитя. Смеется по-детски, стесняется, плачет. С другой стороны, королева. Глаза! Глаза, как у серны. А ноги? А грудь? В коллекции женщин, которую он собирал по крупицам, Марина была самым крупным брильянтом, но фавну хотелось и мелких стекляшек, хотелось немножко запачкаться. Вот ведь! И после стыдливой Марины и глаз, в которых он просто тонул, шел на дно, приятно и в тине немного поплавать. С какой-нибудь рыженькой, хриплоголосой, какая сама с тебя стянет трусы, сама отхлебнет и винца из фужера, и после заснет у тебя на плече, дыша табаком тебе в самое ухо. Он был ненасытен, широк, плотояден. Стоял на своем, хоть ты режь его, хоть крутым кипятком поливай из ведра! Когда он со вздыбленной шерстью на теле крушил и кромсал тех, кто вздумал с ним спорить, то люди, поросшие жиденьким пухом в районе груди и обвислых подмышек, сдавались. Он был из породы отчаянно-крепких. Он был из глубинки и сам проложил дорогу наверх, на вершину в алмазах, и сам, увязая по пояс в грязи, скользя в ней, и падая, и матерясь, расселся, как молох, на этой вершине и ноги расставил, чтоб не свалиться.
Постепенно Марина его поняла. Да он ничего не скрывал. Его обаяние и заключалось отчасти в небрежности с женщинами. Он словно хотел отомстить им за то, что их было много, а он был один, и нету от них ни минуты покоя. С Мариной он долго терпел и старался ее не обидеть, насколько возможно. Ведь девочка! Просто как с неба свалилась. Наверное, от изумления фавн решился на смелый поступок – оформил Марину гримером на студию. И студия ахнула: чтобы любовницу, которая будет, конечно, следить за всеми его, так сказать, увлеченьями, вдруг взять и своими руками настолько приблизить к себе, к своей собственной жизни!
Незадолго до вечера, о котором сейчас пойдет речь, Марина получила водительские права и теперь ездила по городу на машине Ноны Георгиевны. Минут было сорок от «Аэропорта» к нему на «Таганскую». Она не сказала, не предупредила. Хотелось устроить приятный сюрприз: прийти и обед приготовить, прибрать. О, эта навязчивость любящей женщины! Ведь он объяснял ей: не нужно обедов. И влажной уборки в квартире не нужно. Придут из агентства, все сделают мигом. Она не послушалась, бедная дурочка.
На лифте написано: «Лифт отключен». Взлетела на пятый этаж, как пушинка. Никто не открыл. Она позвонила и долго держала свой тоненький палец на кнопке звонка. Его, значит, не было дома. Марина спустилась и села в машину.
И тут же работник искусства, любимый всем сердцем ее и всем телом, подъехал в такси. Он вылез, и следом за ним с такой миной, как будто ее каблуки примерзают к асфальту, хотя было лето и очень тепло, возникла совсем незнакомая женщина. Она была выше его, смугло-бледная, с большим и накрашенным ртом. Он сразу схватил ее под руку. На волосатом лице его с ярко вспыхивающими глазами она узнала то выражение веселого бешенства, которое появлялось у него всякий раз, когда Марина приходила к нему и он, открывая ей дверь, громыхая дверною цепочкой, ее раздевал. Не ждал ни секунды. Пока они, тесно обнявшись, спешили в его всегда темную спальню, и баба в лаптях недовольно смотрела на эту бесстыдницу из Еревана, пока они, словно слепые, валились – под хрипы его грудной клетки и клекот – на плед со следами пролитого кофе, Марина была уже голой и мокрой.
Когда эта женщина и режиссер исчезли в подъезде, ее не заметив, Марина лицом упала на руль. Глаза ее видели серый чехольчик и дырочку, выжженную сигаретой. Потом она перебежала дорогу и стала звонить ему из автомата.
– Алло, – ответил он пышным басом.
Наверное, он раздевал эту женщину. И баба в лаптях крепостным, терпеливым, по-русски загадочным взором смотрела на этот разврат.
– Ты дома? – спросила Марина.
– Я дома. Я жду сценариста, мы будем работать.
– Открой мне! – сказала Марина, заплакав. – Раз ты один, я же не помешаю?
– Сейчас не могу, очень много работы. – И трубку повесил, и не попрощался.
Она добиралась до дому весь вечер – плутала и путала улицы. Дома Агата купала больную хозяйку.
– Марина! Поди помоги мне, – сказала Агата, сморкаясь от пара в свой клетчатый фартук.
Она помогла. От тетки запахло печеной картошкой, а это был признак, что вымыли чисто.
Агата ушла, и Марина в красивой, измявшейся юбочке Ноны Георгиевны легла на диван и ладонями крепко зажала рот, чтобы не закричать. Утром она собрала в пластиковый мешочек все украшения, которые он подарил ей. Два тонких колечка, сережки, браслетик. Поехала на студию. Он был в кабинете, и дверь приоткрыта. Его золотые кудрявые волосы стояли над круглой большой головой, и сила была в каждом скрученном волосе. Марина с размаху швырнула мешочек. Хотела в лицо, но – увы – не попала.
– А я не успел позвонить, извини, – сказал он спокойно. – Опять оператор в запое, мерзавец. Не знаю, что делать.
– Не смей никогда мне звонить! Никогда.
Она захлебнулась. Он поднял мешочек и выбросил в мусор.
– Так будет надежней. Иди-ка ко мне.
Она подошла. Он быстро схватил, посадил на колени.
– Сиди и молчи! Ты следила за мной?
– Следила?
– А что тебя вдруг принесло?
И он, оттянувши назад ее голову, прижался смеющимся ртом к ее горлу. Она начала вырываться.
– Да тихо! – Он встал. – Я жду тебя в восемь.
– Не жди! Не приду!
– Придешь, моя радость. Ну, все, я работаю.
Приехала в восемь. Рыдала навзрыд, пока к нему ехала.
И так продолжалось не день и не два. Три года и целых три месяца. Весь ужас был в том, что любилатакого. Потом она просто махнула рукой. Решение тихо созрело само и вот дожидалось последнего срока, как плод, оттянувший высокую ветку, ждет ветра, который сорвет его наземь. Как только умрет тетя Нона, она тогда сразу покончит с собой. Иначе нельзя. Нельзя жить с позором, нельзя жить так грязно. Кому она будет нужна после Зверева? На ней же никто не захочет жениться.
Иногда Марина принималась успокаивать себя тем, что этот позор должен все же закончиться. И если появится вдруг человек, который полюбит ее итакую, она ничего и не станет скрывать, а сразу расскажет и все объяснит. Сама же во всем виновата, сама! Сама ведь приходит, сама подставляет себя его жадному рыжему рту, хохочет, и плачет, и дышит со свистом. Вот мама бы поглядела! Она бы тогда еще раз умерла.
Марина понимала, что они с мамой совсем не похожи на Нону Георгиевну.
Вечером, уложив тетку поудобнее, убавив свет в ее ночнике, Марина не сразу уходила к себе, а стояла и внимательно рассматривала хрупкое, почти бескостное тело, мягко очерченное под одеялом, и маленькое, но волевое лицо с сухими и сжатыми плотно губами. Морщинистые щеки Ноны Георгиевны вечерами принимали светло-сизый оттенок, напоминающий цвет блеклых осенних пашен, и, глядя на эти морщины и губы, Марина вспоминала, как Нона Георгиевна прилетела за ней в Ереван после маминой смерти. Она была собранной, сильной и властной.
– Теперь ты ей будешь как дочка, – шептали соседки. – Своих-то детей Бог не дал, ты вот будешь.
Но Нона Георгиевна не собиралась племянницу сделать зачем-то вдруг дочкой. Она выполняла свой долг, но и только. А все эти сентиментальные чувства – возникни они – ей бы очень мешали. Марина жила и училась в Москве, была и сыта, и одета-обута, ей дали возможность готовиться в вуз, о ней беспокоились. В меру, конечно. Во всем остальном продолжалась та жизнь, какая была до Марины. Такой вариант их обеих устраивал. Видя, как Нона Георгиевна готовится, например, к конференции, внимательно и спокойно глядя в раскрытые перед ней книги выпуклыми глазами, как она разговаривает с коллегами по работе или даже просто покупает на улице мороженое, Марина убеждалась, что существуют женщины, которым семья не нужна. Никакая. Представить себе Нону Георгиевну меняющей пеленки или напевающей колыбельную, представить ее торопливой, тревожной, испуганной, скажем, болезнью ребенка, заплаканной и бестолковой равнялось тому, чтоб слетать на Луну. Хотя… Ничего не известно заранее. Кто мог бы подумать, что Нону Георгиевну судьба обречет вскоре на неподвижность и этот особенно жуткий и странный, на чем-то всегда остановленный взгляд?
А Зверев Марине сочувствовал.
– И как ты, бедняжечка, это все терпишь?
– Что значит – терплю? Что же, мне ее бросить?
– А я бы, наверное, бросил, не смог. И черт с ней, с московской квартирой! Не смог бы!
– Я не за квартиру терплю.
– А за что?
Она раскрывала глаза:
– Ты ведь шутишь?
– Зачем мне шутить? Я ценю свою жизнь. Надеюсь на лучшее ей примененье. Возьму и сниму вон «Джульетту и духи»! И будет не хуже Феллини!
– А если с тобой рядом кто-то страдает?
– Ну, тут ничего не изменишь. Конечно, всегда рядом кто-то страдает. Поскольку помочь все равно не могу…
– А если с тобой тоже что-то случится и ты тоже будешь страдать?
– Нет, не буду. На это ты не рассчитывай, детка.
Пару раз она попыталась вырваться.
– Я больше к тебе никогда не вернусь. – И плакала горько, навзрыд.
– Ну, иди. Иди. Я тебя не держу, моя радость. Захочешь вернуться, звони на работу.
Она возвращалась, она приползала, и он багровел, и веселое бешенство опять загоралось на рыжем лице. И снова под взглядом крестьянки в лаптях они, спотыкаясь, шли в спальню, и снова внутри ее все раздвигалось, сочилось, как спелый гранат своим огненным соком.
Когда он в очередной раз не открыл ей дверь, а свет в его окнах горел и по шторе ползла, как змея, чья-то тонкая тень, она полетела по улицам, врезалась в машину, стоящую на светофоре, а та, в свою очередь, не удержалась и врезалась в ту, что была перед ней. Вокруг все столпились, завыла сирена.
Она поняла, что убила кого-то.
Глава седьмая
Страсть
Сначала он думал, ему ничего и не нужно – просто смотреть на нее. Если она говорила, что вечером будет дома и можно прийти к ней, он приходил в назначенный час, садился в столовой и ждал. Их жизнь была тихой, почти что бесшумной: Агата купала хозяйку, Марина ждала с простыней. Потом они тихо несли этот кокон с большими глазами и мраморной пяткой, всегда задевающей глухо за мебель, в просторную спальню и там еще долго возились, кряхтели, журча по-армянски. Он ждал. Они выходили, садились за стол. Еда была вкусной, совсем не похожей на ту, что готовили бабушка с мамой. За столом говорили мало, Агата сокрушалась, что Марина ничего не ест. Иногда Агата принималась расхваливать Алешу и говорила, что на месте его мамы она бы гордилась таким, как он, сыном. Алеша в ответ усмехался: в их доме гордились успехами папы на сцене. И больше ничем. Это было святыней. Марина жила в ожиданье звонка. Она замирала, когда ей мерещился звук телефона. Потом убеждалась в ошибке, бледнела и отодвигала тарелку. Вскоре уходила Агата – надевала длинное черное пальто, накидывала черный шарф на пышные волосы, и дверь за ней громко захлопывалась. И тут начиналось блаженство. Они вместе мыли посуду, ее вытирали и ставили в шкаф. Марина шла в спальню проведать больную, из спальни журчала смущенная струйка. И все затихало.
Она возвращалась, садилась с ногами опять на диван. В ее красоте была мягкая робость, какая бывает в щенках и котятах. И волосы чуть отливали лиловым, когда пробегал отсвет фар по лицу. Алеша острил, и Марина смеялась. Он стал остроумным. Что с ним происходит, он не понимал. Все краски и запахи стали другими. Дышать было трудно.
Иногда раздавался телефонный звонок. Марина, вскочив, хваталась за трубку. Алеша и не догадывался, что нужно для приличия выйти из комнаты. Он оставался сидеть, и она говорила, отвернувшись, приглушив голос. Разговор не продолжался больше трех-четырех минут. Она возвращалась с каким-то наивным, хотя тоже робким восторгом в глазах, который почти не пыталась и скрыть, но чаще бывало такое, что он ее не узнавал: Марина бледнела, закостеневала. Она его, кажется, даже не слышала. Тогда он вставал и прощался. Она шла до двери, трепала его по руке, но мука была в ее милом и робком, как будто присыпанном снегом лице.
И он убегал. Чтобы ночью во сне видеть это лицо. Отец бы, конечно, ему объяснил, что эта Марина давно уже взрослая, «живет», разумеется, с кем-то. С мужчиной. Не нужно соваться, Алеша, ты слышишь?
Но он не делился с отцом, он не мог. Однажды сказал, впрочем, Кольке Нефедову:
– Я женщину встретил.
– И что? Ты с ней спал? – спросил его грубо Нефедов.
– Как спал? – Он побагровел.
– Как все, – отмахнулся Нефедов. – Все спят.
– Кто все?
– Ну, не знаю! Наверное, кто-то и врет. Не поймешь.
– Да все они врут!
– Вряд ли все.
Нефедова надо убить, идиота. Мараться не стоит. Алешу трясло. Он всеэто знал. Вокруг все давно целовались и тискались. Да хоть бы и спали! При чем здесь Марина?
После этого разговора он перестал замечать Нефедова, но что-то в нем вдруг сорвалось. Он начал смотреть на Марину другими глазами.
Если бы он хоть на самую малость представлял себе, чем была ее жизнь! Он, может быть, даже ее пожалел. Но пытка, которую он выносил, и все в нем горело и все нарывало, ужасная пытка его подозрений, – она исключала все прочие чувства, а жалость – тем более. Когда он сидел рядом с ней, такой тихой, то ревность его иногда и слабела, как руки и ноги. И он уходил от нее, унося в той впадине мозга, в какую скатилась не нужная всем другим впадинам кровь и, загустевая все больше и больше, давила ему на глаза изнутри, – он там ощущал ее: женщину, женщину… И, мучимый воображением, тщетно пытался понять, как же это? Садится в машину и едет… К кому? Ичто он там с ней?
Иногда он диву давался, почему она позволяет ему чуть ли не каждый вечер вваливаться к ней в дом и допоздна сидеть, пожирая ее унаследованными от отца черными глазами, у которых нижние и верхние веки налезали на зрачки, отчего сами глаза казались узкими, почти азиатскими. Он не догадывался, что Марина схватилась за него, как провалившийся в прорубь человек, до крови царапая руки, хватается за острые края льда, и пальцы его примерзают, скользят, но это единственный шанс не уйти в глухую и черную воду, где звезды смешались с заснувшими рыбами, не кануть туда, в черноту, а вползти обратно на лед, чтобы жить и дышать.
У нее и раньше не было в Москве никого, кроме Ноны Георгиевны и Агаты, а теперь, когда появился Зверев, не было никого, кроме него. Вернее сказать, Нона Георгиевна была. Она то существовала в виде куколки, когда они с Агатой выносили ее из ванной, туго запеленутую в махровую простыню, то в виде худенького подростка с аккуратно расчесанными волосами на высохшей и неподвижной головке. И всякий раз, видя Марину, она принималась мычать.
Агата махала рукой:
– Что она понимает! Мычит – и мычит.
И тут же стирала слезу со щеки:
– А раньше какая была! Королева! Что слово, то целая книга! Какие советы давала! Мужчин всех вот так, как орехи, колола! Вот так!
Стучала ребром своей левой ладони по правой:
– И так! И вот так!
В половине десятого, закрыв за Агатой дверь, Марина входила в комнату тетки. Чаще всего в это время та еще не спала, а, лежа на спине, пальцами правой руки, унизанными серебром, перебирала складки на одеяле. Правая рука, хотя и с трудом, но немного работала. Марина обходила кровать и останавливалась у нее в ногах.
– Вам что-нибудь нужно?
Несмотря на то, что у Марины не было никого, кроме Ноны Георгиевны, Зверева и Агаты, она продолжала называть тетку на «вы», и что-то противилось в ней тому факту, что это родная сестра ее матери. Она ее, может быть, даже боялась. Хотя кого было бояться-то, Господи? У тетки со временем и не осталось почти человеческих черт. Она стала странно похожа на птицу, большую и голую птицу без перьев, которая смотрит во тьму, не мигая, и, может быть, видит в ней то, чего люди и птицы в богатом своем оперенье не видят и долго еще не увидят.
Нона Георгиевна с трудом приподнимала правую руку и пыталась придать ей указывающее на угол ее платяного шкафа положение. При этом мычала так громко, с таким словно даже отчаянием, что Марина начинала сомневаться в правоте Агаты, уверенной в том, что Нона Георгиевна ничего не понимает. Те усилия, каких стоили тетке эти беспомощные движения и мычание, – усилия, от которых ее маленький крутой синеватый лоб с приклеившимися к нему прядками волос покрывался бусинками мелкого пота, – доказывали обратное. Однако когда Марина подходила к шкафу и даже приоткрывала его дверцу, лицо Ноны Георгиевны наполнялось вдруг таким ужасом, словно на ее глазах готовилось убийство.
Не менее странные вещи происходили и в личной, любовной жизни Марины. Режиссер Зверев вдруг изменился. Он стал и добрее, и мягче. И это Марину пугало. Интуиция подсказывала, что дело не в ней и в их отношениях, а в чем-то другом, и теперь он скрывает не женщин случайных с их с яркими ртами, а может быть, даже болезнь. Кто знает? Не только Марина заметила, что у шумного и неуправляемого Зверева внезапно улучшился характер. Но он как-то странно, печально улучшился: глаза его стали несчастными. А не с чего было печалиться. Успех последнего фильма превзошел все ожидания. Зверев пошел, что называется, ва-банк: переплел злободневную чеченскую тему с темой трагической жизни первой русской эмиграции в Париже, но этого мало: обе эти мощные, но уже кое-кем и попользованные темы наложились на новаторски густо поданную историю из жизни юношества, так что в придачу к ним – на хемингуэевский лад – прозвучала и тема потерянного поколения.
А поскольку – и вряд ли кто скажет иное – основными чертами так называемого «элитарного сознания» являются все же банальность и серость, и эти же качества определяют сознание целых народов, хоть будь он богоносец, как русский народ, будь чинно-жестокий, как, скажем, немецкий, будь утонченный, но очень кровавый, – такой, как японский, – то очень понятно тогда, что фильм Зверева, где все было серым и очень банальным, и мелочным, и аккуратно продуманным (хотя и казалось мгновенно рожденным в его голове, будто там, под кудрями, вздымались громады серебряной пены, из коих, нагие, отчаянно-юные, одна за другою бежали находки большого художника, мысли и образы), понятно, почему именно этот фильм понравился в Каннах своей элитарностью. Если бы все это произошло месяц назад или два, бронзоволосый фавн, вероятно, так упивался бы, что все мостовые трещали бы в Каннах, но он хоть и был вроде очень польщен, но все же не так, как обычно. Глаза, – говорю вам, – глаза изменились! Как будто бы их изнутри погасили. С Мариной же был очень мил и заботлив. И страстен, но в меру и реже обычного. В понедельник вечером, например, у нее вдруг поднялась температура, разболелась голова, и она заснула прямо в его кровати, а он не стал будить ее, а осторожно предложил ей, сонной, выпить таблетку аспирина и сам, своими могучими руками, заварил ей крепкого чаю и поил бережно, по мелкой серебряной ложечке, пока не убедился, что температура спала, и только тогда, закутав как следует, отвез заболевшую к Ноне Георгиевне, а сам – уже ночью – вернулся домой.
Они по-прежнему встречались раз или два в неделю, и он, словно стремясь предупредить ее звонки, звонил сам, причем каждое утро, так что звонить вечером и не было надобности, а перед ее приходом заскакивал на рынок, и они готовили что-нибудь вкусное, в четыре руки вместе жарили-парили, и пахло не только в квартире, но и на лестничной клетке. Из-за этих кулинарных праздников сами свидания их стали короче, бледнее, на постель часто даже не оставалось времени, но Зверев, который, бывало, дрожал, встречая ее на пороге, и тут же волок в свою спальню, перестал обращать на это внимание, словно просто потолкаться рядом с Мариной у плиты и съесть с ней на ужин рагу из барашка – такая же радость, как все остальное.
Пару раз за это время он отлучался в какие-то командировки, а съемочная группа оставалась в Москве. Их отношения с Мариной ни для кого на студии не были секретом, но она так и не стала своей в этом дружном и честолюбивом коллективе, ее молчаливая замкнутость и врожденная стыдливость, которые в свое время так привлекли всеядного режиссера, образовали вокруг Марины какую-то словно зеленую изгородь, как это бывает в саду, там, где роза особенно редкой и хрупкой породы обносится плотной посадкой кустарника. Дружный и честолюбивый коллектив знал или догадывался о чем-то, о чем не догадывалась она, но все, затаившись, молчали и даже с несвойственной им деликатностью, встречаясь с ее вопросительным взглядом, быстрей отводили глаза. Она и сама проклинала себя за этот нелепый неженский характер и, зажимая рот руками, чтобы не слышала тетка, рыдала ночами в подушку, но мама, которая очень давно умерла, садилась с ней рядом, ее обнимала, и плакали обе. Бывает и так. Все бывает.
Глава восьмая
Режиссер Зверев
Между тем именно сейчас Зверев и переживал свой подлинный звездный час. От этого, может быть, так изменились глаза его и поведение в целом. Острота именно этого звездного часа состояла в том, что там, где обрывалось все, что было связано с событиями, приведшими режиссера Зверева к новым ощущениям, он чувствовал словно бы как бахрому морского прибоя, и это она – вся из пузырьков, из каких-то лохмотьев – чертила границу между новой жизнью и всем остальным. Догадаться, что режиссер Зверев встретил очередную женщину, было так же нетрудно, как, выйдя на улицу и убедившись, что все расцвело, сообщить окружающим, что вот: наступила весна.

